ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 6 страница
Торжество номинализма означало бы устранение всей христианской догматики, ниспровержение всего догматического богословия с присущими ему периодами патристики и схоластики. Согласно Г.К. Честертону, сомнение номинализма было гораздо глубже, чем сомнение атеизма, поскольку он разрушал само понимание бытия как Слова. Как существо не только физическое, но и метафизическое, человек в значительной мере «строит» себя в языке и с помощью языка. Однако, если построение человеком слова не соотносится никак со вселенским порядком вещей, тогда слово лишается не только всякого сакрального значения, но и общего, а также общинного смысла. Невозможным оказывается само христианское вероучение. И все же вовсе не номинализм завершает драму понимания бытия-как-слова, а «поэтика веры» Данте, его поэтическое слово. Все наличное в мире существует как уже более или менее 
 осмысленное, как уже так или иначе оговоренное; и постигаемое в сфере человеческой деятельности, понимаемой в самом широком смысле, оно именно в этой сфере становится тем, что оно есть. «Это "что", именуемое словом и осмысляемое также с помощью слов, само способно собирать в себе человеческие смыслы и, собирая их в себе, быть обращенным к человеку голосом, или окликанием, или даже словом - в их молчании, в их немолствовании» (Михайлов А.В. Вместо предисловия // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М: Гнозис, 1993. С. XII). Подлинно поэтическое слово преодолевает всякую многословную обстоятельность, наделяя мироздание и все в нем сущее всегда новым звучанием. Поэтическая «инако-вость» преобразует все замысловатое и уже давно замутненное в нечто простое для восприятия и прозрачное для понимания. Христианское мировосприятие, осложненное и затемненное мистическими экстазисами и схоластическими рассуждениями, включающими в себя изощренные толкования, весьма тонкие дистинкции и всевозможные дефиниции, утрачивало уже не столько надлежащий смысл, сколько саму по себе мысль, которая своей жизнью живет и приобщает к себе человеческий разум в его теологическом, философском, поэтическом и других различных измерениях. Речь идет не о мысли, которая принадлежит тому или иному ученому, теологу, философу и так далее, а о мысли как таковой, которая уже настолько осложнена, запутана или просто забыта начисто, что требуется какой-то этап ее продумывания и вместе с тем возрождения. Мысль сама по себе, обремененная длительным историческим временем ее развертывания и истолкования, временем, получившим название «средних веков», эта мысль на ее весьма сложном пути понимания бытия как слова, будучи уже затемненной и запутанной, сбившейся со своего пути в осмысленный и обжитый мир, взывала к поэтическому слову Данте, требовала своего особенного приобщения к поэзии. Мысль вынуждена стремиться к тому, чтобы обрести поэтическое измерение, в силу которого и благодаря которому она возрождалась, припоминалась во всей своей жизненной глубине и возвращалась к своим истокам ради сохранения своего личностно-действенного смысла.
осмысленное, как уже так или иначе оговоренное; и постигаемое в сфере человеческой деятельности, понимаемой в самом широком смысле, оно именно в этой сфере становится тем, что оно есть. «Это "что", именуемое словом и осмысляемое также с помощью слов, само способно собирать в себе человеческие смыслы и, собирая их в себе, быть обращенным к человеку голосом, или окликанием, или даже словом - в их молчании, в их немолствовании» (Михайлов А.В. Вместо предисловия // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М: Гнозис, 1993. С. XII). Подлинно поэтическое слово преодолевает всякую многословную обстоятельность, наделяя мироздание и все в нем сущее всегда новым звучанием. Поэтическая «инако-вость» преобразует все замысловатое и уже давно замутненное в нечто простое для восприятия и прозрачное для понимания. Христианское мировосприятие, осложненное и затемненное мистическими экстазисами и схоластическими рассуждениями, включающими в себя изощренные толкования, весьма тонкие дистинкции и всевозможные дефиниции, утрачивало уже не столько надлежащий смысл, сколько саму по себе мысль, которая своей жизнью живет и приобщает к себе человеческий разум в его теологическом, философском, поэтическом и других различных измерениях. Речь идет не о мысли, которая принадлежит тому или иному ученому, теологу, философу и так далее, а о мысли как таковой, которая уже настолько осложнена, запутана или просто забыта начисто, что требуется какой-то этап ее продумывания и вместе с тем возрождения. Мысль сама по себе, обремененная длительным историческим временем ее развертывания и истолкования, временем, получившим название «средних веков», эта мысль на ее весьма сложном пути понимания бытия как слова, будучи уже затемненной и запутанной, сбившейся со своего пути в осмысленный и обжитый мир, взывала к поэтическому слову Данте, требовала своего особенного приобщения к поэзии. Мысль вынуждена стремиться к тому, чтобы обрести поэтическое измерение, в силу которого и благодаря которому она возрождалась, припоминалась во всей своей жизненной глубине и возвращалась к своим истокам ради сохранения своего личностно-действенного смысла.
|
|
|
|
|
|
Поэтическое слово Данте завершает одну эпоху и начинает уже другую, которая в исторической реальности человека получает название «Возрождение». Ум и душа человека в его поэтическом слове делают, согласно мыслям Я. Буркхардта, «громадный шаг к познанию своей сокровеннейшей жизни». «Божественная комедия» -это не есть просто «поэтическая Сумма» средневекового знания, а новый эпос человеческого бытия с безграничными его возможностями и губительными для него раздорами. Сражение есть основное действие в эпосе Гомера и Вергилия, а в эпосе Данте главное - это процессия. Распыленный и рассеянный во времени мир, то есть вся историческая реальность человеческого существа, собирается в «поэтическом логосе» Данте и проходит перед ним в своей трагической неизбывности торжественно-величавой поступью. И здесь важно отметить и разъяснить следующее. Поэтическое слово Данте было в начале эпохи Возрождения. Всякое слово, будь то слово обычного языка или слово веры и мысли, направленное на те или иные вещи или события, сталкивается прежде всего с такой реальностью, которая уже как-то оговорена, оспорена и пронизана непререкаемыми или неоднозначными оценками. В языке любое слово уже отмечено различными точками зрения, пронизано общими мыслями и смыслами, акцентами и оценками. Новое смысловое слово формируется в диалогически напряженной атмосфере чужих акцентов, слов и оценок, то есть в определенном социально-историческом контексте сознания, которое уже определило и оговорило все известные вещи и события. Идея возвращения к самой по себе реальности, к чисто чувственному восприятию, переживанию и возможному последующему осмыслению всегда предполагает столкновение с оговоренностью всего сущего и происходящего. Пробиваясь к своей настроенности и экспрессии, к своему собственному смыслу, поэтическое слово в такого рода диалогическом процессе всегда имеет возможность оформлять свою интонацию и стилистический облик. Слово в поэтическом «эйдосе» погружается в еще ни кем не сказанную природу тех или иных событий, «оно ничего не предполагает за пределами своего контекста», «оно забывает историю противоречивого словесного осознания своего предмета и столь же разноречивое настоящее этого осознания» (Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975, С. 91). Слово в его поэтическом измерении погружается в девственную полноту смысла и в неисчерпаемую глубину реальности как таковой. И все же поэтический образ внутренне всегда диалогичен, поскольку в многоосмысленности его «диалектика предмета сплетается с социальным диалогом вокруг него» (Там же, с. 92). Само собой разумеется, что слово в поэзии 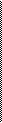 слагается в атмосфере уже сказанного; но оно «в то же время определяется еще не сказанным», однако «вынуждаемым и уже предвосхищаемым ответным словом» (Там же, с. 93). Поэтическое слово имеет свое особенное экспрессивное и смысловое самодовление, поэтому оно оформляется в своем собственном кругозоре и контексте. Художественное сознание, прежде всего в поэзии, стремится обрести всецело имманентный ему язык, в котором оно способно выражать себя непосредственно, без всяких оговорок, без всякого отстранения и дистанцирования. Каждое слово и любое образно-смысловое и символическое выражение поэт использует в своем языке без кавычек, то есть по их прямому назначению для непосредственного осуществления своего более или менее определенного замысла. Сколько бы конфликтов и противоречий поэт ни раскрывал бы в своем «переименовании» реальности, тем не менее, мир подлинной поэзии всегда освещается единым словом, совершенно непререкаемым словом. Поэзия, будучи всегда как бы исходным именованием всего сущего, видит, мыслит и переживает во внутренней форме слова, во внутренней форме своего и только ей присущего языка. Поскольку поэзия довлеет одному и всегда единственному языку, постольку поэт несет прямую ответственность не просто за те или иные свои вирши, а за язык своего произведения в целом, то есть за свой собственный язык, причем не только в смысле определенного мировосприятия, но и в плане основного измерения человеческого бытия-в-мире. Подлинная поэзия, как и фундаментальная мысль, обретают свой язык только изнутри, то есть в своей собственной интенциальной работе, а не извне, когда имеет место объективирование, когда язык дается «в своей объективной специфичности и ограниченности» (Там же, с. 99). Фундаментальная мысль, будучи не только осмыслением, но и поэтизацией реальности как таковой, то есть ее переименованием и как бы всегда изначальным именованием всего сущего, довлеет одному непосредственно интенциальному языку. Поэтому «идея особого единого и единственного языка поэзии - характерная утопическая философема поэтического слова: в основе ее лежат реальные условия и требования поэтического стиля, довлеющего одному прямо интенциальному языку, с точки зрения которого другие языки (разговорный язык, деловой, прозаический и др.) воспринимаются как объектные и ему ни в какой степени не равные» (Там же, с. 101),
слагается в атмосфере уже сказанного; но оно «в то же время определяется еще не сказанным», однако «вынуждаемым и уже предвосхищаемым ответным словом» (Там же, с. 93). Поэтическое слово имеет свое особенное экспрессивное и смысловое самодовление, поэтому оно оформляется в своем собственном кругозоре и контексте. Художественное сознание, прежде всего в поэзии, стремится обрести всецело имманентный ему язык, в котором оно способно выражать себя непосредственно, без всяких оговорок, без всякого отстранения и дистанцирования. Каждое слово и любое образно-смысловое и символическое выражение поэт использует в своем языке без кавычек, то есть по их прямому назначению для непосредственного осуществления своего более или менее определенного замысла. Сколько бы конфликтов и противоречий поэт ни раскрывал бы в своем «переименовании» реальности, тем не менее, мир подлинной поэзии всегда освещается единым словом, совершенно непререкаемым словом. Поэзия, будучи всегда как бы исходным именованием всего сущего, видит, мыслит и переживает во внутренней форме слова, во внутренней форме своего и только ей присущего языка. Поскольку поэзия довлеет одному и всегда единственному языку, постольку поэт несет прямую ответственность не просто за те или иные свои вирши, а за язык своего произведения в целом, то есть за свой собственный язык, причем не только в смысле определенного мировосприятия, но и в плане основного измерения человеческого бытия-в-мире. Подлинная поэзия, как и фундаментальная мысль, обретают свой язык только изнутри, то есть в своей собственной интенциальной работе, а не извне, когда имеет место объективирование, когда язык дается «в своей объективной специфичности и ограниченности» (Там же, с. 99). Фундаментальная мысль, будучи не только осмыслением, но и поэтизацией реальности как таковой, то есть ее переименованием и как бы всегда изначальным именованием всего сущего, довлеет одному непосредственно интенциальному языку. Поэтому «идея особого единого и единственного языка поэзии - характерная утопическая философема поэтического слова: в основе ее лежат реальные условия и требования поэтического стиля, довлеющего одному прямо интенциальному языку, с точки зрения которого другие языки (разговорный язык, деловой, прозаический и др.) воспринимаются как объектные и ему ни в какой степени не равные» (Там же, с. 101),
|
|
|
|
|
|
Средневековая латынь рассматривала различные народные языки как объектные и ни в какой степени ему не равные. Но в непрестанно изменчивой стихии народных говоров Данте создает язык нового художественного сознания, которое в прекрасном поэтическом стиле охватывает и объединяет земное и небесное, телесное и духовное, человеческое и божественное. Средневековое сознание оказывалось изначально теоцентричным, и оно являлось в весьма важных своих измерениях, по выражению Гегеля, «несчастным сознанием», поскольку Бог как бесконечная и абсолютная полнота бытия трансцендентен сотворенному миру и человеку; то есть будучи в полной зависимости от Бога мир и человек не имеют собственного самостояния. Мир в средневековом сознании предстает как арена постоянных столкновений между Богом и дьяволом, духом и плотью, между сугубо земными устремлениями и небесным планом бытия. Поскольку и в душе человека проходит граница между этими несовместимыми «реалиями», постольку высоким считался стиль трагедии, призванный выражать движения и стремления к высшим духовным смыслам, тогда как комическое связывалось, как правило, с народной смеховой культурой, имеющей сугубо «низовой» характер. Комический стиль не включал в свою сферу мир трансцендентных сущностей. В «Божественной комедии» Данте объединяет трагический стиль и комический в едином поэтическом языке. Не теолог или философ, а поэт Вергилий сопровождает Данте по всем кругам ада, а уже в последней глубине преисподней проходил прямой путь к Богу.
В конце средних веков появляются особого рода произведения, энциклопедические по своему содержанию и построенные в форме «видений». В силу исключительного влияния средневековой иерархической вертикали весь пространственно-временной мир подвергается символическому изображению и осмыслению, поэтому в такого рода видении реальное время исключается. В «Божественной комедии» Данте реальное время видения соотносится с определенным моментом биографического времени, то есть со временем человеческой жизни, и с историческим временем, но в любом случае реальное временное измерение упраздняется его чисто символическим характером. Как образы людей и вещей, так и образы действий и событий, то есть все пространственно-временное, получают у Данте аллегорически-символическое выражение. Самое замечательное в этом произведении Данте заключается в том, что воснове его «лежит очень острое ощущение противоречий эпохи как вполне созревших и, в сущности, ощущение конца эпохи. Этот синтез требует, чтобы в произведении было с известной полнотой представлено все противоречивое многообразие эпохи. И это противоречивое многообразие должно быть сопоставлено и показано в разрезе одного момента» (Там же, с. 306). Противоречивое многообразие, получившее выражение в поэтическом слове Данте, по сути своей глубоко исторично. Он строит гениальное пластическое изображение мира, «напряженно живущего и движущегося по вертикали вверх и вниз: девять кругов ада ниже земли, над ними семь кругов чистилища, над ними десять небес. Грубая материальность людей и вещей внизу и только свет и голос вверху. Временная логика этого вертикального мира - чистая одновременность всего...». Все то, что в условиях земного существования разделено на «раньше» и «позже», вносимое временем, определенными историческими периодами, все эти разделения во времени оказываются несущественными, чтобы увидеть и понять весь мир в разрезе одного момента, то есть как мир, собранный и восстановленный в целом в одном и едином времени, и это уже есть весь мир как одновременный. «Только в чистой одновременности или, что то же самое, во вневременное может раскрыться истинный смысл того, что было, что есть и что будет, ибо то, что разделяло их, - время, - лишено подлинной реальности и осмысливающей силы. Сделать разновременное единовременным, а все временно-исторические разделения и связи заменить чисто смысловыми, временно-иерархическими разделениями и связями - таково формообразующее устремление Данте, определившее построение образа мира по чистой вертикали» (Там же, с. 307). Имеет место противоречие «между формообразующим принципом целого и исторически-временной формой определенных образов», но побеждает форма целого, вертикальное построение мира, стремление преодолеть исторические несогласия, противоречия во вневременном смысле «потусторонней вертикали». Все сущностное и существенное может быть одновременным. Отсюда отрицание осмысливающей силы любых временных разделений, любых «раньше» и «позже», и в силу этого обстоятельства «неприятие исторической "заочности" осмысливания», то есть «попытка раскрыть мир в разрезе чистой одновременности и сосуществования» (Там же, с. 308). Идеи и образы, наполняющие «средневековую вертикаль» мира, в поэтическом слове Данте обретают стремление вырваться из вертикального мира, чтобы «выйти на продуктивную историческую горизонталь, расположиться не по направлению вверх, а вперед. Каждый образ полон исторической потенцией и потому всем существом своим тяготеет к участию в историческом событии во временно-историческом хронотопе» (Там же, с. 307).
Целое столетие, то есть от середины XII и до XIV века, поэзия подчиняла своему стилю и настрою итальянскую словесность в целом. В Священном Писании в этот период внимали, казалось бы, уже забытой поэтической речи. Поэтическое слово, присутствующее весомо в мире, осознавало свою таинственную связь с творящим Словом, с тем «Словом, которое было в начале» и о котором говорила религия. Философская поэзия обнаруживала свою интимную близость с пониманием бытия как слова. Петрарка постоянно подчеркивал, что истина поэзии как таковой сродни христианской правде, поэтому «скреплены поэтической известью» труды Амвросия и Августина, Иеронима и Лактация, тогда как «почти никто из еретиков не допустил ничего поэтического в свои сочинения» (Инвектива III). «Горение (fervor) души, как определял поэзию Боккаччо, было своего рода новым благочестием, в котором философское смирение сочеталось с чувством первородства, не признающего над собой другого человеческого авторитета» (Бибихин В.В, Новый Ренессанс. М., 1998. С. 349). В ренессансное понимание, прежде всего поэтического языка, Николай Кузанский вкладывает следующую формулу: «Все, что может быть сказано, есть лишь то первое Слово» (Компендий 7, 20). В сфере поэтического слова, само собой разумеется, мы не столько пользуемся языком как средством сохранения, обмена и передачи той или иной информации, сколько живем в его стихии; мы не столько имеем язык как «инструмент» общения, как средство выражения мыслей, эмоций и переживаний, сколько пребываем в нем, коль скоро владеть мы можем только иностранным языком, тогда как в родном языке человек просто-напросто живет. В какой мере язык есть априорное условие актов говорения и видения, актов понимания и мышления, в той же самой мере язык индуцируется и развивается как раз этими актами. В грамматическом измерении языка вещи суть подлежащее, для которого все остальное является сказуемым; вещи суть местоимения, то есть имена дают место вещам во все охватывающем мироздании. До середины XIV столетия поэзия определяла итальянскую словесность, но далее, как говорит Б. Кроче, началось «столетие без поэзии». Затем словесность подчиняется уже риторике, филологии и комментарию. Продолжается «переименование» реальности, но уже в иных способах осмысления мира как такового. Риторика и живопись развивались почти параллельно. Петрарка, а вслед за ним и другие гуманисты избрали своим «вождем» и кумиром Цицерона.
Цицерон не просто подчинял философию нуждам риторики, он скорее использовал ее в сугубо риторической установке ума. Греки создали парадигму культуры, которая была обязательной в эпоху эллинизма и оставалась значимой не только для средних веков, но и для Ренессанса. Все измерения исходили из этой парадигмы, с ней соотносились и постоянно соизмерялись. Еще в софистике философия и риторика являли собой неразделимое единство, но они как раз поэтому непрерывно ссорились, поскольку каждая из них «стремилась восстановить нераздельность мысли и слова, истины и убедительности на своей собственной основе, то есть поглотить свою соперницу и вобрать ее в себя».Философия претендовала на то, что именно она есть истинное и подлинное красноречие, тогда как риторика заявляла, что только она способна быть надлежащей и практически действенной мудростью. Аристотель приравнивает риторику к тому, что он называет диалектикой. А для Цицерона подлинный оратор как раз и есть настоящий философ. И философия, и риторика с равным успехом провозглашали себя основным и единственным принципом пайдейи. Эта двойственность была заложена в саму основу созданной греками «пайдейи», и она постоянно возрождалась на протяжении многих столетий. Однако изобразительное искусство греки вовсе не стремились включать в понятие своей пайдейи. Согласно Платону, «пайдейя» означает перемену, которая касается самого бытия человека и происходит в основе всего его существа. К этому пониманию подходит слово «образование», но суть его вовсе не в том, чтобы «загрузить неподготовленную душу голыми знаниями, словно первый попавшийся пустой сосуд». Речь идет прежде всего о развертывании «эйдоса», уже заложенного в человеческом существе, поэтому образование имеет смысл развертывающего формирования, которое все время исходит из предвосхищающего соизмерения с неким определяющим видом, имеющим характер пра-образа. «Подлинное образование... захватывает и изменяет саму душу, и в целом, перемещая сперва человека в место его существа и приучая к нему» (Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Время и бытие: статьи и выступления. Республика, 1993. С. 350). Природа человека, изначально присущий ему «вид», имеющий смысл эйдоса, или идеи, определяет место человека в круге всего сущего. Обычно человек полагает, что он непосредственно воспринимает собственно все действительное, то есть напрямую видимое, слышимое и осязаемое. Он думает, что он прямо видит тот или иной «вид» вещей или живых существ, «эйдос» людей, чисел и богов. «Ближайшим образом и большей частью человек совсем не подозревает, что все почитаемое им со всей привычностью за "действительность" он всегда видит только в свете "идей"». Однако принимаемое обычно за действительное «оказывается, по Платону, всегда лишь отпечатлением идей и тем самым тенью. Оно, ближайшее и все же остающееся тенью, изо дня в день держит человека на привязи. Он живет в плену и оставляет все "идеи" за спиной. И поскольку он даже не опознает это пленение,., то он принимает этот круг повседневности под небесным сводом за пространство постижения и суждения, которое только и задает меру, только и служит упорядочивающим законодательством для всех вещей и отношений» (Там же, с. 348).
Человек со своими обычными и привычными взглядами, являясь необразованным, считает совершенно естественным свое местопребывание внутри пещеры, в которой игру теней от передвигаемых за его спиной вещей он принимает за нерушимый и истинный порядок всего сущего. «Притча о пещере» в начале VII книги «Государства» наглядно изображает подлинное существо греческой пайдейи. «Пещерный» человек выпадает не только из состояния сущностного знания, он оказывается не только вне действия истины как таковой, коль скоро «образование» и «истина», то есть пайдейя и алетейя, неразделимы в их сущностном единстве; он оказывается лишенным своего подлинного бытия, основы своего собственного существа. Он скован цепями в пещерном местопребывании, поэтому не имеет своего надлежащего места «на воле». Только будучи освобожденным от оков «пещерного» пребывания он выходит на  свободный простор, где способен обретать достойное его сущности место, в котором он получает возможность формировать и «образовывать» самого себя, но уже на просторе светлого и солнечного дня. Другими словами, в сиянии зримого уже здесь солнца человек с помощью и благодаря существу пайдейи обретает сокровенное и надлежащее ему место в обязывающей несомненности светлого и лучезарного мира, в котором вещи сами себя являют в обязательности и связности своего собственного вида. «Кто должен и хочет действовать в определяемом "идеей" мире, нуждается прежде всего в видении идеи. В том и состоит существо пайдейи, чтобы сделать людей свободными и твердыми для ясной устойчивости видения сущности. Поскольку же, по собственному толкованию Платона, "притча о пещере" призвана наглядно изобразить существо пайдейи, поскольку он должен рассказать о восхождении к утверждению высшей идеи» (Там же, с. 356-357). Изобразительное искусство, включая поэзию, Платон исключал из понятия своей пайдейи, поскольку это искусство всегда есть лишь отпечатление идеи, имеющее в силу данного обстоятельства только «теневой» характер и соответствующее всего лишь «пещерному» человеку, его «пещерному» местопребыванию. Есть другая мудрость в отличие от той, которая господствует в пещере. Эта другая софия нацелена прежде всего на то, чтобы усмотреть в «идеях» истину и бытие сущего. «Эта софия в отличие от той, в пещере, отмечена стремлением достичь за пределами ближайшего присутствующего в самопоказывающем устойчивом. Эта софия сама по себе есть привязанность и дружеское расположение (филия) к "идеям", порождающим непотаенность. София вне пещеры есть Фило-софия» (Там же, с. 359).
свободный простор, где способен обретать достойное его сущности место, в котором он получает возможность формировать и «образовывать» самого себя, но уже на просторе светлого и солнечного дня. Другими словами, в сиянии зримого уже здесь солнца человек с помощью и благодаря существу пайдейи обретает сокровенное и надлежащее ему место в обязывающей несомненности светлого и лучезарного мира, в котором вещи сами себя являют в обязательности и связности своего собственного вида. «Кто должен и хочет действовать в определяемом "идеей" мире, нуждается прежде всего в видении идеи. В том и состоит существо пайдейи, чтобы сделать людей свободными и твердыми для ясной устойчивости видения сущности. Поскольку же, по собственному толкованию Платона, "притча о пещере" призвана наглядно изобразить существо пайдейи, поскольку он должен рассказать о восхождении к утверждению высшей идеи» (Там же, с. 356-357). Изобразительное искусство, включая поэзию, Платон исключал из понятия своей пайдейи, поскольку это искусство всегда есть лишь отпечатление идеи, имеющее в силу данного обстоятельства только «теневой» характер и соответствующее всего лишь «пещерному» человеку, его «пещерному» местопребыванию. Есть другая мудрость в отличие от той, которая господствует в пещере. Эта другая софия нацелена прежде всего на то, чтобы усмотреть в «идеях» истину и бытие сущего. «Эта софия в отличие от той, в пещере, отмечена стремлением достичь за пределами ближайшего присутствующего в самопоказывающем устойчивом. Эта софия сама по себе есть привязанность и дружеское расположение (филия) к "идеям", порождающим непотаенность. София вне пещеры есть Фило-софия» (Там же, с. 359).
Дата добавления: 2021-04-05; просмотров: 56; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
