ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 9 страница
Выясняя религиозно-философские основания ренессансного изобразительного искусства, важно обратить внимание на следующие размышления М. Хайдеггера: «Все искусство - дающее пребывать истине сущего как такового - в своем существе есть поэзия… Поэтическая сущность такова, что искусство раскидывает посреди сущего открытое место, и в этой открытости все является совсем иным, необычным». «Но поэзия - это не бескрайне растекающееся измысливание всего произвольного и не ускользание воображения и представления в пределы недействительного. Вся та несокрытость, какую развертывает и раскладывает поэзия как просветляющий набросок, вся та несокрытость, какую поэзия с самого начала вбрасывает внутрь разрыва устойчивого облика, - это открытость, которой поэзия дает совершиться, притом так, что открытость только теперь, обретаясь среди сущего, приводит все это сущее к свечению и к звону» (Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 1993. С. 102-103). М. Хайдеггер далее продолжает: «Если все искусство по своей сущности - это поэзия, то тогда все искусства, зодчество, живопись, музыку, надлежит сводить к поэзии, то есть к искусству слова. А это чистейший произвол, однако лишь до тех пор, пока мы полагаем, что названные искусства суть разновидности одного искусства слова, если только допустимо характеризовать поэзию таким наименованием, вызывающим недоразумения.
Но поэзия в этом смысле есть только один из способов просветляющего набрасывания истины, то есть поэзии в более широком смысле. Тем не менее творение языка, поэзия в узком смысле слова, занимает выдающееся место среди искусств» (Там же, с. 103).
|
|
|
Данное рассуждение следует обязательно прояснить. Мы нередко говорим о языке живописи, поэзии и архитектуры, о языке музыки и о языке художественных творений вообще. Когда речь идет о сущности искусства, тогда, как правило, говорят о переживании и воздействии художественных произведений, о пользовании и наслаждении искусством. Постижение искусства именуют эстетическим, поскольку эстетика воспринимает художественное творение как предмет чувственного восприятия. Эстетическое постижение искусства рассматривает художественное произведение в его воздействии на человека и на его жизненный опыт. Произведение искусства выступа 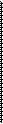
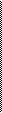
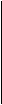 ет тогда как продукт такого творчества, которое снова выражает так называемое «жизненное убеждение». Произведение понимается как «объект» или «продукт» творческого или подражательного опыта. Эстетическая позиция по отношению к искусству возникает в тот момент, когда истина понимается уже как правильность. Поэтому говорят о правильности восприятия, суждения и представления. После Платона и Аристотеля все экспликации сущности искусства, как и историографии искусства, имеют эстетический характер. При эстетическом подходе начинают определять различные виды искусства. Само искусство понимается тогда как образование, формирование и творение произведения из некоторого материала. Архитектура и скульптура используют камень, дерево, металл и краску; музыка использует тона и звуки, а поэзия - слова. Возникает убеждение, что благодаря своему прочному материалу архитектура и скульптура уже не зависимы от мимолетного дыхания быстро увядающего слова, причем нередко двусмысленного слова. В отличие от поэзии архитектура, скульптура и живопись как бы вовсе не нуждаются в слове. Поэтому исходя из концепции видов искусства они устанавливают непреодолимые границы для поэтического слова. Такое воззрение является сугубо эстетическим, поскольку оно уделяет значительное внимание материалу того или иного произведения. Ясно, что сущее для греков является в своей сущности и в своем бытии не только в слове, но также, причем в равной степени, и в скульптуре. В этой связи говорят о присущем грекам пластическом мировосприятии. Однако если божественное в греческом смысле есть как раз само бытие, зримое во всем обычном и привычном, если божественная сущность являема грекам в архитектуре их храмов и в скульптуре их статуй, то как быть тогда с утверждаемым приоритетом слова и, соответственно, с приоритетом поэтизирующего мышления? Не есть ли тогда архитектура и скульптура для греков по отношению к божественному точно такого же ранга или даже более высшего, чем поэзия и мышление? Традиционным до сих пор является понимание греческого мира на основе архитектуры и скульптуры. В силу этого обстоятельства, когда мы размышляем о сущности божественного и о богах в греческом мире, мы неизбежно сталкиваемся с отношением между видами искусства, то есть архитектурой, скульптурой и поэзией. Но важно понять сущность искусства не как «выражение» и «свидетельство» творческого потенциала человека или культуры в целом, а как раскрытие истины, как являемость бытийной сути вещей. Весь вопрос в том, как вне слова в греческом мире могли быть храмы или статуи в их подлинном предназначении. «Творение зодчества, греческий храм, ничего не отображает. Он просто стоит в долине, изрезанной оврагами и ущельями. Он заключает в себе облик бога и, замыкая его в своей затворенности, допускает, чтобы облик бога через открытую колоннаду выступал в священную округу храма. Посредством храма бог пребывает в храме. И это пребывание бога само по себе есть эта простирающаяся и замыкающаяся в своих пределах священная округа. Храм и округа храма не теряются в неопределенности очертаний. Творение храма слагает и собирает вокруг себя единство путей и связей, на которых и в которых рождение и смерть, проклятие и благословение, победа и поражение, стойкость и падение создают облик судьбы для человеческого племени. Владычественный простор этих разверстых связей есть мир народа в его историческом совершении. Из этих просторов, в этих просторах народ впервые возвращается к самому себе, дабы исполнить свое предназначение» (Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 75).
ет тогда как продукт такого творчества, которое снова выражает так называемое «жизненное убеждение». Произведение понимается как «объект» или «продукт» творческого или подражательного опыта. Эстетическая позиция по отношению к искусству возникает в тот момент, когда истина понимается уже как правильность. Поэтому говорят о правильности восприятия, суждения и представления. После Платона и Аристотеля все экспликации сущности искусства, как и историографии искусства, имеют эстетический характер. При эстетическом подходе начинают определять различные виды искусства. Само искусство понимается тогда как образование, формирование и творение произведения из некоторого материала. Архитектура и скульптура используют камень, дерево, металл и краску; музыка использует тона и звуки, а поэзия - слова. Возникает убеждение, что благодаря своему прочному материалу архитектура и скульптура уже не зависимы от мимолетного дыхания быстро увядающего слова, причем нередко двусмысленного слова. В отличие от поэзии архитектура, скульптура и живопись как бы вовсе не нуждаются в слове. Поэтому исходя из концепции видов искусства они устанавливают непреодолимые границы для поэтического слова. Такое воззрение является сугубо эстетическим, поскольку оно уделяет значительное внимание материалу того или иного произведения. Ясно, что сущее для греков является в своей сущности и в своем бытии не только в слове, но также, причем в равной степени, и в скульптуре. В этой связи говорят о присущем грекам пластическом мировосприятии. Однако если божественное в греческом смысле есть как раз само бытие, зримое во всем обычном и привычном, если божественная сущность являема грекам в архитектуре их храмов и в скульптуре их статуй, то как быть тогда с утверждаемым приоритетом слова и, соответственно, с приоритетом поэтизирующего мышления? Не есть ли тогда архитектура и скульптура для греков по отношению к божественному точно такого же ранга или даже более высшего, чем поэзия и мышление? Традиционным до сих пор является понимание греческого мира на основе архитектуры и скульптуры. В силу этого обстоятельства, когда мы размышляем о сущности божественного и о богах в греческом мире, мы неизбежно сталкиваемся с отношением между видами искусства, то есть архитектурой, скульптурой и поэзией. Но важно понять сущность искусства не как «выражение» и «свидетельство» творческого потенциала человека или культуры в целом, а как раскрытие истины, как являемость бытийной сути вещей. Весь вопрос в том, как вне слова в греческом мире могли быть храмы или статуи в их подлинном предназначении. «Творение зодчества, греческий храм, ничего не отображает. Он просто стоит в долине, изрезанной оврагами и ущельями. Он заключает в себе облик бога и, замыкая его в своей затворенности, допускает, чтобы облик бога через открытую колоннаду выступал в священную округу храма. Посредством храма бог пребывает в храме. И это пребывание бога само по себе есть эта простирающаяся и замыкающаяся в своих пределах священная округа. Храм и округа храма не теряются в неопределенности очертаний. Творение храма слагает и собирает вокруг себя единство путей и связей, на которых и в которых рождение и смерть, проклятие и благословение, победа и поражение, стойкость и падение создают облик судьбы для человеческого племени. Владычественный простор этих разверстых связей есть мир народа в его историческом совершении. Из этих просторов, в этих просторах народ впервые возвращается к самому себе, дабы исполнить свое предназначение» (Хайдеггер М. Исток художественного творения. С. 75).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
То обстоятельство, что в статуе Аполлона или в его храме нет слов в качестве материала, требующего оформления, никоим образом не свидетельствует о том, что эти произведения в их «чтойности» и как они есть не нуждаются в слове вообще. Сущность слова и его именующая сила вовсе не в том состоит, что слово получает вокальное звучание, и не в его технической функции сообщения и хранения информации. Храм и статуя в греческом мире, освещаемые и открытые, стоят и являют свою сущность только в непрерывном диалоге с человеком. Если бы в таком положении вещей не было вообще слова, и прежде всего слова молчаливого, то видящий бог, даже в образе прекрасного скульптурного изображения не мог бы являться вовсе. Вне слова бог в виде статуи был бы просто украшением или музейной ценностью. Вне именующей и глагольной сферы слова храм никогда не мог бы предлагать себя как божественный дом и как священное место. То обстоятельство, что греки о своих произведениях искусства не говорили эстетически, свидетельствует о том несомненном факте, что эти произведения создавались и сохранялись в их зримом присутствии только в сказывающей и значимой ясности слова, вне которого ни колонна не была бы подлинной колонной, ни фриз не мог бы быть фризом. 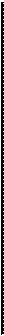 Через присущую грекам поэтизацию всего сущего и свойственный им характер мышления они имели подлинно художественный опыт бытия, выражаемый в легендарном слове и его трагическом воспроизведении. Вот почему благородство, присущее греческой архитектуре и скульптуре, создаваемые греками храмы и статуи требовали не просто точных чертежей и строгого расчета, а именующей энергии слова. Эти произведения могли возникать и существовать в своем предназначении только как существенно сказующее слово, то есть в сфере легендарного слова или, другими словами, в сфере мифа.
Через присущую грекам поэтизацию всего сущего и свойственный им характер мышления они имели подлинно художественный опыт бытия, выражаемый в легендарном слове и его трагическом воспроизведении. Вот почему благородство, присущее греческой архитектуре и скульптуре, создаваемые греками храмы и статуи требовали не просто точных чертежей и строгого расчета, а именующей энергии слова. Эти произведения могли возникать и существовать в своем предназначении только как существенно сказующее слово, то есть в сфере легендарного слова или, другими словами, в сфере мифа.
Поэтизирующее мышление имело приоритет и в начале эпохи Возрождения. Еще Сандро Ботичелли видит мир глазами Данте. У него природа возвращает себе облик прекрасной, хрупкой и исполненной томлением женственности. Он намеренно отказывался от искусства перспективы, поскольку для него живопись была поэзией и философией, тогда как для Леонардо да Винчи она стала универсальной наукой. Живопись, которая понималась как философия и наука, завязывала более осязательные отношения с телесным миром, чем поэтическое и сугубо философское слово. Живопись, архитектура и скульптура прокладывали путь научно-техническому изобретательству. Все это подробно рассматривается в книге В.В. Бибихина «Новый Ренессанс» (с. 369-401). Здесь же важно отметить только следующее. В средние века живопись занимала подчиненное место в теологии искусства, которое сосредоточивалось вокруг храма. Строительство храма было воздвижением мирового порядка. Готовый храм давал работу живописцам, скульпторам и композиторам. К XV столетию живопись освобождается от архитектуры. Она включает в себя философско-теологическую тематику перспективного пространства и градостроительные проекты. Осмысливанию подвергается, прежде всего, пейзаж, который ранее был неотъемлемым контекстом сознания и мысли как таковой. Он исподволь формировал сознание своей непосредственной восприимчивостью. Социальное окружение также было контекстом самого сознания. Имело место сознание в самой действительности, а не сознание с присущей ему предметностью. Природные, социальные и биографические характеристики не могли быть еще предметом наблюдения и анализа. Они были просто обстоятельствами как привычной, так и творческий мысли. Франкмасоны, строители готических храмов, жили изолированными общинами и передавали свои секреты только посвященным. Напротив, архитектурные проекты Филиппе Брунеллески постоянно обсуждались как заказчиками, так и гражданами Флоренции. Осмысливая себя как художника, он подвергал себя постоянно самооценке и тем самым дистанцировался от самого себя. Природный пейзаж и социальное окружение превращались тем самым в предмет изобразительного искусства. В архитектуре и живописи математика становилась необходимым средством композиционного построения. Они превращались в элементы аналитически артикулируемой картины мира. Пейзаж, социум и личность уже были не продолжением самой по себе мысли, не готовым и неизменным ее «телом». В перспективной живописи природный ландшафт вовлекался в тенденцию объективирующего рассмотрения. В ренессансной архитектуре и живописи на первый план выдвигается динамика искания, в которой ведущую роль получают изобретательность и проектирование. Математический расчет и художественный замысел имеют уже самостоятельное значение. Чистый холст позволяет художнику давать волю своему воображению. Художник творил уже свой собственный мир, диктуя свои условия природе, обществу и самому себе. Теперь не требовалось ожидать постройки храма, в котором можно было бы развернуть скульптуру, живопись и книжное дело. Средневековый художественный замысел подчинял себя непререкаемым канонам. Теперь же различные архитектурные проекты, скульптурные и живописные изображения спорят о том, какие из них будут накладывать свою печать на окружающий порядок вещей. Ренессансный проект художественного произведения возникает во многом уже в «чистой» мысли, и в этом отличие ренессансного мышления от древнегреческого. Теперь уже мир вписывается в разного рода проекты, подчиняясь определенному конструктивному замыслу. Пророческими становятся следующие слова Альбрехта Дюрера: «Ибо поистине искусство таится в природе, и кто сумеет его вырвать оттуда, у того оно и будет».
Природа открывается не в неоплатоническом космосе гуманистов, который оживляется единой космической душой и пронизан магическими силами симпатии и антипатии. Она открывается тогда, когда человек обретает способность выходить из жизненной связи с ней; когда он намеренно от нее отходит и наблюдает как бы со стороны, то есть всматривается в природный порядок вещей так, как пишущий картину живописец вглядывается в свою натуру.
 Возможность выходить из мира вовне, чтобы рассматривать этот мир вне себя, вне своего присутствия в нем, - это есть фундаментальная предпосылка для формирования субъект-объектного отношения. Эта способность отстранения от мира формировалась в перспективной живописи, в которой природно сущее во всей своей внутренней глубине и объемности проецируется на плоскость изображения. Картина овнешняет изображаемое, она тем самым природу об-наруживает, наделяет ее внешним образом. Переход от картины к иллюстрации, к чертежу и схеме имел непрерывный характер. Мастерская живописца и скульптора занимала промежуточное положение между библиотекой и научной лабораторией. Изучение геометрии и оптики, механики и анатомии было составной частью в процессе обретения живописного мастерства. Недаром Николай Кузанский говорил, что наука есть возведение частных знаний во всеобщее искусство. Художник не столько срисовывает то, что он непосредственно воспринимает в реальности, сколько вылепливает изображение, наделяя его телесной плотностью. Он намеренно воспроизводит перспективное восприятие; то есть чем предмет удаленнее, тем он меньше в .своих размерах. В картину вводится композиция, имеющая архитектонический характер. Вместо того чтобы копировать зримое, Рафаэль и Леонардо да Винчи все изображение подчиняют геометрической идее единства. В силу этого обстоятельства композиция обретает умозрительный характер. В ренессансном «искусном образе» намечается рациональная предпосылка объединения всего зримо воспринимаемого. В живописном изображении появляется открытый горизонт, присущий перспективному восприятию. Искусный образ создает как бы вторую реальность, как бы ту театральную сцену мира, которую являет собой картина. Ренессансная живопись обретает регулятивный и конститутивный характер, определяющий постижение мира как картины. Создается особого рода вечность, призванная притягивать к себе внимающее рассмотрение. В творении - исток художника, а в художнике - исток его творения. Ясно, что творение немыслимо вне слова. Но это есть уже такое слово, которому не соответствует обычно воспринимаемая действительность. Магическая сила слова совпадает с магией живописного изображения, в котором формируется перспективистское мышление. Важно разъяснить здесь вопрос о том, почему живопись в лице Леонардо да Винчи выступает как самая универсальная и как самая «истинная» наука. Живопись не просто открывает нам дверь в мастерскую художника, где мы его застаем за приготовлением красок и натягиванием холста, и даже не за уверенно быстрой или неторопливо вдумчивой работой над замыслом и последующей разработкой его во всех деталях. В живописи мы обнаруживаем размышления художника о природе, размышления его о времени, свете и тени. Это размышление вовлекает в себя перспективистское видение, позволяющее упорядочивать и раскрывать гармонию всего сущего. Осваивая настоящее и подчиняя себе все временное, живопись осознавала себя самое как такую истинную науку, которая всему изображаемому придает законообразное описание. Искусный ренессансный образ не имеет меры времени. Он вписывает разновременные события в трехмерную структуру настоящего, имеющего смысл самого что ни на есть настоятельного. Поэтому особое значение в живописи приобретает источник света, освещение как таковое на темном фоне, ибо свет есть отблеск светоносности божественного бытия. Стихийная сила природы, способная разрушать все человеком созданное, должна быть отстранена на такое расстояние, благодаря которому природа осмысливается как искусство во всей своей непреодолимой и творческой мощи. Природа наделяется магическим значением так же, как и само ренессансное слово и соответствующее ему живописное изображение мира.
Возможность выходить из мира вовне, чтобы рассматривать этот мир вне себя, вне своего присутствия в нем, - это есть фундаментальная предпосылка для формирования субъект-объектного отношения. Эта способность отстранения от мира формировалась в перспективной живописи, в которой природно сущее во всей своей внутренней глубине и объемности проецируется на плоскость изображения. Картина овнешняет изображаемое, она тем самым природу об-наруживает, наделяет ее внешним образом. Переход от картины к иллюстрации, к чертежу и схеме имел непрерывный характер. Мастерская живописца и скульптора занимала промежуточное положение между библиотекой и научной лабораторией. Изучение геометрии и оптики, механики и анатомии было составной частью в процессе обретения живописного мастерства. Недаром Николай Кузанский говорил, что наука есть возведение частных знаний во всеобщее искусство. Художник не столько срисовывает то, что он непосредственно воспринимает в реальности, сколько вылепливает изображение, наделяя его телесной плотностью. Он намеренно воспроизводит перспективное восприятие; то есть чем предмет удаленнее, тем он меньше в .своих размерах. В картину вводится композиция, имеющая архитектонический характер. Вместо того чтобы копировать зримое, Рафаэль и Леонардо да Винчи все изображение подчиняют геометрической идее единства. В силу этого обстоятельства композиция обретает умозрительный характер. В ренессансном «искусном образе» намечается рациональная предпосылка объединения всего зримо воспринимаемого. В живописном изображении появляется открытый горизонт, присущий перспективному восприятию. Искусный образ создает как бы вторую реальность, как бы ту театральную сцену мира, которую являет собой картина. Ренессансная живопись обретает регулятивный и конститутивный характер, определяющий постижение мира как картины. Создается особого рода вечность, призванная притягивать к себе внимающее рассмотрение. В творении - исток художника, а в художнике - исток его творения. Ясно, что творение немыслимо вне слова. Но это есть уже такое слово, которому не соответствует обычно воспринимаемая действительность. Магическая сила слова совпадает с магией живописного изображения, в котором формируется перспективистское мышление. Важно разъяснить здесь вопрос о том, почему живопись в лице Леонардо да Винчи выступает как самая универсальная и как самая «истинная» наука. Живопись не просто открывает нам дверь в мастерскую художника, где мы его застаем за приготовлением красок и натягиванием холста, и даже не за уверенно быстрой или неторопливо вдумчивой работой над замыслом и последующей разработкой его во всех деталях. В живописи мы обнаруживаем размышления художника о природе, размышления его о времени, свете и тени. Это размышление вовлекает в себя перспективистское видение, позволяющее упорядочивать и раскрывать гармонию всего сущего. Осваивая настоящее и подчиняя себе все временное, живопись осознавала себя самое как такую истинную науку, которая всему изображаемому придает законообразное описание. Искусный ренессансный образ не имеет меры времени. Он вписывает разновременные события в трехмерную структуру настоящего, имеющего смысл самого что ни на есть настоятельного. Поэтому особое значение в живописи приобретает источник света, освещение как таковое на темном фоне, ибо свет есть отблеск светоносности божественного бытия. Стихийная сила природы, способная разрушать все человеком созданное, должна быть отстранена на такое расстояние, благодаря которому природа осмысливается как искусство во всей своей непреодолимой и творческой мощи. Природа наделяется магическим значением так же, как и само ренессансное слово и соответствующее ему живописное изображение мира.
Много лет занимался анатомией Леонардо, а Микеланджело всю жизнь собирался написать трактат по анатомии. Сочинение Везалия «О строении человеческого тела» есть событие не только в истории медицины, но и в истории живописи, когда стремление к точности уже преобладает над стремлением к красоте. В составлении иллюстраций, свидетельствующих о недостоверности во многих деталях текстов Галена, Везалию помогал Вичеллио, художник из студии Тициана. В иллюстрациях из «De fabrico» Везалия телесное изображение человека на фоне классического ландшафта освобождается последовательно от кожи, всех мышц и внутренностей, от венозно-артериальной системы, наконец оно предстает просто скелетом с заступом. Это и есть «нечто вроде символического прообраза научного исследования природы: картина - анатомический атлас - механическая схема - геометрический чертеж - алгебраическая формула...» (Ахутин, А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время («фюсис» и «натура»). М.: Наука, 1988. С. 43). В картине все внутреннее и загадочное развертывается в чистом нротяжении на плоскости, где в принципе все изобразимо и наглядно представлено. В картине объективируется человеческое представление, которое и предстает с предметной зримостью для возможного его рассмотрения. Такого рода изображение и есть прообраз теории, призванный представлять мир как картину. «В эпоху Возрождения произведение и созидающий его человек получают новое значение. Они сосредоточивают в себе тот смысл, который прежде принадлежал лишь Божьему творению. Мир перестает быть творением и становится «природой»; человеческое дело перестает быть служением, выражающим послушание Творцу, и само становится «творением», «творчеством»; человек, прежде слуга и раб, становится «созидателем» (Гвардини Р. Конец Нового времени // Самосознание культуры и искусства XX века. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 189).
Если в романских странах античность в ее культурологическом и историческом измерениях прорывалась на первый план, то в германских странах вместо отсутствующей древности выступает непосредственное переживание духовности, представленное в лице таких своеобразных мыслителей, как Мейстер Экхарт, Агриппа Неттесгеймский, Парацельс и Ангелус Силезиус. Свое варварское своеобразие они выражают на таком языке, который выходит за рамки христианской традиции. Распространение рыночной стихии сопровождалось возрождением смеющегося язычества, а за пределами схоластической scientia оживает античный дух неоплатонизма. Неоплатонизм М. Фичино оказывал влияние как на Агриппу, так и на Парацельса. Формировался бунтарский дух, мятежный разум, который постепенно захватывал массовое сознание. Феномены Савонаролы и Яна Гуса, М. Лютера и Дж. Бруно - типичные тому примеры. Существуют как бы изначальные образы, присущие человеческому сознанию, которые К. Юнг называет архетипами и которые могут оживать независимо от места и времени. Требуются только благоприятные условия и подходящие для этого обстоятельства, определяющие возможность их воспроизведения. Подходящим моментом для этого всегда оказывается крушение жизненного мировосприятия, которое уносит все формы и образы, имевшие характер ответов на основные проблемы и великие загадки мира и жизни. Если начинает уходить религия, которая возвышает сердце и дисциплинирует дух, тогда во внутреннем переживании оживают разного рода демоны, царствующие в природном порядке вещей. В природном и человеческом мире снова становятся активными ведьмы и черти, инкубы и суккубы, сильфиды и ундины. Теперь мир как таковой есть великое таинство - Mysterium magnum. Человек как микрокосм приобретает непомерное и загадочное величие в плане своих собственных возможностей. Человек есть маг и волшебник, он уже лишен всяких определенных очертаний. Человеческий индивидуум утверждается как частное лицо не в своей противопоставляемости природному порядку вещей, как это будет в период Нового времени, а как лицо космического измерения, как лицо в космическом плане бытия. Через соотношение макрокосма и микрокосма формируется деятельный образ человека в еще неопределенном горизонте антропоцентризма как нового мировосприятия. В лице Агриппы и Парацельса, в движении религиозного протестантизма и политологии Н. Макиавелли и Гвиччардини, в художественном слове Ф. Рабле, В. Шекспира и Сервантеса Возрождение раскрывало себя как уже уходящая эпоха, которая должна уступить место деловому человеку, то есть homo politicus oeconomicus.
Дата добавления: 2021-04-05; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
