Выполнено при поддержке гранта в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
Особенностью русской поэзии XXI в. можно считать поликодовость. Современный стихотворный текст, как правило, включает единицы разных семиотических систем – музыкальной, архитектурной, изобразительной, математической и т.п., а если рассматривать сугубо языковой код – то разных национальных языков разных графических систем письма (критики говорят о «вавилонском смешении» языков – внедрении «чужих» слов через «скрещивание» латиницы и кириллицы, транслитерацию иностранных слов и т.п.). Поэтический язык рассматривается самими поэтами как «новый» язык, наднациональный и универсальный, открытый для диалога.
Эпиграф служит одним из наиболее явных средств введения категории Другого – другой позиции, другой культуры, другого языка. При этом, избирая эпиграф, автор демонстрирует, с одной стороны, его знание, то есть включенность в собственное когнитивное пространство, с другой – отношение к нему, которое может быть весьма разнообразным: от благоговейного принятия («авторитетное слово») до иронии, пародирования и резкой полемики.
Немного статистики. Материал для исследования был взят прежде всего с сайта «Вавилон» – на мой взгляд, наиболее адекватной репрезентации современной профессиональной поэзии, а также с ряда персональных сайтов (Дм. Воденникова, В. Павловой, Т. Кибирова, А. Левина), из доступных печатных поэтических сборников и публикаций в журналах. Контент-анализ свидетельствует: из 100 современных авторов эпиграфами сравнительно регулярно пользуются примерно 65. Они цитируют более 300 источников, и около половины из них (≈150) – принадлежат к иным национальным культурам.
|
|
|
Диаграмма 1. Количество упомянутых авторов
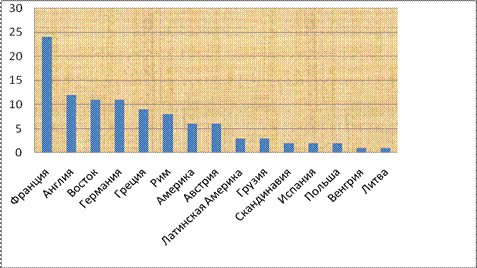
Среди французских авторов анонимный средневековый создатель блазонов, Артюр Рембо,
Жерар де Нерваль, Шарль Гюисманс, Шарль Бодлер, но более всего поэтов и философов начала XX в.
Ж. Кокто, Ж.-П. Сартр, М. Пруст, Б. Виан, Ж. Деррида, Доминик Фуркад, П. Элюар, Рене Шар, Артюр Адамов и др.
Англию представляют в первую очередь, конечно, Шекспир и Байрон, но еще и Китс, Честертон, Т. Элиот, В. Блейк, средневековый философ и теолог У. Оккам, философ и поэт XVIII в Александр Поп, поэт и филолог рубежа XIX- XXвв. Альфред Хаусман, автор детективов Д. Сэйерс и др.
Немецкоязычные поэты и философы – Гете, А. Шопенгауэр, Э. Гуссерль, В. Лейбниц, Г. Белль,
К. Маркс, П. Целан, представляющие Германию, и австрийцы Захер-Мазох, Рильке, Р. Музиль, З. Фрейд,
Ф. Кафка.
Классическую поэзию Греции и Рима олицетворяют Гомер, Гераклит, Пиндар, Сафо, Платон, Эврипид, Гораций, Вергилий, Данте, Петрарка, Овидий, Леопарди, XX век – Георгос Сефéрис и Чезаре Павезе.
|
|
|
Восток дан в эпиграфах из китайских авторов Безумного Линя, Лао-Цзы, Чжуан-Цзы, Су Ши, японцев Рюсю Сютаку, Мацуо Басё, Мисима и кодекс самурая – Хагáкурэ. Цитируется индийский эпос о Гильгамеше, Ригведа и арабский Коран.
Среди прочих имен назовем Андерсена и Гамсуна (Скандинавия), Ф. Гарсиа Лорку и П. Пикассо (Испания), К.-И. Галчинского и Ч. Милоша (Польша), венгра Б. Бартока, литовца В. Мачерниса, грузинских поэтов Шота Руставели, Тициана и Галактиона Табидзе.
По своеобразному рейтингу цитируемости авторов на первом месте Шекспир, далее Гораций, Бодлер, Рильке, Вергилий, Данте, Байрон.
Диаграмма 2. Индекс цитирования авторов эпиграфов

Обратимся к поэтической практике современных поэтов. Отметим прежде всего тех, для кого инокультурный эпиграф может рассматриваться как одна из примет идиостиля или, по меньшей мере, как конструктивный прием организации крупных форм (циклов или книг).
Так, книга стихотворений Т. Кибирова (2007) называется «На полях “А Shropshire Lad”. “А Shropshire Lad” – название книги английского поэта Альфреда Хаусмана (1896), включающей 63 стихотворения. Книга Кибирова композиционно и полиграфически организована по правилам публикации переводных стихотворений: слева помещен оригинал Хаусмана, справа – стихотворение Кибирова, вот только соотношение этих текстов не соответствует ожидаемой семантической адекватности оригинала и перевода. Тексты Кибирова связаны с прототекстами Хаусмана по-разному. Как пишет сам Т. Кибиров, «иногда это традиционные для русской литературы очень вольные переводы и пересказы, иногда – столь же традиционное склонение на русские или современные нравы, иногда дерзновенный спор, как у Ломоносова с Анакреонтом… Впрочем, в ряде случаев связь моих текстов с хаусмановскими столь прихотлива, что не до конца поддается даже моему собственному пониманию» [Кибиров Т. 2007: 7]. По сути, тексты Хаусмана выступает в функции эпиграфа к соответствующему стихотворению Кибирова: смысл кибировского произведения рождается при учете семантики прототекста английского поэта и предполагает осмысление характера его содержательных преобразований.
|
|
|
Книга стихов С. Завьялова «Мелика», в соответствии со своим заглавием (греч. melos – напев, мелодия, мелика – мелодическая поэзия, произведения музыкально-вокального характера, в которых поэт не только автор слов, но и композитор и даже хормейстер), представляет собой попытку возродить греческую традицию, создать технику «новой мелики». Книга Завьялова напоминает скорее партитуру, нотную запись: тексты «сопровождает набранная по правому полю латиницей нотация, играющая роль своего рода музыкального ключа к стихотворению. Обращение к технике античного стиха у Завьялова предполагает и обращение к слову, к именам тех поэтов, которые дали высочайшие образцы мелики – Пиндара, Эврипида, Эмпедокла, Овидия, Тибулла, Менандра, Горация и др. Книгу открывает цикл из 11 стихотворений «Epigraphai», кроме того, эпиграфы сопровождают и другие стихотворения книги. Автор создает эпиграфические комплексы, своего рода эпиграфические сверхтексты, включающие эпиграф на языке оригинала, его точную атрибуцию в соответствии с античной традицией цитирования источников, перевод на русский, в ряде случаев с указанием переводчика (Вяч. Иванов, Я. Э. Голосовкер, А.К. Гаврилов,
М.Л. Гаспаров).
|
|
|
При этом, ссылаясь на этимологию греч. epi, которое означает одновременно на, над, сверх, при и после, он нередко помещает эпиграфический комплекс в постпозицию, что существенно изменяет функцию эпиграфа, превращая его из «смыслового камертона», ключа, определяющего предпонимание, в своего рода итоговую афористическую формулу, заданную тему, которую развертывает стихотворение-глосса:

но Пелоп
Эномая повергнул мощь и возлег с его дщерью
Pind. Ol. 1. 88
Цикл стихотворений Веры Павловой в книге «Небесное животное» назван “BLASONS”, ему предпосланы три эпиграфа: два из них принадлежат В. Ходасевичу. Третий – на языке оригинала – анонимному французскому поэту:
O corps qui fait par sa grande vertu
Sentir un bien que j`ai cele...
Anonim. Les blasons anatomiquis du corps feminim.
Заглавие всего цикла и заглавие французского стихотворения анонимного поэта призваны оживить в памяти читателя традицию блазонов – чрезвычайно распространенного в XYI в. жанра французской поэзии, известного сегодня лишь весьма узкому кругу специалистов по средневековой зарубежной литературе. Однако если эпиграф не прочитывается и его скрытый смысл не интерпретируется, то, по сути, утрачивается значительный компонент смысла, заложенного автором.
Дело в том, что слово блазон в старофранцузском имело двойное значение: оно означало одновременно и хвалу и брань, поэтому жанр блазона предполагал вольную и двусмысленную хвалу-брань. М.М. Бахтин, упомянувший о блазоне в книге о Рабле, замечает, что после Клемана Маро, написавшего два небольших шутливых стихотворения «Красивая грудь» и «Безобразная грудь», «возникает новый тип блазона, имевший громадный резонанс. Поэты эпохи стали наперерыв блазонировать различные части женского тела: рот, ухо, язык, зуб, глаз, бровь и т.п.; они производили буквальное анатомическое разъятие женского тела» [Бахтин М.М. 1990].
В свете этого становится понятно, почему десять стихотворений, входящих в этот цикл В. Павловой, озаглавлены названиями женских органов (они даются на французском без перевода) и почему к этим самым женским органам относятся не только традиционные поэтические объекты восхваления-описания женщины – глаза или рот, но и l e con de la pucelle (половой орган девственницы), l e sain (женская грудь), l e ventre (живот, утроба), связанные с традицией раблезианства с его легитимацией «телесного низа». По-другому осмысливаются и отношения внутри эпиграфического комплекса: оба фрагмента Ходасевича – об антитезе небесного и земного, о душе, помещенной в сосуд непрочный, некрасивый собственного тела.
Явно ориентирован на «чужую» культурную традицию Андрей Сен-Сеньков. Эпиграф у Сен-Сенькова настолько частотен, что может быть признан стилеобразующим средством. Он цитирует французских поэтов и философов Бодлера, Пруста, Ж. Кокто, Гюисманса, Ф. Понжа, Ж. Деррида, А. Адамова, Лотреамона, Лиотара, Анри Мишо, приводит в эпиграфах фразы из Фрейда (подписывая русский текст латиницей Freud), Эзры Паунда, Рильке, Шопенгауэра и др. (всего около 28 имен), но из русских авторов называет только Булгакова, Платонова, Ахматову и своих современников – Г. Айги, Е. Шварц, Ю. Мамлеева (7).
Работа современных поэтов с инокультурным эпиграфом является частью своего рода поэтического эксперимента, направленного на переосмысление представления об основных и неосновных единицах стихотворного текста, децентрацию стиха и семиотизацию, повышение в ранге «добавочных», справочных, технических элементов текста: эпиграфа, подписи под эпиграфом, посвящения, сносок, примечаний, темпоральных и локальных индексов после стиха. Иностранный эпиграф обладает некоторыми дополнительными особенностями, увеличивающими его смыслообразующий потенциал, и потому заслуживает особого внимания.
«Эталонный» эпиграф – это литературная цитата, расположенная перед текстом, графически выделенная, атрибутированная и доступная восприятию читателя, являющаяся существенным компонентом интерпретации произведения. Выбор эпиграфов и принципы работы с ними поэта выявляют его литературные (и не только литературные, но и, например, философские, музыкальные etc.) вкусы и его коммуникативную стратегию в отношении эпиграфа. Иначе говоря, эпиграф несет информацию, с одной стороны, об авторе, с другой – о тексте и cобственной роли в интерпретации произведения. В этом отношении интересен не только сам эпиграф, но и подпись под ним, которая может быть весьма вариативной в формальном и содержательном отношении. Ср. Сафо; Артюр Рембо, Elizabeth Smart, М.-Л.Кашниц, Horatius. Carm. IV. I 29-30; Энеида, 6-я песнь; Nr. 41 Arie, Mattaeus-Passion, J.S.Bach; Захер-Мазох, Галицийские повести; «Снежная королева»; Данте Алигьери. «Божественная комедия»; Из Патерика; Апостол Павел. Послание к Римлянам, 2, 29; «Гамлет», пер. Пастернака.
Можно заметить, что в этом компоненте текста, как и в стихотворной речи в целом, нет ничего случайного. Поэт либо демонстрирует культуру цитирования религиозного текста, или ему, как, например, С. Завьялову, важно показать «родословную» своего произведения, обозначив точный прототекст (Horatius. Carm. IV. I 29-30), либо, как А. Миронову, ввести в культурный фон читателя не только имя Х. Л. Борхеса, но и указание на Мишеля Фуко и его книгу (в «Стеариновой элегии» эпиграф сопровождается сноской в духе научного текста: *Цит. по книге М. Фуко «Слова и вещи» [Москва. 1977]).
Марина Кучинская дважды в одной книге стихов дает эпиграфы из Гёте, подписывая их вначале лаконично Goethe, а затем развернуто Johann Wolfgang Goethe. Это можно понять либо как разные ипостаси, разные тени имени автора «Фауста», тем более что книга Кучинской называется “NOMINIS UMBRA” - тень имени, причем оба латинских слова многосмысленны и имеют вполне осознаваемую автором философскую интерпретацию. А может быть, – замечает Валерий Паршин, – Гёте, переходя из книги (главы) третьей в шестую, последнюю, обретает попутно имя (почти как герой романа «Защита Лужина» по воле изощрённого пера Набокова) [Паршин В. URL http://parshin.webhost.ru/umbra.htm].
Есть эпиграфы, подписанные только инициалами, что, в частности, характерно для творчества Геннадия Айги. Так в тексте «Запись (с «постоянными эпитетами») – после разговора с человеком из «отделения»» под эпиграфом Тотчас раздался стук и в комнату вошел какой-то человек даны только инициалы Ф.К. «Кодовопроницательный» (В.Н. Топоров) читатель может вспомнить, что это строка из «Процесса» Франца Кафки, но остается только догадываться, почему Айги ограничился инициалами: потому ли, что стремился уйти от излишне прямой аналогии, потому ли, что хотел, чтобы читатель включился в интеллектуальную работу по восстановлению имени автора или по другим причинам. Так же – Г.К.Ч. – цитируется Честертон («В ветр — не называя»), В.М. - литовский поэт Витаутас Мачернис (правда, его имя упомянуто в заглавии стиха «Снова – памяти Мачерниса»), французские инициалы Н.М. помещены под эпиграфом на французском к стихотворению «Иная роза: для Анри Мишо».
В двух последних случаях можно говорить о значимости единого заголовочного комплекса, в котором заголовок играет роль темы, а эпиграф – ремы. Ср. те же отношения между заглавием, эпиграфом и подписью под эпиграфом у О. Седаковой: стихотворение которой называется «В духе Леопарди», эпиграф на итальянском O numi , n u mi !, под которым стоит All ’ Italia – название его произведения или стихотворение С. Завьялова, заглавие которого, по сути, представляет собой указание на автора эпиграфа Гораций. 1. 17. 22-23 (парафраз), сам эпиграф дан на русском языке и подписан пер. О. Румера.
История эпиграфов к художественному тексту еще не написана, однако, по нашим наблюдениям, эпиграфы, представляющие собой цитату на языке оригинала, нередки в поэзии ХIX в (они встречаются у Пушкина, Лермонтова, Тютчева), их частотность значительно возрастает в начале XX в. (А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, Вяч. Иванов, А. Ахматова, Н. Гумилев), затем эта традиция оказывается практически прерванной (исключение – отдельные поэты, например, И. Бродский, но это именно исключение из общего правила) вплоть до рубежа XX-XXI вв. При этом сам автор, вполне полагаясь на традиционное гимназическое и лицейское образование, предполагающее обязательное знакомство с классическими и 2-3 современными европейскими языками, обычно не давал перевода иностранного эпиграфа. Книгоиздательские правила советского времени требовали сопровождать иностранную цитату обязательным переводом на русский язык (выполненным издателем или редактором).
Итак, возможны три варианта цитирования иностранного эпиграфа: русский перевод (таких большинство), язык оригинала и, наконец, оригинал и русский перевод.
По нашим наблюдениям, в современной стихотворной практике увеличивается число эпиграфов на языке оригинала, что можно рассматривать, с одной стороны, как активную тенденцию, в определенной степени коррелирующую с вторжением иноязычных графем в традиционный кириллический рисунок стиха, с другой – как своеобразную коммуникативную стратегию автора. Так Г. Айги цитирует французов Рене Шара, Лотреамона, Жерара де Нерваля, Анри Мишо, О. Седакова – Александра Попа, Данте, Леопарди, Е. Бунимович – П. Элюара, Кибиров – Байрона, Китса, Дороти Сэйерс, А. Драгомощенко – Элизабет Смарт, Круглов – Рильке, С. Завьялов – Гомера, К. Кравцов – Эзру Паунда, М. Кучинская – Гете, Стивенсона, Гарсиа Лорку, Галчинского, Чеслава Милоша. Можно предположить, что эпиграф в данном случае выполняет, с одной стороны, функцию самопрезентации автора, с другой – делимитативную – функцию своеобразного пароля, ограничивающего целевую аудиторию «посвященными», «своими» читателями.
Чрезвычайно интересны примеры, в которых присутствует и оригинальный текст, и перевод. Такая авторская стратегия может преследовать разные цели. У С. Завьялова это и дань уважения к нелегкому труду по переводу классических текстов, и апелляция к прецедентным культурным знакам (Вяч. Иванов,
М.Л. Гаспаров), задающим «координаты художественного поиска поэта» (Ю.Б. Орлицкий).
Бесспорно, наибольший интерес представляют случаи, когда эпиграф включается в языковую игру. Так, У П. Барсковой оба стихотворения, составляющие цикл «Арии», названы Alt и Tenor. Эпиграф к каждому состоит из двух частей: перед стихотворением помещен пространный (5-6 строк) текст кантат Баха на немецком с атрибуцией, выполненной по правилам публикации музыкальных сочинений (Nr. 41 Arie, Mattaeus-Passion, J.S.Bach). А после стиха дан перевод на русский с подписью Пикандер (Кристиан Фридрих Хенрици). Как известно, Фридрих Хенрици, писавший под псевдонимом Пикандер, был либреттистом Баха и автором текстов ко всем его кантатам – естественно, написанным на немецком языке, так что его фамилия с равной вероятностью могла бы стоять и в первом эпиграфе после фамилии композитора. Следовательно, такое расщепление единого не случайно – возможно, это идея неслиянности музыки и слов (музыка выше слова, это разговор с Богом без слов), непереводимости музыки на язык слов – великий Бах и неизвестный «переводчик» Пикандер (псевдо-имя, псевдоним).
Необычный эпиграф встречаем у М. Еремина:
Погасло дневное светило;
Good night, my native land.
Пушкин
Byron
Такое расположение русского и иностранного высказывания свойственно переводам, а следовательно, текстовым фрагментам, связанным отношениями семантической эквивалентности, причем по традиции сначала печатается оригинальный текст, затем – подстрочник. Между тем в данном случае автор намеренно инвертирует историческую, временную последовательность и мотивационные связи двух высказываний: байроновская строка первоначально планировалась Пушкиным в качестве эпиграфа к элегии, которая в сборнике «Стихотворения» 1826 г. в оглавлении имела подзаголовок «Подражание Байрону», хотя является одним из самых «пушкинских» произведений. Таким образом, между двумя частями эпиграфа возникают отношения притяжения/отталкивания, мнимого подобия, обнаруживающего абсолютное несходство. То, что такая интерпретация связи двух фрагментов эпиграфического комплекса вероятна, подтверждает текст Еремина: залив подобен арсеналу Банальностей для перевода Поэзии начала девятнадцатого века На русский or from Russian.
Приведенные примеры языковой игры являются специфическими для инокультурных эпиграфов. Есть и неспецифические приемы, связанные с общей тенденцией современных поэтов нарушать обязательные каноны расположения эпиграфа перед стихотворным текстом. Так, у Т. Миловой в начале и конце стихотворения «Он так меня любил…» предлагаются разные (контрастирующие!) варианты эпиграфа из одного источника – пастернаковского перевода «Гамлета»: Вот кроткий, подобающий ответ!.. «Гамлет», пер. Пастернака * – *Вариант эпиграфа: Ты думал глоткой взять? Могу и я. «Гамлет», пер. Пастернака.
Знак сноски после первого эпиграфа диктует нелинейность чтения текста и указывает на необходимость воспринимать эпиграф в единстве его составляющих: кротость (кроткий подобающий ответ) оборачивается агрессией (глоткой взять), равно как и сюжетная коллизия взаимоотношений Гамлета и Офелии прочитывается «с изнанки», духовное упрощается до материального: Он так меня любил - как сорок тысяч / Любить не мог бы. Деньги нынче мусор.
Кольцевая композиция «эпиграфического комплекса» создается в стихотворении А. Сен-Сенькова «Чернильный планктон». Однако в отличие от предыдущих случаев здесь не «единораздельный» эпиграф, а два эпиграфа:
Это было время нестановления, невыхода...
Нацог Рандол
<текст>
перестань плакать, я не хотел сделать тебе больно...
Лотреамон
Такая композиция задает две комплементарные стратегии смыслообразования. Одна – последовательное, линейное, проспективное развертывание, при котором первый эпиграф выступает в своей традиционной функции смыслового ключа-инварианта текста, задающего доминанты, связанные с антиномиями времени и пространства, динамики и статики, преодоления границ и созидания, промежуточностью, переходом. Тогда завершающая цитата-эпиграф интерпретируется как продолжение стихотворного текста (тем более, связанное с ним тематически и эмоционально):
о как часто мы
проходим мимо лежащего
раскинувшего руки
мёртвого трамвайного
трёхкопеечного билета со
сломанным бумажным
позвоночником
В то же время ее статус эпиграфа – функциональная эквивалентность первому фрагменту – требует их обязательного – ретроспективного - смыслового соотнесения и восприятия как единого семантико-функционального комплекса, где абстрактно-философское дополняется конкретно-чувственным, безличное личностным, рациональное эмоциональным. Таким образом, комплекс иноязычных эпиграфов обеспечивает неоднолинейность и целостность формирования смысла.
Мы уже отмечали тенденцию современной поэзии к созданию эпиграфических комплексов, состоящих из нескольких эпиграфов, между которыми устанавливаются собственные отношения: «два сопоставленных чужих высказывания, не знающих ничего друг о друге, если только они хоть краешком касаются одной и той же темы (мысли), неизбежно вступают друг с другом в диалогические отношения» [Бахтин М.М. 1979: 293]. Это могут быть отношения эквивалентности, оппозиции, следствия, продолжения, мотивации, связанной с неслучайной последовательностью и некоей иерархией эпиграфов. При этом существенно, что, объединяя разные по значению и происхождению цитаты, автор самим этим фактом обнаруживает в них нечто общее и заставляет читателя увидеть эту – нередко достаточно неожиданную – общность и одновременно актуализировать различие. Любая логическая оппозиция должна иметь нечто общее, а любое тождество подразумевает различие. В том случае если эпиграфы принадлежат к разным национальным культурам, контраст между ними более яркий, а сходство гораздо более неожиданное и парадоксальное.
Именно так «работает» эпиграф из японского поэта Басё у Юлия Гуголева. Случайно обнаруженное общее слово с помощью приема reductio ad absurdum становится средством создания иронии, поскольку объединяет чужое, нерусское, средневековое, классическое (более того – восточное, что всегда воспринималось как экзотическое) и русско-советское, современное:
Бросил на миг
обмолачивать рис крестьянин,
глядит на луну.
Басё
Призрачно все
в этом мире бушующем,
есть только миг…
Л. Дербенев
Из Басё я не помню ни слова –
я не очень вообще насчет книг,
но вчера я ж читал Басё,
строчки три, ну от силы четыре,
перечитывал снова и снова,
и прикинь, что увидел я в них, –
тот же смысл, что у Л. Дербенева.
Отношения контраста можно продемонстрировать на примере стихотворения Ир. Ермаковой из цикла «Желтые бабочки»:
...не обращая внимания даже на желтых бабочек,
продолжавших кружиться над ее головой.
Маркес «Сто лет одиночества»
...и курить в палатах!
Из «Правил»
Желтые бабочки, сопровождающие Маурисио Бабилонью,– квинтэссенция «магического реализма» – чуда, которое существует в далеком экзотическом мире Маркеса, но которому нет места в одиночестве замкнутого пространства больничной палаты, регулируемого системой запретов. Контраст эпиграфов обнаруживается и в их происхождении, и в источнике цитирования, и в образности. Однако идея одиночества человека среди людей парадоксальным образом объединяет оба высказывания, поясняя смысл стихотворного текста, в котором желтые мотыльки становятся символом иного, реального, вольного, но недоступного и потому призрачного мира для человека, распростертого на больничной койке:
Он лежит мутный, распоротый, никакой,
в потолок пуская белый больничный дым.
Легион мотыльков шуршит, суетясь над ним,
мелко-жарких, душных, назойливо-золотых,
забивая угол палаты сплошной дугой,
и нужна легкость, чтобы пройти сквозь них.
И нужна усмешка, чтобы держать лицо,
разговор, похожий на отходящий наркоз,
на дымок эфирный с кислым привкусом слез –
мотыльки трепещут, растут, шелестят: «Пить»,
удлиняют жесты, пудрят слова пыльцой
и к губам липнут. И всё – пора уходить.
А на воле – охра, грохот, щебет, звонки –
бум трамвайный – весна сорвалась с цепи.
В переулках текучих кружа, бормочу: «Спи».
И пугая встречных, твержу: «Все уже прошло».
И меня накрывают желтые мотыльки.
И в разбитой луже горит подо льдом стекло.
Приведенные примеры доказывают, что эпиграф содержит несколько смысловых слоев. Первый план семантики эпиграфа формируется общеязыковым линейным смыслом его компонентов, не связанным ни с прототекстом, ни с метатекстом и рождающимся в пределах самого эпиграфа. Этот смысловой уровень обеспечивает «голая игра языка без всякой проекции словесных смыслов в плоскости реального движения тематики» [Виноградов В.В. 1976: 261]. На эксплуатации и гиперболизации именно этого семантического слоя обычно работает пародия, в нашем материале – это пример из Ю. Гуголева или весьма выразительный многосоставный эпиграф В. Строчкова к стихотворению «Мэри вывела овечек…», где в один эпиграфический комплекс включены «английский стишок» и «стишки» М.Ю. Лермонтова, транслируя значимую для стихотворного текста авторскую установку на «перелицовку» хрестоматийных и потому «обессмыслившихся», стертых от частого употребления классических образцов.
Второй смысловой уровень определяется семантикой прототекста – «материнского» произведения. Наконец, синтезирующий смысл возникает в уже завершенном произведении и связан с категорией ретроспекции, рекуррентными отношениями в тексте, обязательным для поэзии «перечтением». Это создает «глубину» стихотворения, его вертикаль, дополняющую линейное чтение.
Стихотворение Аркадия Драгомощенко называется «Реки Вавилона», эпиграф к нему, данный на языке оригинала, следующий: At Grand Central Station I Sat Down and Wept . Elizabeth Smart. Смысл эпиграфа абсолютно непонятен тому, кто не обладает необходимыми (достаточно элитарными) знаниями: На реках вавилонских – первые слова 136-го псалма из книги Псалтырь. В новозаветном контексте псалом 136 понимается как скорбь христианина, из-за своих грехов и страстей удалённого от Бога, ставшего пленником своих страстей и пороков. Это один из самых известных библейских псалмов, получивший вторую жизнь в многочисленных произведениях художественной культуры, в частности, в поэме в прозе канадской писательницы Элизабет Смарт (1945 год) – “By Grand Central Station I Sat Down and Wept”.
Стихотворение Сергея Завьялова предваряет французский эпиграф Il neige , le decor s ' ecroule ... – Набоков, сопровождаемый переводом: Идет снег, декорация рушится... Если читатель не знает, что это стихотворение Гумберта Гумберта из «Лолиты» и что полностью эта строка звучит следующим образом:
Il neige , le decore secroule , Lolita ! // Lolita , qu ' ai - je fait de ta vie ?”(Идет снег, декорация падает, Лолита, Лолита, что я сделал с твоей жизнью?), он вряд ли сможет понять, почему завьяловский текст – о «девочке сна моего»:
Девочка сна моего
неуклюжий прекрасный ребенок
предвижу пробужденье твое
в уделе вечном твоем
Спи не просыпайся пока
еще рано нежен рассвет
но там где наметилось чуть очертанье груди
уже полон страха и власти
трагический танец теней[28]
Понятно, что для автора эпиграф, как правило, «метонимический символ-заместитель»
(З.Г. Минц) текста, причем текста в семиотическом смысле: это не только конкретное произведение, но и некая область культуры, с ним связанная (национальный язык и национальная культура, идиостиль, литературная школа и пр.). Поскольку эпиграф – знак высокой, книжной (филологической) культуры автора, он предполагает такого же искушенного сверхобразованного читателя. Идеальным для художественной коммуникации было бы совпадение информации, заложенной автором, и той, что воспринимает читатель. Именно поэтому эталонный читатель - сам автор в тот момент, когда он поставил последнюю точку. Ближе всего к этому образу «идеального читателя» бахтинский «нададресат», которому доступно «абсолютно справедливое ответное понимание» в «метафизической дали либо в далеком историческом времени» [Бахтин М.М. 1979: 305].
Между тем реальный читатель всегда находится на некотором расстоянии от автора. Вступают в силу два фактора: личность (Другой) и время. Ю. Лотман полагал, что поэтический текст следует законам автокоммуникации: слова преобразуются в знаки слов, индексы, ослабляются семантические связи и усиливаются синтагматические, сообщение превращается в код [Лотман Ю.М. 1996: 23 и след.]. Однако полная утрата эксплицитной составляющей невозможна: поэтический текст остается сообщением на естественном языке и должен быть воспринят в соответствии с законами языка. Именно поэтому поэтический текст «как своеобразный маятник качается между системами «Я – Он» и « Я – Я»
[Лотман Ю.М. 1996: 41]. Если читатель обладает значительной интертекстуальной базой, интертекстуальным тезаурусом, он прочитывает эпиграф как знак прототекста, маркирующий его наиболее существенные содержательные и формальные особенности. Если же культура читателя невысока, он понимает эпиграф как самостоятельный текст – сообщение, т.е. считывает лишь его поверхностный смысл либо просто не воспринимает, не интерпретирует стихотворение.
На мой взгляд, если оценивать ситуацию в современной поэзии, можно заметить, что лотмановский маятник сегодня явно отклонился в сторону системы «Я – Я»: возрастает число эпиграфов, у которых эксплицитная семантика стремится к нулю, они понятны только самому автору или его «ближнему кругу». Я имею в виду П. Барскову, М. Еремина, А. Драгомощенко, отчасти Е. Шварц, О. Юрьева и др. Тогда эпиграф из инструмента, позволяющего декодировать текст, превращается в инструмент двойного кодирования.
Перейдем к некоторым обобщениям.
Рассуждая о личности современного автора, можно отметить тенденцию к «расщеплению» авторского Я, «стремлению к «инаковости» по отношению к самому себе и поиски в себе Другого» [Фатеева Н.А. 2006]. Эта тенденция имеет разные формы языкового выражения: это и «литературный билингвизм» (по выражению Р. Якобсона), то есть стремление проявить себя не только в поэзии, но и в прозе, интертекстуальность и гипертекстуальность, создающие эффект «многоязычия» и переключения кодов, это гендерные и коммуникативные сдвиги (когда автор одного пола организует текст от лица другого или прибегает к коммуникативному переходу от 1-го лица к 3-му), и – безусловно – эпиграф, позволяющий автору спрятаться под маской другого лица, причем в случае с инокультурным эпиграфом – максимально дистанцированного от реального автора. Вместе с тем эпиграф не только скрывает, но и – парадоксальным образом – обнажает подлинное лицо автора, эксплицируя его «интертекстуальный тезаурус», национальные литературные вкусы, общую культуру, значимые для него содержательные доминанты и даже тип мышления.
Способ цитации иностранного текста и те сведения, которыми он сопровождается в подписи под эпиграфом, выявляют интенцию автора и его коммуникативную стратегию по отношению к читателю. Важнейшая функция эпиграфа в современной поэзии – делимитативная. Предельно схематизируя реальную ситуацию, можно говорить об эпиграфах «для читателя» и эпиграфах «для автора». Первые предполагают, что автор предпринимает определенные усилия, чтобы облегчить их понимание: дает перевод иностранного текста, опирается на его поверхностный, языковой смысл, выбирает эпиграфы, знакомые читателю и/или принадлежащие достаточно известным авторам и т.п. Вторые выявляют прежде всего интенцию автора, его литературные вкусы и отношение к автору/прототексту.
Однако современную поэзию все меньше волнует реальный адресат, она все чаще пишется с ориентацией на «понимающего» читателя, то есть на узкий (нередко дружеский) круг посвященных, способных расшифровать код. В этом случае иностранный эпиграф из смыслового ключа, позволяющего декодировать произведение и обеспечить межкультурный диалог, превращается в инструмент двойного кодирования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бахтин М.М. 1979 – Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство. 412.
2. Бахтин. М.М. 1990 – Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Москва: Художественная литература. 453. URL – http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html
3. Виноградов В.В. 1976 – Избранные труды. Поэтика русской литературы. Москва: Наука. 512.
4. Кибиров Т. 2007. – На полях «А Shropshire Lad ». Москва: Время. 192.
5. Лотман Ю.М. 1996 – Внутри мыслящих миров: Человек – Текст – Семиосфера – История. Москва: Языки русской культуры. 464.
6. Паршин В. 2004 – Per umbras ad astra («через тени к звёздам»). Возобновление Серебряного века. Заметки по поводу книги стихов Марины Кучинской « Nominis Umbra », Санкт-Петербург. URL http://parshin.webhost.ru/umbra.htm.
7. Фатеева Н.А. 2006 – Открытая структура: О поэтическом языке и тексте рубежа XX - XXI веков. Москва: «Вест-Консалтинг». 160.
CONTEMPORARY RUSSIAN POETRY AS A MULTICULTURAL DIALOGUE SPACE:
THE EPIGRAPH
The article analyses the corpus of foreign epigraphs in contemporary poetry (according to their quantitative, chronological, geographic, thematic characteristics), their linguistic aspect (the original text – the translation), deep and surface semantics and their functions in a new text. The author characterises the works of the poets for whom foreign epigraphs can be regarded as the peculiarity of their or as a constructive method of a larger form (a cycle or a book) arrangement.
Русистика и современность.
13-я Международная научная конференция. Сборник научных статей, с. 245-248. ISBN 978-9984-47-044-3
Рига: Балтийская международная академия, 2011.
О «переводимости/непереводимости» грамматики
Сирье купп
Тартуский университет, Эстония
Sirje.Kupp@ut.ee
В XIX веке известный языковед Вильгельм фон Гумбольдт представил так называемую «теорию непереводимости». Главной причиной теории было мнение о том, что перевод должен исчерпывающим образом воспроизводить оригинал, и поэтому перевод оказывался принципиально невозможным по чисто лингвистическим причинам, не говоря уже о невозможности воспроизвести неповторимое своеобразие творческой манеры выдающегося поэта или писателя. Отношение многих языковедов к переводу Гумбольдт четко выразил в письме к известному немецкому писателю и переводчику Августу Шлегелю, ему казалось, что переводчик может переводить только двумя разными способами, либо он слишком сосредоточен на оригинале и из-за этого пострадает перевод, либо он слишком сосредоточен на самом переводе и недостаточно учитывает оригинал, и от этого тоже пострадает опять перевод [Левицкая, Фитерман 1963:30]. Одним словом, теория непереводимости основывается, прежде всего, на том, что рассмотрение перевода с позиций языкознания четко определило невозможность полного тождества содержания оригинала и перевода.
В XX и XXI веках языковеды и сами переводчики выражают свое мнение по поводу переводимости в более оптимистическом ключе. Однако это не означает, что в наше время уже не осталось «непереводимых» явлений в языке. «В любом, в особенности художественном, тексте имеется множество элементов, которые не поддаются переводу» [Влахов, Флорин 1986:6]. Чаще всего такие элементы называют «реалиями», это – «слова, которые называют предметы и понятия быта и культуры, исторической эпохи и социального строя, государственного устройства и фольклора, т.е. специфические особенности одного народа, которые отличают его от других народов» [Влахов, Флорин 1986:7]. Грамматическая форма реалии связана в первую очередь с определением ее принадлежности к данной части речи, к различным грамматическим категориям, и, естественно, с возможностями формообразования [Влахов, Флорин 1986:29].
Однако возникает вопрос: можно ли вообще сравнить эти два подхода? В одном случае отрицается возможность адекватного перевода в целом, в другом – указывают на конкретные явления в языке, которые до сих пор остаются непереводимыми. Тем более что общепринятой точкой зрения, на данный момент, является твёрдое убеждение, что переводчик обязан переводить мысли и значения, а не отдельные слова, т.е. цель перевода – передать значения одного языка на другой язык с учетом, чтобы перевод как можно меньше отличался от подлинника. В принципе, это означает, что мы должны с уровня слов и предложений подниматься на уровень значений. Забегая вперед, можно сказать, что всё вышесказанное относится также и к переводу грамматических форм и значений. Данная тема мало исследована, так как до сих пор больше внимания уделялось и уделяется лексическим неточностям и несоответствиям. Роль грамматики в переводе остается вне поля зрения. Между тем достижения современной лингвистики показывают, что адекватный перевод возможен только при учете взаимодействия лексики и грамматики. Для многих направлений современной лингвистики, в том числе функциональной грамматики, характерен отказ от проведения резких границ между грамматикой и лексикой [Князев 2007:15].
Эстонская переводчица и специалист по теории перевода Анне Ланге утверждает, что перевод означает, между тем, и замену грамматики одного языка грамматикой другого языка, и калькировать здесь можно мало [Lange 2008:23]. Из этого, конечно, нельзя сделать вывод, что сложнее всего переводить грамматические формы и значения. Например, Р. О. Якобсон утверждает, что «Отсутствие в языке перевода какого-либо грамматического явления отнюдь не означает невозможности точной передачи всей понятийной информации, содержащейся в оригинале» [Якобсон 1978:19]. К тому же часто бывает так, что значения, которые в одном языке являются лексическими, в другом языке могут быть грамматическими. [Бархударов 1975: 153].
Говоря непосредственно о переводимости или непереводимости грамматики, понятно, что не имеет смысла пытаться переводить грамматические формы, а нужно сосредоточиться на значениях, которые эти формы выражают. Это нужно иметь в виду, если мы, например, переводим видовые формы русского глагола на эстонский язык, где грамматическая категория вида отсутствует. Мы знаем, что для русского глагола категория вида является существенной, подавляющее большинство глаголов имеет формы совершенного и несовершенного видов (при употреблении глагола обязательно должна быть выражена целостность или нецелостность действия). Кроме того, в русском языке глагол в тексте реализует частные видовые значения, такие как: конкретно-фактическое, наглядно-примерное, потенциальное и др. [Бондарко 1971: 22-23].
Однако долговременная практика перевода доказывает, что перевод осуществим, даже если между грамматическими системами почти отсутствуют сходства. Так как «языки любого грамматического строя в состоянии выразить любую мысль и любое понятие — таков непреложный факт, который пока что никому не удалось опровергнуть» [Бархударов 1975: 19].
Л.С.Бархударов ставит вопрос о том, в какой мере грамматические значения вообще необходимо передавать при переводе. По его мнению, каждую ситуацию нужно оценивать отдельно: «в каждом конкретном случае необходимо учитывать характер употребления той или иной формы, ее функциональную нагрузку и в соответствии с этим находить ей то или иное соответствие в языке перевода. С другой стороны, не следует и недооценивать те объективные трудности, которые возникают перед переводчиком в результате расхождений в грамматическом строе языков. Как и в области словарного состава, в отношениях между грамматическими системами двух языков мы лишь в редких случаях наблюдаем полное совпадение» [Бархударов 1975: 145-146].
Если вернуться к вопросу вида русского глагола и способам его передачи на эстонский язык, то проблему можно решить следующим путём: эстонский язык имеет иные средства для передачи целостности: наречия, синтаксические (тотальный/парциальный объект) или контекстуальные средства. В частности, наречия, хотя и используются также в русском языке, лишь дополняют значение категории вида, тогда как в эстонском языке они могут быть единственным средством передачи определенного аспектуального значения.
Хорошим примером служит также сравнение грамматического времени в эстонском и русском языках: в эстонском языке временных форм 4, из которых 3 выражают разные прошедшие времена, однако при этом отсутствует отдельная форма для обозначения будущего времени. Поэтому переводя русское предложение, выражающее действие в будущем на эстонский язык, мы должны сосредоточиться не на передаче самой формы будущего времени, а именно на значении, которое она выражает. Часто бывает даже так, что та или иная грамматическая конструкция может быть переведена несколькими способами в зависимости от контекста [Швейцер 1963:5-12]. Так в эстонском языке для выражения значения будущего времени употребляются или наречия (завтра, через неделю и т.п.) или фазовые глаголы (буду, начнём и т.п.).
Существует даже мнение о том, что если в языке, на который делается перевод, отсутствует какая-либо грамматическая категория, переводчик находится в более «благоприятном» положении – потому что ее значение может быть передано на этот язык лексическим путем. Так Р. О. Якобсон считал, что гораздо труднее точно следовать оригиналу, когда мы переводим на язык, в котором есть грамматическая категория, отсутствующая в языке оригинала, тогда мы вынуждены самостоятельно делать выбор между разными вариантами [Якобсон 1978: 20]. Однако думается, что на самом деле нет разницы, потому что в обоих случаях переводчик должен проникнуть в суть значения той или иной грамматической формы и найти ей самое лучшее соответствие в своем родном языке.
Проиллюстрируем свое утверждение с помощью следующих примеров:
Первый случай - грамматическая категория имеется в языке оригинала, но отсутствует в языке перевода:
(1) Каждую субботу она пекла пирог.
Igal laupäeval küpsetas ta pirukat.
(2) Вчера вечером она испекла пирог своей сестре.
Eile õhtul küpsetas ta oma õele piruka.
В примере (1) представлен русский глагол НСВ пекла, который вместе временным показателем каждую субботу указывает на повторяющееся действие в прошлом. Даже если мы опускаем выражение каждую субботу, в русском языке все равно сохраняется либо значение повторяемости, либо значение процесса:
(3) Когда я вошел в комнату, она пекла пирог.
Kui ma sisenesin tuppa, küpsetas ta pirukat.
Пример (2) с глаголом СВ испекла чётко выражает целостность и результативность действия. В эстонском языке в обоих примерах употребляется одна и та же форма глагола. Форма глагола не указывает на целостность действия. Значение целостности/нецелостности действия передается с помощью падежа существительного при переходном глаголе (в эстонской грамматике говорят о передельности/непредельности ситуации, где это понятие объясняет семантику такого высказывания). «Следовательно, как в русском, так и в эстонском языках имеется лексико-грамматическая предельность/непредельность, однако валентность свойства глаголов по-разному дифференцируют общее аспектуальное значение лексических эквивалентов» [Эслон, Пихлак 1993: 25]. В примерах (1) и (3) слово pirukat употреблено в падежной форме партитива единственного числа. «При форме прошедшего времени глагола: /…/ если действие находилось в процессе совершения, о результативности которого неизвестно, или действие не было завершено, то употребляется партитив» [Кюльмоя 2003: 61]. В примере (2) существительное piruka употреблено в генитиве единственного числа, что и указывает на факт результативности действия.
(4) Сел и сказал гарсону: «Коньяк». (М. Веллер)
Ta istus ja ütles ettekandjale: „Cognac!“(5) Первый мальчик сидел с бутылкой наготове в коляске мотоцикла, а второй поворачивал
на костерке шашлычки. (М. Веллер)
Обратимся теперь к другому случаю, когда грамматическая категория имеется в языке перевода, но отсутствует в языке оригинала:
(6) Он всю прежнюю жизнь посвятил вещам конкретным… (М. Веллер)
Ta oli kogu oma senise elu pühendanud konkreetsele asjale…(7) Действительно: еще только латные рыцари не устраивали антисоветских восстаний.
(М. Веллер) Tõepoolest, ainult raudrüüs rüütlid polnud veel nõukogudevastaseid ülestõuse korraldanud.
Переводя пример (6), переводчик должен выбрать одну из трёх форм прошедшего времени эстонского языка (имперфекта, перфекта или плюсквамперфекта). Имперфект обозначает действие, произошедшее до момента речи. Перфект выражает сложную комбинацию временных значений, чаще всего тот факт, что результат или следствие ситуации, имевшей место в прошлом, сохраняется к моменту речи. Основным значением плюсквамперфекта является указание на то, что некоторая ситуация имела место раньше другой ситуации в прошлом. Поэтому ясно, что форма плюсквамперфекта является в данной ситуации самой подходящей. В примере (6) указывается на то, как обстояло дело до конкретного момента прошлом, именно это значение имеет эстонский плюсквамперфект. В примере (7) употребление формы плюсквамперфекта поддерживается дополнительно наречием veel. Интересно отметить, что уже в 1967-ом году эстонский лингвист Аугуст Мёлдер писал, что «так как в русском языке отсутствуют морфологические возможности передать значение эстонского плюсквамперфекта, то это делается с помощью наречий: уже, еще. [Mölder, 1967: 90]. На самом деле, эти наречия очень часто и в эстонском языке сопровождают форму плюсквамперфекта.
(8) Существует весьма распространенное предубеждение, согласно которому
структуральный анализ призван отвлечь внимание от содержания искусства…(Ю. М. Лотман)
Võrdlemisi laialt on levinud eelarvamus, mille järgi strukturaalne analüüs on kutsutud juhtima tähelepanu kõrvale kunsti sisult…В примере (8) стоит глагол существует, который имеет значение настоящего постоянного состояния и выражает действие или состояние, длящееся очень долго, бесконечно, постоянно. В эстонском переводе мы имеем дело с инклюзивным перфектом, это означает, что состояние, которое имело место в прошлом, продолжается в плане настоящего времени, т.е. этот тип перфекта обозначает не сохранение результата к моменту речи, а тот факт, что сама ситуация в момент речи по-прежнему имеет место и не завершилась. В данном примере у эстонского переводчика нет иного выбора, он не может употребить другие временные формы кроме перфекта.
Все приведенные примеры ещё раз доказывают утверждение, что мы можем говорить о непереводимости грамматических форм, но ни в коем случае, не о непереводимости значений, которые они выражают. Переводчик, который превосходно владеет своим родным языком и знает также все эти грамматические подробности, наверное, даже не думает о том, какую форму он должен выбрать, однако практика показывает, что плюсквамперфект употребляется все реже и реже в эстонском языке, даже в письменных текстах. Поэтому вопрос о роли грамматики в переводе является очень актуальной, хотя, к сожалению, малоизученной проблемой.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бархударов Л.С. 1975 – Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). Москва. 240.
2. Бондарко А. В. 1971 – Вид и время русского глагола (значение и употребление). Москва. 238.
3. Бондарко А. В. 1983 – Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Ленинград. 205.
4. Влахов С., Флорин С. 1986 – Непереводимое в переводе. Москва. 416.
5. Веллер М. 1993 – Легенды Невского проспекта. Таллинн. 299.
6. Князев Ю.П. 2007 – Грамматическая семантика. Русский язык в типологической перспективе. Москва. 704.
7. Кюльмоя И.П. 2003 – Кюльмоя И., Вайгла Э., Солль М. Краткий справочник по контрастивной грамматике эстонского и русского языков. Тарту. 142.
8. Левицкая Т. Р., Фитерман А. М 1963 – Теория и практика перевода с английского языка на русский. Москва. 124.
9. Лотман Ю. М. 1970 – Структура художественного текста. Москва. 383.
10. Швейцер А. Д. 1963 – К вопросу об анализе грамматических явлений при переводе Тетради переводчика. Вып. 1. Москва. 5-12.
11. Эслон П., Пихлак А. 1993 – Вид и время (Сопоставительный очерк). Таллинн. 115.
12. Якобсон Р.О. 1978 – О лингвистических аспектах перевода. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Москва. 16-24.
13. Lange А. 2008 – Tõlkimise aabits. Tallinn. 86.
14. Veller M. 2005 – Nevski prospekti legendid. Tartu. 342.
15. Lotman J. 2006 – Kunstilise teksti struktuur. Tallinn. 576.
16. Mölder А. 1967 – Eesti ja vene keele kõrvutav grammatika. Tallinn. 155.
TRANSLATABILITY / UNTRANSLATABILITY OF GRAMMAR
It is a well-known fact that grammars of different languages have very little in common. Translating from Russian into Estonian, we have to keep in mind that the grammatical category of aspect, which is very important for Russian verbs, does not exist in Estonian. However, it does not mean that we cannot translate the meanings of Russian aspect into Estonian. On the other hand, Estonian has a more complicated tense system, and translating from Russian, a translator must be aware of choosing the correct form.
Русистика и современность.
13-я Международная научная конференция. Сборник научных статей, с. 249-253. ISBN 978-9984-47-044-3
Рига: Балтийская международная академия, 2011.
РУССКИЙ ЯЗЫК ПО РАДИО: КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА
Ирина Курлова
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, Россия
kurlova _ irina @ mail . ru
Можно ли научить русскому языку по радио? Разумеется, формат радиопередачи не позволяет научить языку в объёме даже элементарного уровня. Однако слова и простейшие фразы, необходимые в ситуациях повседневного общения (в магазине, в ресторане, на улице и пр.) и поданные в определённом контексте, могут быть полезны тем, кто планирует поездку в Россию, могут привлечь к изучению языка, и, что самое важное, познакомить с литературой, историей, культурой, политической жизнью России, представить некоторые стереотипы общения.
Новый проект радиостанции «Голос России» предлагает цикл уроков для начинающих изучать русский язык. В настоящее время радиопередачи идут в Бразилии. Первый цикл состоит из 48 уроков, 40 из них уже создано и прозвучало в рамках проекта «Несколько слов по-русски». Радиопередачи идут на португальском языке. Передачу ведут двое ведущих на португальском языке, один из них является носителем русского языка. Ведущий, владеющий и русским и португальским языками, представляет слова и простые фразы по-русски, а второй ведущий, русским языком не владеющий, является единственным «реальным» учащимся.
48 уроков включают в себя 6 составляющих: в каждых восьми уроках представляется та или иная грамматическая форма: падежные формы существительных, глагольные формы (формы вида, спряжение, глаголы движения, императив), числительное и т.д. На грамматический материал «накладываются» следующие лексические темы:
1. Знакомство
2. Формы обращения
3. Столица России – Москва
4. Города России (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Сочи)
5. Климат России
6. Население России
7. Основные географические объекты (Волга, Байкал, Сибирь, Уральские горы, Чёрное море)
8. Писатели и поэты (Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Булгаков)
9. Художники (Васнецов, Суриков, Левитан, Малевич)
10. Композиторы (Чайковский, Шостакович)
11. Русское кино
12. Космонавты
13. Спорт
14. Сувениры
15. Праздники
16. Национальная кухня
17. Как отдыхают россияне
18. Транспорт
Презентация грамматического материала в формате радиопередачи весьма условна, она встраивается в материал диалога. Для примера приводим фрагмент урока, посвящённого согласованию форм рода и числа существительных и прилагательных (буквами М. и Ж. обозначены мужской и женский голоса; единицы, выделенные жирным шрифтом, произносятся на русском языке, весь остальной текст переведён на португальский язык: ведущие говорят по-португальски; имена ведущих могут меняться на «реальные», в частности, ведущих в Бразилии зовут Александр и Лусия, поэтому в тексте имена выделены подчёркиванием). Учащийся, Дмитрий, «готовится» к поездке в Москву и выясняет у русской ведущей, какие интересные места ему следует посетить:
Урок 4(Прилагательное)
М: Обязательно пойду в Большой театр и в Малый театр.
Ж: Дмитрий , боюсь, тебе рано идти в Малый театр. Это драматический театр. Пока тебе трудно будет понимать по-русски. Вот Большой – это театр оперы и балета. Туда ты можешь пойти.
М: Спасибо, Татьяна. Большое спасибо. Правильно я говорю – большое спасибо?
Ж: Да, Дмитрий, ты говоришь правильно, но обрати внимание на окончания! Они в русском языке изменяются: БольшоЙ театр, большоЕ спасибо.
М: Да-да, я слышал, что в русском языке изменяются окончания.
Ж: Этоглавная проблема для иностранцев, изучающих русский язык! По-русски можно сказать: большАЯ проблема.
М: Как, теперь уже большАЯ?
Ж: Да, Дмитрий, потому что проблемА! Слово проблема заканчивается на –а, поэтому большая. Большая проблема.
М: Похоже, это, действительно, большая проблема. Я так много узнал сегодня интересного! И не только об интересных местах в Москве – Кремль, Красная площадь, Белый дом, Большой театр, Малый театр. Теперь я знаю цвета. А это значит, я знаю, как заказать красное вино и белое вино. И ещё – большой – маленький. Спасибо, Татьяна. Теперь мои дела не так уж плохи. Всё хорошо! Прекрасно! Я готов к поездке в Москву! Большое спасибо, Таня!
Как видим, в заключительной части урока ещё раз повторяются изученные слова.
Урок завершает песня (иногда фрагмент песни может звучать и в середине передачи), близкая по теме к лексике урока. Так, урок, фрагмент которого приведён выше, заканчивается песней о Москве «Лучший город Земли».
Поскольку одной из основных целей радиопередач является представление культурных концептов и национально-культурных стандартов, остановимся подробнее не данном вопросе.
Стереотипы, сложившиеся у иностранцев, часто поверхностны и ошибочны. Россия часто ассоциируется у них со стереотипами, давно утратившими свою значимость для россиян или вовсе её не имевшими (медведь, валенки, шапка-ушанка, самовар, балалайка, матрёшка и др.). Существует две категории стереотипов: поверхностные и глубинные. Поверхностные стереотипы – это представления о том или ином народе, которые обусловлены исторической, международной, внутриполитической ситуацией или другими временными факторами. Эти стереотипы меняются в зависимости от ситуации в мире и обществе. Это, как правило, образы-представления, связанные с конкретными историческими реалиями. Глубинные стереотипы не меняются в течение времени. Среди глубинных стереотипов в особую группу выделяются внешние, связанные с атрибутами жизни и быта народа. Последние часто именуют выражением «развесистая клюква», или просто «клюква». Это выражение употребляется также как символ чего-либо неправдоподобного – ложных сведений об известных предметах и явлениях или просто небылиц и выдумок. Первоначально оно обозначало вздорные и нелепые сообщения иностранцев о России, о русских людях и их обычаях. Легенда приписывает авторство «развесистой клюквы» французскому писателю Александру Дюма-отцу, действительно совершившему путешествие в Россию в середине прошлого века. В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова сообщается о том, что выражение «развесистая клюква» пошло «от описания России, в котором поверхностный автор-француз пишет, что сидел под тенью величественной клюквы».
«Развенчание» стереотипов такого рода и презентация понятий, действительно значимых для россиян, и является одной из задач уроков. Возникает закономерный вопрос: какие именно понятия являются в настоящее время значимыми для россиян и по какому принципу следует отбирать «достойные» для иностранных слушателей понятия? Как объяснить специфику национально-культурных стандартов? Мы исходили из следующей установки: чтобы овладеть чуждым для себя культурным стандартом, необходимо понять, почему люди другой культуры придерживаются именно таких правил поведения и уважают именно такие ценности. Ш. Каммхубер приводит следующий показательный пример. У китайцев принято начинать научный доклад следующими словами: «Прежде чем приступить к моему сообщению, я хотел бы сказать, что я еще недостаточно тщательно и глубоко изучил эту проблему. Я хотел бы лишь сообщить о своих предварительных и поверхностных наблюдениях, которые вполне могут оказаться неверными. Прошу вас критически отнестись к недостаткам и ошибкам в моем докладе и высказать ваши предложения». С точки зрения европейской риторической традиции, автору, заранее извиняющемуся за то, что он написал, лучше вообще не выступать с докладом. В приведенном примере актуализируется следующая важная для китайца установка: «Имея возможность выступить с докладом, я уже оказался в более предпочтительной ситуации, чем остальные. Может случиться так, что мой доклад не будет иметь успеха, а я подвергнусь публичной критике. Это приведет меня к утрате лица и вообще нарушит гармонию общественной ситуации. Итак: веди себя скромно, так как это является важным критерием оценки для твоих слушателей, занижай себя и свои заслуги. Этим ты предотвратишь критику и сохранишь лицо также и своих слушателей». Стремление сохранить социальную гармонию, сохранить лицо является китайским культурным стандартом.
Диалог радиопередачи строится таким образом, что обучаемый задаёт вопросы, «провоцирующие» его «преподавателя» и соведущего на разговор о той или иной проблеме. Для примера приводим фрагмент урока.
Урок 11 (Формы обращения)
М: Как по-русски обратиться к незнакомому человеку? В других языках есть такие слова, например, «сеньора», «мадам». А в русском языке есть такие слова? Я пока знаю только девушка. Но ведь не все женщины, к сожалению, девушки…Ведь девушка – это лет до 30?
Ж: Ты прав,Дмитрий, но по-русски так можно обращаться лет до 40. И женщинам, как ты понимаешь, это даже нравится.
М: А что, нет другого слова? И какое слово говорить после 40? Бабушка?
Ж: О! Только не это,Дмитрий! Женщины после 40 обидятся. Бабушка – это совсем старенькая женщина, ну, лет 70.
М: А, теперь я понимаю, почему одна стюардесса в самолёте, в котором я летел в Москву, обиделась на меня… Ей было как раз лет 40. Так что говорить, Татьяна?
Ж: Лучше всего так и начинать: Скажите, пожалуйста… Можно добавить Извините… До 40 лет (приблизительно, конечно) женщинам говорят – девушка, а мужчинам –молодой человек.
М: Молодой человек. Что это значит?
Ж: Буквально это значит – молодой человек. (перевод)
М: Азнаменитое слово товарищ когда говорят?
Ж: Товарищ сейчас не говорят, только в армии, в милиции и в значении «друг». Как обращение это слово ушло вместе с Советским Союзом. Сейчас так могут сказать пожилые люди или, наоборот, молодые, но в шутку.
М: А ещё я слышал слово господин.
Ж: Да, слово господин, наоборот, появилось после перестройки. До революции его тоже использовали, а потом, после революции, стали говорить: «господа все в Париже», потому что представители аристократического общества вынуждены были эмигрировать. А они очень часто уезжали в Париж. По-русски: господа все в Париже (господа – это множественное число слова господин).Слово господин стало практически запрещённым как обращение.
М: А сейчас опять появилось? Я часто слышу – господин Путин.
Ж: Правильно, это слово так и употребляется – в официально-деловом стиле речи. В деловой переписке. Но не на улице. Может, люди ещё не привыкли, оно ведь 70 лет было под запретом. Не так просто восстановить утраченное значение.
М: Интересно, как политика влияет на язык. Значит, господин, господа … А как будет женский род?
Ж: Госпожа.
М: Госпожа. Госпожа Татьяна…
Ж: Нет-нет! Не так! Только с фамилией. Например, господин Медведев, госпожа Путина.
М: Понимаю. Ты знаешь, Татьяна, я совсем запутался во всех этих политических вопросах. Одни женщины обижаются на бабушку, другие хотят, чтобы их называли девушками, а им за 40. Трудно с вами. По-моему, лучше говорить Скажите, пожалуйста… И никаких проблем.
Ж: Ты прав, Дмитрий, это пока лучшее обращение, из того, что есть. Можно ещё так: Извините, скажите, пожалуйста… Это более вежливая форма.
М: Извините, скажите, пожалуйста…
Ж: Давай поговорим! Например, ты хочешь спросить, где находится метро.
Дата добавления: 2021-04-07; просмотров: 95; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
