Спор Паскаля и Ноэля о пустоте и теле 21 страница
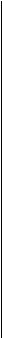 |
!4ί |
Психология творчества Языкова
воздействие и свободолюбивый Языков фактически, на деле, оказывался именно в том плену, которого бежал. В дерптский период он стремился создать что-нибудь «поважнее», свое поэтическое старание направлял, главным образом, на более «высокие» стихотворения, которые сам предназначал для печати (вроде стихотворений «Гений», «Поэт», «Муза»), усердно писал исторические стихотворения, готовил скандинавскую и ливонскую поэму.
 Здесь всюду он ориентировался по обществу, а не по себе, стремясь к тому «идеалу» поэта, который выработался в его эпоху. Но фактически не этими стихотворениями стяжал он славу, а тем, что делал «между делом» — элегиями, в большинстве случаев писанными для альбомов. Есть стихи, которые, по его признанию, писаны «для моциона пера». Здесь-то и был плен, ибо разве фактически не плен, что Языков пишет стихотворение для того, «чтобы сдержать обещание, данное Дириной», пишет стихотворения ко дням именин, стихотворения на заданные слова («Меня любовь преобразила», «Она меня очаровала») и сам говорит о надобности писать стихи для Александры Андреевны (Воейковой), которая «может располагать движениями моих помышлений как господин рабом, как магнит железом» (Я. А. I, 302).
Здесь всюду он ориентировался по обществу, а не по себе, стремясь к тому «идеалу» поэта, который выработался в его эпоху. Но фактически не этими стихотворениями стяжал он славу, а тем, что делал «между делом» — элегиями, в большинстве случаев писанными для альбомов. Есть стихи, которые, по его признанию, писаны «для моциона пера». Здесь-то и был плен, ибо разве фактически не плен, что Языков пишет стихотворение для того, «чтобы сдержать обещание, данное Дириной», пишет стихотворения ко дням именин, стихотворения на заданные слова («Меня любовь преобразила», «Она меня очаровала») и сам говорит о надобности писать стихи для Александры Андреевны (Воейковой), которая «может располагать движениями моих помышлений как господин рабом, как магнит железом» (Я. А. I, 302).
Вот здесь именно и оказывается страшащий Языкова плен. Недаром так часто встречается у Языкова в альбомных элегиях эпитет «пленительный». Здесь нельзя не говорить о «завоевательнице воли», о «повиновении», о «сердечной неволе», о «рабстве», «покорстве» и т. д. В плену альбомов фактически творил Языков. Здесь же оказывается и самая тонкая, требующая осторожности в решении, основная проблема психологии творчества или, если угодно, критики (понимаемой в смысле установления биографической подлинности той или иной лирической темы). Напомним, что большинство неприязненно настроенных по отношению к Языкову критиков подчеркивало риторическую «неподлинность» его стихотворений. Сам Языков, до крайности скрытный, подал повод к подобному толкованию. По поводу стихотворения «Она меня очаровала» Языков пишет брату: «Видишь ли, что и я умею вовремя притворяться: это общее свойство поэтов — упругость в мире физическом тоже» (Я. А. I, 173). С другой стороны, в стихотворении он позднее признается:
|
|
|
Да впрочем еа tempestate
Я был влюблен — итак не знал,
Что бредил я, когда писал. (I, 78)
Что же из двух ложь: письмо или признание в стихотворении? Если верить письму, то стихи Языкова — альбомная комплиментика, притворство, если верить стихам (был «бред», была «влюбленность»), тогда в письме — скрытность, боязнь проговориться перед другими в своем чувстве и тем самым профанировать чувство. Предвосхищая дальнейшее, скажем: не всё комплиментика в альбомных стихах Языкова, и если нужно чему-нибудь не доверять, то это письмам. В письмах к родным Языков вообще скрытен и не без основания должен оправдываться перед братом в 1823 году (Я. А. I, 47): «Видно, письма мои тебя не удовлетворяют, то есть не дают тебе понятного понятия о состоянии моего духа, что ты так сильно желаешь лично увидеть меня и, так сказать, собственным термометром узнать мой внутренний жар или холод». Если письму нельзя верить, то действительно, фактически Языков творил не в той свободной лени, о которой только мечтал, а всегда в плену, повинуясь кому-то или чему-то («плен» не только комплиментика). Реальные условия творчества Языкова не те, которые он создает себе в своем воображении. Больше того, может быть именно разлад между устремлением к «свободе» и реальной
|
|
|
| !49 |
Психология творчества Языкова
«не свободой» стимулировал творчество — достигни Языков желанной «холи благодатной» — и он бы совсем перестал писать.
 Но посмотрим внимательнее, что это так.
Но посмотрим внимательнее, что это так.
Посылая стихотворения, посвященные Воейковой, своему брату, Языков не раз предостерегает: не принимать их всерьез. Так, посылая стихотворение «Забуду ль вас», он пишет: «Сделай милость не толкуй в любовную сторону этих стихов: здесь одна комплиментика, следствие недостатка времени, духа и обстоятельств для произведения чего-нибудь достойнейшего моей Музы, игрушка ума или кимвал бряцаяй»38. За четыре дня до этого (Я. А. I, 220) Языков пишет: «Заметь кстати, что любовное еще не вовсе оставило мои стихотворения: это прямо следует из недостатка времени заняться чем-нибудь поважнее, а отнюдь не из сердца, чего со мной никогда не бывало, и отнюдь не из штанов, что бывало некогда!» По поводу стихотворения «Она меня очаровала», как сказано, Языков замечает, что здесь — притворство. Но уже самая настойчивость в разубеждении, какая-то опасливость, что ему не поверят, чувствуется у Языкова. Эту догадку подтверждает один факт, показывающий, что где-то в бессознательном Языков был задет Воейковой: он не может описать Воейкову. Еще до приезда Воейковой в Дерпт и до знакомства с ней Языков пишет: «она скоро сюда будет, я опишу тебе ее с ног до головы» (Я. А. I, 32). Спустя несколько времени: «Сюда, может быть, уже приезжала Воейкова...» и опять собирается ее описать (с. 49). После знакомства с Воейковой: «Вот тебе описание Воейковой: представь себе женщину... нет, лучше не представляй ничего — я Воейкову видел мало, вскользь, говорил с ней мало и потому прошу подождать до следующей почты» (с. 54). В следующем письме: «о Воейковой буду писать в следующем письме» (с. 56). Дальше: «скоро получишь ты мои литературные замечания о Воейковой» (с. 58). Еще некоторое время спустя он пишет, что умерла сестра Воейковой Мойер. «В вышеупомянутой причине моего недолгого молчания заключается и невозможность описать тебе Воейкову: итак, подожди до... не знаю чего» (с. 59). Замечательно, что та же черта сказывается в стихотворениях. Смирнов отмечает в языковских стихотворениях «реальность изображения женских красот, усвоенную Языковым от Батюшкова, составляющую сознательный противовес... тогдашним романтическим поэтам... которые в своих балладах и элегиях изображали бестелесных красавиц в виде призраков, совсем лишенных видимого образа» (с. 111). Ко всем языковским описаниям эта формула годится, кроме описаний Воейковой, потому что, в сущности, таких описаний нет вовсе: Воейкова единственно «Вы» или же то, что она для поэта (источник вдохновения), но никогда сама, то есть тело и облик ее. Единственно, может быть, глаза описаны Языковым. И только после смерти Воейковой образ ее оживает в стихах, когда явится она сама, а не она — вдохновительница, повелительница, властительница и т. д. (то есть она для поэта в отношении к поэту):
|
|
|
|
|
|
О, горе мне, когда забуду я
Огонь приветливого взора,
И на челе избыток стройных дум,
И сладкий звук речей, и светлый ум
В лиющемся кристалле разговора. (I, 223)
Еще один факт говорит против искренности писем: странствования пешком в деревню к Воейковой, которые породили насмешливую легенду друзей о 30-верстном странствовании Языкова39.
Такова Воейкова. Но не то другие «красавицы» — запечатленные в пластических образах. Если в начале, в дерптский период, описания граничат еще с условным
250
Психология творчества Языкова
Психология творчества Языкова
251
 описанием красавиц XVIII века, то в 30-х годах все больше развивается динамическая пластичность, осязательность образов. В Дерпте еще есть статические портреты, составленные из перечислений:
описанием красавиц XVIII века, то в 30-х годах все больше развивается динамическая пластичность, осязательность образов. В Дерпте еще есть статические портреты, составленные из перечислений:
Ея чело, ея ланиты,
Ея власы, ея уста
И очи — словно у Хариты... (I, 99)
Ланит и персей жар и нега,
Живые груди, блеск очей
И волны ветреных кудрей... (полн. ред. к «Аделаиде»)
Сокрой твои уста и очи
И злато вьющихся власов... (I, 156)
| 40. |
Такова же вся «античная» элегия: «Ты восхитительна, ты пышно расцветаешь» (I, 179).
Совсем иные описания 30-х годов
Чуть видны блестки огневые
Твоих лазоревых очей,
Блуждают кудри золотые
По скатам девственных грудей,
Ланиты рдеют пурпуровы,
Упали жаркие покровы
С младого стана до колен. (I, 227)
Высшей динамичности и пластики достигает элегия, посвященная цыганке Тане — «Блажен, кто мог на ложе ночи тебя руками обогнуть» (I, 209). Это почти «Вакханка» Батюшкова по пластичности.
Еще позднее, в «Жар-Птице», женские образы спрячутся в метафоры сравнения, уподобления. Но их реальная вещественность останется прежней. Вкус сказочного яблока Языков будет сравнивать с той «разымчивой сладостью»,
Которая струится в душу, если, Прильнув устами к розовым устам Любовницы прелестно молодой, Закроешь взор — и тихо, тихо, тихо, Из милых уст, в себя впиваешь негу: То пламенный и звонкий поцелуй, То медленный и томный вздох. (II, 1-2)
Или —
Вдруг обняла, откуда ни возьмись, Такая лень, решительно и сладко, Как резвая прелестница, что я Почти упал. (II, 10)
Или, наконец, там же:
Мои мечты пестрелись и кипели,
Как ярмарка — и вдруг одна из них,
Как юношу красавица, нежданно
Блеснувшая в народной толкотне,
Одна из них меня очаровала,
И ей одной я предался вполне,
Как юноша доверчиво и страстно. (II, 15)
«Пластические» образы спрятались в метафоры. Зато другие женские образы заступят впоследствии «идеальные образы» Воейковой, той, у которой была
i
Душа, одетая в черты
Богинь божественной Геллады... (I, 188)
Пред этими образами Языков будет теряться, как прежде перед Воейковой. Такова Киреева-Алябьева, о «классической красоте» которой говорил Вяземский41 и о которой Языков говорит:
Смешались, замерли и сбились Во мне все чувства и слова. (I, 329)
Ей же, «классической», Языков писал:
...Когда б вы жили Между греков в древни дни, Греки б вас боготворили: Вам построили б они Беломраморные храмы, Золотые алтари, Где б горели фимиамы От зари и до зари. (I, 327)
Свербеевой Языков будет писать о «потупленных взглядах», Серафиме Тепловой о «растерянности». Но если Языков так часто возвращается к этим «идеальным» образам, так часто в стихах делается их «рабом», то только потому, что где-то в бессознательном они действительно повелевают им. И ведь собственно здесь, в словах — «душой и сердцем робок я» — Языков говорит правду: достаточно вспомнить рассказы Вульфа. Если пластические «земные» образы принадлежат поэту, то этим «идеальным» образам он принадлежит. И если вообще Языков испытывал любовь (Белинский, например, в этом сомневался), то только к тем, кто обладал над ним этой идеальной властью. Прототипы образов пластических — мелки и незначительны.
Здесь он независим, значит не любит.
Кто хочет, жди ея награды... Но гордый славою своей, Поэт не склонит перед ней Свои возвышенные взгляды. (I, 56)
Совсем не только потому, что «неприлично» было писать о Воейковой или Воейковой в альбом стихи с «пластическими» описаниями, молчал Языков об реальном. Мы видели, что в письмах к брату, где он не связан был альбомными условностями, Языков все же не мог описать облика Воейковой. Она была изъята из круга прочих, поистине делалась «идеальной». И если бы Языков где-то в бессознательном не хотел плена, то кто мог бы его заставить писать для альбомов? Не отсюда ли и страх перед пленом, потому что запретное желание, подсознательное, «запертое сознанием на ключ», всегда вызывает страх. Отсюда же и толкование любви как зависимости, как плена:
Дается юноша беспечно
В неволю хитрой красоте. (В альбом Ш. К. I, 77)
Отсюда, наконец, и двойное отношение к любви: Языков, ищущий свободы, конечно будет искать и освобождения от любви. Еще в раннем стихотворении Языков восклицает:
Отдайте мне, Судьбы, блаженство прошлых дней.
Отдайте мирные отеческие сени
И сердце без любви и ум без заблуждений. (I, 12)
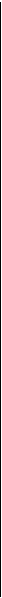 |
|
Психология творчества Языкова
 И позднее — славословия освобождению часто сливаются с радостью освобождения от любви, то есть любви «идеальной» или «лже-идеальной», о которой говорилось раньше, — той, где поэт рабствует, а не властвует.
И позднее — славословия освобождению часто сливаются с радостью освобождения от любви, то есть любви «идеальной» или «лже-идеальной», о которой говорилось раньше, — той, где поэт рабствует, а не властвует.
Теперь не то — я славлю Бога. Она прошла и не придет, Пора томительных забот, Моя сердечная тревога. (I, 75)
ИЛИ —
И глупость страсти роковой В душе исчезла молодой. Так с пробудившейся поляны Слетают темные туманы. Так, слыша выстрел, кулики На воздух мечутся с реки. (I, 58)
Можно бесчисленно умножать примеры, из которых видно, что любовь для Языкова — неволя, рабство, плен, и блаженство в освобождении («Я не влюблен, свободен я» I, 98).
Мои светлеют упованья, Печаль от сердца отошла, И с ней любовь: так пар дыханья Слетает с чистого стекла. (I, 59)
В другом месте опять возвращается тот же образ тумана — паров:
Как луч денницы прогоняет
Пары с проснувшихся полян... (I, 139)
Замечательно в связи с этим, что Языков в своих письмах никогда не пишет о своих снах, сновидениях. Должно быть, или он никогда не видел их (то есть не помнил наяву), или скрывал их, потому что и сон для него, конечно, пленение, оковы, обман, туман. Сон — это сонность, вялость, в противоположность «буйству», то есть независимости, и никогда для Языкова сон — вещее «откровение» романтиков: в лучшем случае какие-то легкие облака.
Твои безоблачные дни,
Как милый сон, мелькают живо. (I, 49)
И в связи с сном возвращается образ тумана-паров:
Поля, холмы благоухают:
С них белой скатертью слетают
И сои и утренняя мгла. (I, 115)
Впрочем, в одном стихотворении «Видение», образ, внушенный вдохновением, как будто сближается с образом сновидным. Но и здесь как-то подчеркнута «облачность» идеала, открывающегося в сновидении. Никоим образом этот идеал — ens realissimum.
Я млел, я таял, я стыдился,
Я задыхался и дрожал,
И утомленный пробудился. (I, 48)42
В одном отрывке все сказанное сосредоточено как в фокусе:
Пока в душе его желанья Мелькают, темные, как сон,
| 253 |
Психология творчества Языкова
 И твердый глас самосознанья Не возвестил ему, кто он. (I, 103)
И твердый глас самосознанья Не возвестил ему, кто он. (I, 103)
Но такое освобождение от пут, от любви, снов, конечно, может быть относимо только к одному центральному образу — Воейковой. Все остальные прототипы «пластических» красавиц слишком незначительны, чтобы всерьез можно было говорить о любви к ним как индивидуальностям. Дирина, может быть, должна была бы составить исключение, но Языков пишет: «в то же время, когда здесь нет Воейковой, я охотно посещаю Д[ирину], пишу даже ей стихи и вообще чувствую что-то ни на что не похожее; но Воейкова приезжает сюда всякий раз для меня торжественно; при ней все прежнее исчезает во мне, как снег перед лицом солнца, и я делаюсь частым ее зрителем и посетителем» (19/П 1824. Я. А. I, 116). Такое высказывание повторяется и позднее (27/VIII 1825. Я. А. 1825. I, 202).
Мы говорим, что есть основания не доверять письмам Языкова. Однако есть факты и косвенные свидетельства, говорящие о том, что Воейкова — не Дирина. Правда, есть стихи, которые Языков пишет в два альбома вдруг («Присяга»). Но все же Воейкова это — Муза. Исследователь теперь, спустя 100 лет, располагая собранием писем Языкова, из собирания воедино мельком в разное время оброненных фраз может составить себе представление о том, что скрывал Языков (с. 253): «Сюда, брат, ожидают В., надеюсь, что по приезде оной особы моя Поэзия приободрится и явится в прежней силе и славе» (с. 285); «В-ва, говорят, будет сюда к новому 1827 году. Вероятно, она снова сильно подействует на мою поэтическую деятельность благодетельно, несмотря на хлюст!» (с. 319); «В-ва, как слышно, скоро или вообще нынешнею весною сюда будет; этот случай, конечно, оживит мою жизнь, Музу и вообще все мое хорошее — дай Бог, дай Бог!»
В одном письме Языков цинично говорит о том же (с. 223): «это похоже на питье водки для возбуждения голода неестественного, еще более похоже на принятие внутрь шпанских мушек для восстановления любовного зуда».
Кроме Дириной вот остальные прототипы, по свидетельству Татаринова (Я. А. I, 396): Анета — «если я не ошибаюсь, то под этим именем воспевал он уже несколько устаревшую, толстую, хотя и красивую разнощицу яблок и слив, конечно, никогда не читавшую стихов Языкова»; Марья Петровна — «была очень хорошенькая, молоденькая дочь русского купца, с которой Языков едва ли когда-либо говорил»; Аделаида, «возбудившая кипучее, страстное послание, была просто публичная дрянная девка».
Правда, Поляков43 смягчает отзыв Татаринова, указывая на то, что об «Аделаи-де», цирковой наезднице, производившей впечатление на дерптских студентов и имевшей ревностных поклонников, упоминает поэт в одном из писем к родным.
Но все же психологическую даль, рознь не выкинешь и не вычеркнешь; здесь не плен, а наоборот, власть поэта. Им, конечно, не «рабствует», наоборот, они живут благодаря ореолу, которым окружает их поэт:
Предайся мне, любви забавы Я песнью громкой воспою И окружу лучами славы Младую голову твою. (I, 101)
Такая же биографическая даЛь существовала между цыганкой Таней, которой посвящены три замечательных стихотворения Языкова, и поэтом. Языков поверх реальных образов смотрел, и окружать лучами славы младые головы «хищных дев» только потому мог, что их образы были предлоги, поводы для восхождения к «идеалу».
Психология творчества Языкова
Психология творчества Языкова
255


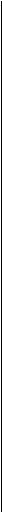 Плен, конечно, не у них. Зато тройной плен альбомных мадригалов, внешнего принуждения к стихописанию, привязанности — там, где нет пластики, где гипербола
Плен, конечно, не у них. Зато тройной плен альбомных мадригалов, внешнего принуждения к стихописанию, привязанности — там, где нет пластики, где гипербола
«идеала».
Языков рад освобождению от «идеальной» любви, потому что его подлинный идеал ни там, ни здесь: странным образом Муза носит черты и тех и других: она «бессмертный Ангел вдохновенья» (I, 50), «девственная» (I, 10), «богиня мужественных дум» (I, 124), «ангел светлоокий» (I, 256) и она же вольная (I, 88), пылкая (I, 44, 158).
Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 48; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!

