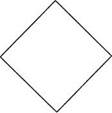Спор Паскаля и Ноэля о пустоте и теле 16 страница
(Боратынский. «Богдановичу». 25-28 [1824])
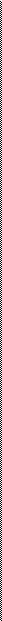 |  | ||||
 | |||||
|
|
5 _____________________________________________
Но совсем не только извне «немецкая хандра» была привита нам. Какие-то внутренние условия культивировали меланхолию этой эпохи. Особенно ярко она выявится, если взять рядовое, а не исключительное произведение эпохи, не Жуковского, а, например, Петра Васильевича Победоносцева, адъюнкта Мерзлякова, позднее профессора российской словесности в Московском Университете. 25-ти лет, в 1796 году он издал в 2-х частях «Плоды меланхолии, питательные для чувствительного сердца» с характерным эпиграфом из Цицерона: Difficile est tacere, cum ■ dolens. Здесь какой-то обостренный эрос к гробам и могилам, который ищет себе пищи решительно всюду, — болезненный моноидеизм, idйe fixe смерти и тления. «Мир сей ничто иное есть, как гроб обширный и для всех отверстый. Все то, что нас окружает, все то, что нас питает — ознаменовано черною печатью смерти, усеяно семенами ее, упоено ядом ее» (I, 81-82). «Ее рукою совлекаются маски, стираются румяна — все обнажается» (I, 80). Вещи мира — «безделки, румяною наружностью блещущие, а внутри изощренные иглы скрывающие» (I, 88). Здесь все еще в клубке: монашество и предвестия байронизма. Только в 1846 году, ровно через 50 лет, Жуковский статьей «О меланхолии в жизни и поэзии» проведет грань между «байронической меланхолией» и «христианской скорбью». — А вот архивный юноша Титов («О достоинстве поэта». Моск. Вестн. 1827. Ч. 2. С. 230-236): «Поэт живет отшельником от действительного мира» (230), ибо «всечасный, горестный опыт убеждает нас, что счастье нельзя искать в предметах внешних: все проходит, изменяется». Чувство времени обостряется до крайности, до Гераклитовского Πάντα peо. Позднее оно приведет к чувству истории. Подлинная история, История с большой буквы для Веневитинова и его друзей внутри, в нескончаемом потоке времени — психики. Погодин в 1834 году будет говорить: «Ни в какой книге, ни в какой библиотеке, ни в каком Университете нельзя узнать ее так, как в глубине души своей. Там только она воспроизводится, по крайней мере подобие ее полное, совершенное, возможное на земле» (Лекция о всеобщей истории в «Ист. Афоризмах». М.,
|
|
|
1836. С. 127).
А над всем, над потоком — нирваническое небытие. Знаменательно, что любомудр Одоевский читает в кружке Раича перевод из Окена: о значении нуля, в котором успокаивается плюс и минус, перевод, который вызвал иронический смех барона Брамбеуса. Погодин заносит в Дневник в 1822 году о немцах: «Из нуля выводят нам все» (Барс. I, 207). Тут, в этом чувстве небытия — и нирванический пантеизм, и эротика смерти романтиков, и Спиноза, и система тождества Шеллинга. Позднее Тютчев скажет:
|
|
|
Поочередно всех своих детей, Свершающих свой подвиг бесполезный, Она равно приветствует своей Всепоглощающей и миротворной бездной.
Из этой-то меланхолии (чувства смерти) и родилась русская эстетика: из стремления преодолеть вечно движущуюся текучесть — закрепить и сделать устойчивым то, что грызло тление. Все растекалось и протекало. Меланхолия, о которой мы говорили, порождала раскол (а может быть и порождалась им) — раскол бессознательной эмоциональной жизни и внешней вещи. Внешний мир обесценивался, потому что не мог дать адекватного выражения текучей индивидуальности эмоции, эмоции hic et nunc, — превращался в «гроб для всех отверстый», — распадался в прах. Но и сама эмоция, оторвавшись от внешнего и отвергнув навсегда всякое свое выражение — внешние устои, — должна была или рассыпаться, или вести
| 219 |
Эстетика Веневитинова
 подавленную жизнь под гнетом уничтожения. Никто, быть может, так остро, как Веневитинов и его друзья, не чувствовал внутреннего умирания — остывания души. Текучее, индивидуальное, неповторяемое не может найти адекватного знака для своего запечатления и потому не может быть познанным. Иррационализм — вот фон меланхолии. Из борьбы с этими тенденциями мысли и родился вопрос об эстетике, взволновавший, а позднее расколовший Веневитинова и его друзей. «Поверять, распознавать было главным занятием его рассудка, — говорится в Предисловии к Поли. собр. соч. Веневитинова 1829 года (Ч. 1. С. IV), — оттого, несмотря на веселость, даже самозабвение, с которым он часто предавался минутному расположению духа, характер его был совершенно меланхолический». Nota bene! Из рефлек сии — меланхолия, то есть из сознания неприступности и неисчерпаемости для ума душевной тьмы эмоций. Спасительным якорем именно здесь была германская философия. Германия шла к вопросам эстетики именно по тому же пути: от Sturm und Drang'a, Гамановского иррационализма к «разуму» Шлегеля и Шеллинга, преодолевающему «рассудок» и примиряющему философию с поэзией, рефлексию с темными аффектами «ночной стороны» души.
подавленную жизнь под гнетом уничтожения. Никто, быть может, так остро, как Веневитинов и его друзья, не чувствовал внутреннего умирания — остывания души. Текучее, индивидуальное, неповторяемое не может найти адекватного знака для своего запечатления и потому не может быть познанным. Иррационализм — вот фон меланхолии. Из борьбы с этими тенденциями мысли и родился вопрос об эстетике, взволновавший, а позднее расколовший Веневитинова и его друзей. «Поверять, распознавать было главным занятием его рассудка, — говорится в Предисловии к Поли. собр. соч. Веневитинова 1829 года (Ч. 1. С. IV), — оттого, несмотря на веселость, даже самозабвение, с которым он часто предавался минутному расположению духа, характер его был совершенно меланхолический». Nota bene! Из рефлек сии — меланхолия, то есть из сознания неприступности и неисчерпаемости для ума душевной тьмы эмоций. Спасительным якорем именно здесь была германская философия. Германия шла к вопросам эстетики именно по тому же пути: от Sturm und Drang'a, Гамановского иррационализма к «разуму» Шлегеля и Шеллинга, преодолевающему «рассудок» и примиряющему философию с поэзией, рефлексию с темными аффектами «ночной стороны» души.
|
|
|
Если бы кто попытался определить idйe directrice Веневитинова, то вряд ли на чем другом мог остановиться его выбор, как на идее согласия мысли и чувства. Но это согласие — лишь предмет стремлений, недостижимый край желаний. С какой-то тайной завистью Веневитинов говорит о блаженстве того, кто
|
|
|
...сочетает с сединой
"'" Воображенье молодое
И разум с пламенной душой.
(«К. И. Герке», 1825) В предсмертном стихотворении «Поэт и друг» знаменательны слова о поэте:
В нем ум и сердце согласились...
В этом же согласовании ума и сердца основной пафос прозаических отрывков Веневитинова. В «Письме к графине NN» о философии он пишет: «Не вы ли сами заметили мне, что одно чувство наслаждения, при взгляде на какое-нибудь изящное произведение, для вас неудовлетворительно, что какое-то любопытство заставляло вас требовать от себя отчета в этом чувстве, — спросить, какою силою оно возбуждается, в какой связи находится с прочими способностями человека? Таким образом, сделали вы сами собою первый шаг к храму Богини, которая более всех прочих таится от взоров смертных». В статье «Несколько мыслей в план журнала» Веневитинов пишет: «у нас чувство некоторым образом освобождает от обязанности мыс лить, и прельщая легкостью безотчетного наслаждения, отвлекает от высокой цели Усовершенствования». В этом пункте Веневитинов не был одинок. В первой части «Московского Вестника» Степан Петрович Шевырев помещает «Разговор о возможности найти единый закон для изящного» (М. В. 1827. Ч. 1. С. 32-51). Разговор четырех юношей, Евгения, Платона, Лициния и Аполлона, вращается вокруг того Же вопроса. Главные собеседники Лициний и Евгений спорят о возможности эстетики. Лициний защищает иррационалистическую позицию: «Пусть душа предается Наслаждениям изящного: зачем ей теряться в бесполезных умствованиях, когда она
 | ||
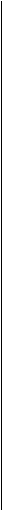 |
220 |
Эстетика Веневитинова
довольна своими восторгами?.. Таких людей я сравниваю с бездушными посетите -иями театра, которые после каждого действия смотрят на часы и временем измеряют свое наслаждение» (с. 35). Евгений развивает взгляды Веневитинова: «почему предмет, нас поражающий, прекрасен? Какие чувства он в нас производит? И какою силою он так сотворен?..» (с. 38). «Ты смотришь на бурю, ты увлечен порывом восторга; но прошла она — не вопрошает ли тебя ум, какою чудесною силою потрясена была вся природа и могучая душа твоя?» (с, 39). В Харькове Иван Яковлевич Кронеберг, на «Амалтею» которого указывает Веневитинов в разборе рассуждения Мерзлякова, развивал те же мысли — вплоть до 30-х годов, когда в издаваемых им «Брошюрах» писал (№ VI. 1831. С. 8 = Минерва I, 159-160): «Всякий, который, восхищаясь произведением кисти или резца, музыки или поэзии, восклицает: это прекрасно! Это бесподобно! думает, что он сими волшебными словами переселяется в Эстетику, как в область столько же ему принадлежащую, как и чувствуемое им удовольствие или неудовольствие. Одушевляемые таким чувством находятся в удивительном согласии; но потребовать от них отчета в сих чувствованиях, значит кинуть яблоко раздора. Одни безмолвствуют, и эти чуть ли не благоразумнее тех, кои пускаются в пучины рассуждения без руля и компаса, и, не умея руководствоваться наблюдением звезд, подвергаются неминуемой погибели». Интересно суждение о Гердере и Канте (ibid. 51 = Минерва I, 200): «на голых высотах его [Канто-вой] Философии едва ли мог прозябать хоть один цветок Поэзии, а посему-то и восстал против него пламенный пиитический сын природы Гердер, восстал, излил свой гнев, и собственно — ничего не доказал...» И здесь тяготение туда, где «ум и сердце согласились», философия примирена с поэзией.
 Идея верховного синтеза мысли и чувства проходит, как мы сказали, красной нитью сквозь творчество Веневитинова. Свое развитие она получает в идее трех этапов истории. В своем письме к А. И. Кошелеву по поводу статьи о Мерзлякове Веневитинов различает три эпохи: эпическую, лирическую и драматическую. «Эти эпохи составляют эмблему не только всего рода человеческого, но жизни всякого, самого времени» (Колюпанов I, 2, 118). В первую — господствует видимый мир — это эпоха прошедшего (Гомер, Пиндар). Во вторую — преобладает мысль, независимая от мира (эпоха настоящего), в третью — «мысль будет в совершенном примирении с миром». В том же письме Веневитинов дважды повторяет выражение «раззнакомиться с природой» (117, 119), для того, чтобы подчеркнуть необходимость отрыва от природы во вторую эпоху. Та же мысль проводится в диалоге Платона с Анаксагором: «Царем природы может назваться только тот, кто покорил природу; и следственно, чтобы познать свою силу, человек принужден испытать ее в противоречиях — оттуда раскол между мыслью и чувством». Дальше Веневитинов применяет эту мысль к художественному творчеству: «Представим себе Фидиаса, пораженного идеею Аполлона. В душе его совершенное спокойствие, совершенная тишина. Но доволен ли он этим чувством?.. Нет, Анаксагор! Эта тишина предвестница бури. Но когда вдохновенный художник, победив все трудности своего искусства, передал мысль свою бесчувственному мрамору, тогда только истинное спокойствие водворяется в душу его». В том же художественном разрезе повторяется та же мысль в статье «Несколько мыслей в план журнала»: «Художник одушевляет холст и мрамор для того только, чтоб осуществить свое чувство, чтоб убедиться в его силе; поэт искусственным образом переносит себя в борьбу с природою, с судьбою, чтоб в сем противоречии испытать дух свой и гордо провозгласить торжество ума». Или еше резче: «Чувство только порождает мысль, которая развивается в борьбе, и тогда, уже снова обратившись в чувство, является в произведении». Отрывок «Утро,
Идея верховного синтеза мысли и чувства проходит, как мы сказали, красной нитью сквозь творчество Веневитинова. Свое развитие она получает в идее трех этапов истории. В своем письме к А. И. Кошелеву по поводу статьи о Мерзлякове Веневитинов различает три эпохи: эпическую, лирическую и драматическую. «Эти эпохи составляют эмблему не только всего рода человеческого, но жизни всякого, самого времени» (Колюпанов I, 2, 118). В первую — господствует видимый мир — это эпоха прошедшего (Гомер, Пиндар). Во вторую — преобладает мысль, независимая от мира (эпоха настоящего), в третью — «мысль будет в совершенном примирении с миром». В том же письме Веневитинов дважды повторяет выражение «раззнакомиться с природой» (117, 119), для того, чтобы подчеркнуть необходимость отрыва от природы во вторую эпоху. Та же мысль проводится в диалоге Платона с Анаксагором: «Царем природы может назваться только тот, кто покорил природу; и следственно, чтобы познать свою силу, человек принужден испытать ее в противоречиях — оттуда раскол между мыслью и чувством». Дальше Веневитинов применяет эту мысль к художественному творчеству: «Представим себе Фидиаса, пораженного идеею Аполлона. В душе его совершенное спокойствие, совершенная тишина. Но доволен ли он этим чувством?.. Нет, Анаксагор! Эта тишина предвестница бури. Но когда вдохновенный художник, победив все трудности своего искусства, передал мысль свою бесчувственному мрамору, тогда только истинное спокойствие водворяется в душу его». В том же художественном разрезе повторяется та же мысль в статье «Несколько мыслей в план журнала»: «Художник одушевляет холст и мрамор для того только, чтоб осуществить свое чувство, чтоб убедиться в его силе; поэт искусственным образом переносит себя в борьбу с природою, с судьбою, чтоб в сем противоречии испытать дух свой и гордо провозгласить торжество ума». Или еше резче: «Чувство только порождает мысль, которая развивается в борьбе, и тогда, уже снова обратившись в чувство, является в произведении». Отрывок «Утро,
Эстетика Веневитинова
 поддень, вечер и ночь» иллюстрирует все то же: человек сначала погружен в блаженство младенческого созерцания, затем изгоняется из рая, замыкается в себе, противопоставляя себя природной необходимости, и вступает с природой в противоборство. Затем наступает вечер — любовь, но только ночь скрывает от человека все явления и он погружается в себя. «Только теперь душа его свободна. Предметы, пробудившие ее к существованию, не останавливают ее более; они быстро исчезают перед нею и она созидает свой собственный мир, независимый от того мира, где все ей казалось разноречием. Только теперь познает человек истинную гармонию»5. Из последнего отрывка видно, что согласие мысли с миром, о котором Веневитинов говорит в письме к Кошелеву, в значительной мере есть возвышение над миром в иной мир. Это подтверждают и стихотворения. Мы знаем, что мир-толпа для Веневитинова шум. Звуки лирные, то есть истинная гармония — конечно в другом мире:
поддень, вечер и ночь» иллюстрирует все то же: человек сначала погружен в блаженство младенческого созерцания, затем изгоняется из рая, замыкается в себе, противопоставляя себя природной необходимости, и вступает с природой в противоборство. Затем наступает вечер — любовь, но только ночь скрывает от человека все явления и он погружается в себя. «Только теперь душа его свободна. Предметы, пробудившие ее к существованию, не останавливают ее более; они быстро исчезают перед нею и она созидает свой собственный мир, независимый от того мира, где все ей казалось разноречием. Только теперь познает человек истинную гармонию»5. Из последнего отрывка видно, что согласие мысли с миром, о котором Веневитинов говорит в письме к Кошелеву, в значительной мере есть возвышение над миром в иной мир. Это подтверждают и стихотворения. Мы знаем, что мир-толпа для Веневитинова шум. Звуки лирные, то есть истинная гармония — конечно в другом мире:
Смирится гордое желанье
Обнять весь мир в единый миг,
И звуки тихих струн твоих
,, ; Сольются в стройные созданья,
(«XXXIII», 1826-27)
то есть где-то, в стороне от мира.
Эта мысль об обретении верховной слиянности мысли и чувства, о гармонии души, связывается у Веневитинова с образом золотого века. Образ этот имел уже в эпоху Веневитинова сложную родословную. Здесь слились «буколические» темы Вергилия, французов (Грессе, например), немцев (Гесснер) и других, с одной стороны, масонские идеи о золотом веке, с другой (век Астреи, ложа Астреи), и, наконец, темы пра-народа (Urvolk), пра-истории и т. д., характерные для целого ряда шеллингианцев.
Еще одно имя следует упомянуть здесь: Шиллера, с воззрениями, исправляющими Руссо и восстающими против пессимистической оценки культуры. Для Шиллера состояние культуры, как отрыва от природы, есть лишь переходная ступень к высшему синтезу природы и культуры — возвращение к золотому веку природного ! бытия, обогащение всеми сокровищами бытия культурного.
Необходимо распутать этот сложный клубок влияний. «Буколичность» Веневи-: тинова отметил Хомяков еще в начале 20-х годов («Послание к Веневитиновым»). ; В отношении буколичности идеи золотого века характерно сопоставить слова Ве-| невитинова «неужели ты представляешь себе золотой век вымыслом поэта, игрою . воображения» и «золотой век точно существовал и снова ожидает смертных» с сло-: вами Зульцера (Allgemeine Theorie der schцnen Kьnste статья Hirtengedichte): «Der i Hirtenstand ist keine Erdichtung, er ist der Stand der Natur vieler Vцlker gewesen und ist es auch noch itzt». Шеллингианские элементы мы отметим позднее; но сейчас же Надо указать на возможные «шиллеровские» влияния извне. Что Шиллер создал в среде некоторых архивных юношей особый культ, напоминать не стоит. Если Рожалин и Веневитинов и считали себя больше гётеанцами, тем не менее Веневи-i тинов не мог не усвоить отдельных шиллеровских идей: шиллеровский дух носился в атмосфере. Как на особых почитателей Шиллера следует указать на Погодина и Шевырева. Последний переводил Шиллера и перевел между прочим (правда, В 1827 году, год смерти Веневитинова) «Четыре века» (Моск. Вестн. Ч. I. 1827. С. 164-166). Погодин в дневнике записывает (Барс. II, 19): «У Шиллера я нашел свои мысли». А в другой раз (II, 20): «Читал биографию Шиллера и воспламенялся.
7?. 2
Эстетика Веневитинова
Эстетика Веневитинова
223
 Когда я буду Шиллером?» (обе записи относятся к 1826 году). Стимулом для Веневитинова оформить бродившие в нем чаяния золотого века было чтение Платона, что видно из письма Веневитинова к Кошелеву летом 1825 года. В этом интересном письме (см. Колюпанов I, 2,116) Веневитинов сближает золотой век с библейским раем. К этой же эпохе относится и диалог Платона с Анаксагором о золотом веке. Замысел диалога с необыкновенной ясностью формулирован в только что упомянутом письме: «Если цель всякого познания, цель философии есть гармония между миром и человеком (между идеальным и реальным), то эта же самая гармония должна быть началом всего. Всякая наука, чтобы быть истинною наукою, должна возвратиться к своему началу; другой цели нет». В диалоге говорится о трех возрастах человека — о младенчестве, о юности и возмужалости и о старости. Проходя их, жизнь описывает круг. «Вот жизнь человека! Она снова возвращается к своему началу». То же и для человечества: вернется золотой век. «Верь мне, Анаксагор, верь мне, она снова будет, эта эпоха счастья, о которой мечтают смертные». Эта эпоха счастья есть примирение противоборствующих ума и чувства, возвращение в рай, к началу. В письме к Кошелеву Веневитинов пишет, что «в раю» для «первобытного Адама» — «все чувства были мысли». Стоит ли напоминать, что о социальном переустройстве архивные юноши не думали. Не стоит подчеркивать, что золотой век должен был, по взгляду Веневитинова, прийти апокалиптически и мистически, а не революционно. Только позднее золотой век будет будить иные чувства: Щедрин пишет о кружке Петрашевского — «оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век" не позади, а впереди нас»... Конкретные социальные мечты юношей 20-х годов были гораздо более буколичны: А. С. Норов восклицает (Колюпанов I, 2, 54): «О, если бы все на свете бездельники от безделья только бы и делали, что писали стихи: тогда сильный не притеснял бы слабого, а в судах не брали бы взяток!» Вернее, вообще при таком утопании в стихах не было бы действий, золотой век был бы чистым созерцанием, может быть, мистика, может быть, homo philologus'a. Колюпанов сближал «архивных юношей» Александровской эпохи с «гвардейцами» Екатерининской (I, 2, 59). Можно согласиться с этим сближением, но надо подчеркнуть: это «гвардейцы» с парализованной волей, напоминающие штабс-капитана артиллерии Ильина, который, выйдя в отставку и погрузившись в мистику, стал писать стихи «Догмат покаяния без духовника или бомба Божьей артиллерии». Тема движения по кругу, возвращения к началу, была вообще характерна для круга друзей Веневитинова. В «Московском Вестнике» (Ч. 1. 1827. С. 208-214) критик «Исторических Афоризмов» Погодина, скрывавшийся за инициалом Р., дает приблизительно такую схему возрастов человека, повторяющуюся в мировой истории:
Когда я буду Шиллером?» (обе записи относятся к 1826 году). Стимулом для Веневитинова оформить бродившие в нем чаяния золотого века было чтение Платона, что видно из письма Веневитинова к Кошелеву летом 1825 года. В этом интересном письме (см. Колюпанов I, 2,116) Веневитинов сближает золотой век с библейским раем. К этой же эпохе относится и диалог Платона с Анаксагором о золотом веке. Замысел диалога с необыкновенной ясностью формулирован в только что упомянутом письме: «Если цель всякого познания, цель философии есть гармония между миром и человеком (между идеальным и реальным), то эта же самая гармония должна быть началом всего. Всякая наука, чтобы быть истинною наукою, должна возвратиться к своему началу; другой цели нет». В диалоге говорится о трех возрастах человека — о младенчестве, о юности и возмужалости и о старости. Проходя их, жизнь описывает круг. «Вот жизнь человека! Она снова возвращается к своему началу». То же и для человечества: вернется золотой век. «Верь мне, Анаксагор, верь мне, она снова будет, эта эпоха счастья, о которой мечтают смертные». Эта эпоха счастья есть примирение противоборствующих ума и чувства, возвращение в рай, к началу. В письме к Кошелеву Веневитинов пишет, что «в раю» для «первобытного Адама» — «все чувства были мысли». Стоит ли напоминать, что о социальном переустройстве архивные юноши не думали. Не стоит подчеркивать, что золотой век должен был, по взгляду Веневитинова, прийти апокалиптически и мистически, а не революционно. Только позднее золотой век будет будить иные чувства: Щедрин пишет о кружке Петрашевского — «оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век" не позади, а впереди нас»... Конкретные социальные мечты юношей 20-х годов были гораздо более буколичны: А. С. Норов восклицает (Колюпанов I, 2, 54): «О, если бы все на свете бездельники от безделья только бы и делали, что писали стихи: тогда сильный не притеснял бы слабого, а в судах не брали бы взяток!» Вернее, вообще при таком утопании в стихах не было бы действий, золотой век был бы чистым созерцанием, может быть, мистика, может быть, homo philologus'a. Колюпанов сближал «архивных юношей» Александровской эпохи с «гвардейцами» Екатерининской (I, 2, 59). Можно согласиться с этим сближением, но надо подчеркнуть: это «гвардейцы» с парализованной волей, напоминающие штабс-капитана артиллерии Ильина, который, выйдя в отставку и погрузившись в мистику, стал писать стихи «Догмат покаяния без духовника или бомба Божьей артиллерии». Тема движения по кругу, возвращения к началу, была вообще характерна для круга друзей Веневитинова. В «Московском Вестнике» (Ч. 1. 1827. С. 208-214) критик «Исторических Афоризмов» Погодина, скрывавшийся за инициалом Р., дает приблизительно такую схему возрастов человека, повторяющуюся в мировой истории:
Возраст младенческий
|
|
| Зрелость (ум) |
| Старость |
Юношество (страсти)
На второй и третьей ступени мы «розним стихии бытия нашего». В старости «мирятся желанья с умом» — «все возвращается к своему началу» (с. 211).
Мы видим, что тема кругового движения сознания раскрывалась у Веневитинова и его друзей в богатых образах, в аспекте конкретном и реальном. Истоки этих образов были указаны. Но не могли не влиять и немецкие абстрактные положения. Уже у Фихте мы читаем, что «наука проделывает круг и покидает исследователя у той самой точки, из которой она вместе с ним вышла» (Ueb. d. Begr. der Wissenschaftslehre S. W. Bd. I. S. 59). К Фихте примыкает молодой Шеллинг. Позднее Гегель в «Науке логики» (S. W. Bd. S. 61) скажет: «существенное для науки состоит... в том, чтобы целое образовало в себе круг, в котором первое есть также и последнее, а последнее есть также и первое». Ближайший детальный контекст, может быть, и вскрыл бы некоторые разноречия между Фихте — Шеллингом, с одной стороны, и русскими их сторонниками — с другой. Но одно бесспорно, как мы сейчас увидим: с веневитиновской идеей синтеза ума и чувства тесно сплелась шеллинги-анская идея синтеза поэзии и философии. Исторически такое сближение антитезы ум — чувство, философия — поэзия было оправдано: уже в середине XVIII века в немецкой поэтике стал противопоставляться язык понятий языку образов, как язык рассудочный языку аффектов.
Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!