Спор Паскаля и Ноэля о пустоте и теле 22 страница
Бывало с трубки дым летит, Свиваясь кольцами густыми: И Муза пылкая дарит Меня стихами золотыми (Бычк. 7)
В письме к Вульфу44 Языков пишет: «рука времени так пригладила вольные кудри моей музы, что она больше походит на рекрута, нежели на студентскую прелестницу». И вот в этом постоянно двоящемся образе Музы — Ангела и Музы — студентской прелестницы — подлинное разъяснение поэтических антиномий Языкова: ни то, ни другое только — языковская муза. И если она,
Ярки очи потупляя, Вольны кудри поправляя,
чинно кланяется «благонравным» музам московских поэтесс, то ведь где-то, в какой-то глубине Муза самого Языкова была именно той вдохновительницей, которую он видел всегда в другом человеке, или вернее в том строгом женском лике, который ему виделся за «эмпирической» Воейковой, Тимашевой, Каролиной Павловой или кем другим.
Когда узнаю я, что делаете вы? —
пишет он К. Павловой, —
Как распевает муза ваша?
Какой венок теперь на ней?
Теперь, когда она, родная нам, гуляет
Среди московских муз и царственно сияет,
Она, любезная начальница моей. (I, 297)
«Бессмертный ангел вдохновенья» самого Языкова, а не Муза К. Павловой, конечно, в действительности повелевал Языковым. Но для творчества истинного нужно сознавать, что не мое, не мне принадлежит то, что на деле и есть искони мое: вернее, всегда нужно сознавать до конца какую-то свою часть как не свою, как вдохновение извне. Не принуждение того или иного лица извне давило Языкова: вовне проецировалось языковское идеальное Я или сверх-Я: Воейкова могла быть Музой, но Муза все же не Воейкова. Гнет изнутри шел и эмпирическую, дневную личность сковывал. И только искусственно эмпирическое Я делалось равно «идеальному» Я: дифирамбы вину отсюда. Алкоголь создавал это равенство, и в этом алкогольном освещении осуществлялось «тождество идеального и реального». Это и было тем вдохновением, в котором «идеал — я», «Муза», переставало быть недосягаемой трансцендентальностью, свыше судящий дела и сознание Языкова. «Языков был, как известно, страшно застенчив, — рассказывает А. Н. Вульф45, — но и тот, бывало, разгорячится — куда пропадает застенчивость — и что за стихи, именно языковские стихи, говорил он то за чашей пунша, то у ног той же Евпраксии Николаевны» (сестры Вульфа). А Татаринов рассказывает о дерптском Языкове (Я. А. I,
|
|
|
394): «Вообще Η. Μ. Языков не был словоохотен, не имел дара слова, редко вдавался в прения и споры и только отрывистыми меткими замечаниями поражал нас... только на пирушках, в полном вакхическом разгуле, он соглашался декламировать стихи свои».
Погодин дополняет Татаринова образным описанием: «казалось, это юный Вакх в лавровом венце, сияющий и радостный, поет, возвращаясь из Индии».
|
|
|
Именно здесь, в этом искусственно (то есть токсически) преодолеваемом разладе «эмпирической» и «идеальной» личности, — когда ядом алкоголя парализуется все деспотически контролирующее, — подсознательное Я делает сознание своим послушным и безвольным орудием. И именно здесь пролегает путь к архетипам, прообразам, первоистокам языковского творчества, лежащим в сумеречном подсознательном. Должно всмотреться в них пристальнее.
IV
Неслучайно Боратынский, увидев Волгу в 1829 году, вспомнил о Языкове. Вот что он пишет Киреевскому46: «Россию можно проехать из конца в конец, не увидав ничего отличного от того места, из которого выехал. Все плоско. Одна Волга меня порадовала и заставила меня вспомнить Языкова». Действительно, Волга и Языков связаны как-то существенно-неразрывно. И не только Боратынский это чувствовал.
Вниз по Волге по широкой Сны и песнь твои неслись —
пишет Вяземский («Поминки». 1883, стр. 9). Исследователи и биографы говорили о том же: «Η. Μ. Языкова очень рано заставили взяться за лиру дивная природа родного села, и, прежде всего, Волга... Необозримое водное раздолье реки, удалые песни рыбарей, полулегендарные сказания о приволжских разбойниках — вот что содействовало раннему развитию творчества поэта и дало ему впоследствии неиссякаемый источник вдохновения»47. «Не подлежит сомнению, что величие и пышность Волги и в то время еще девственное состояние окружающей ее мощной прибрежной природы навеяли особый колорит на его поэзию — преимущественную силу, восторженность и яркость образов при описании вообще картин природы, а равно вызвали влечение к изображению наиболее сильных движений в природе вообще и в частности водного царства48.
|
|
|
Упоминания о Волге, обращения к Волге не стоит перечислять. Бесчисленное количество раз воспеты Языковым
И Волги пышные брега
И Волги радостные воды («Родина»)49.
Даже воспевая Рейн, он вспоминает о Волге:
Я волжанин: тебе приветы Волги нашей
Принес я. Слышал ты об ней?
Велик, прекрасен ты! Но Волга больше, краше,
Великолепнее, пышней,
И глубже, быстрая, и шире, голубая!
Не так, не так она бурлит,
Когда поднимется погодка верховая
И белый вал заговорит. (I, 298)
256
Психология творчества Языкова
Психология творчества Языкова
257
Волга у Языкова пра-образ, Ur-bild, архетип. Ветви этого образа — ряд образов вторичных. Волга принадлежит к «идеям-матерям» в творчестве Языкова. С Волгой связаны те родоначальные впечатления, от которых все потом исходит. Так, несомненно, от образа Волги изводится языковский образ родины. Самое слово «родина» у Языкова двузначно: «родина» Языкова — и село Языково Симбирской губернии, и Россия. Уже раньше пришлось нам указать, как сильно стремится Языков из Дерпта в Симбирск, где, думается ему, он только и сможет «застихотворствовать». Позднее, в болезненный заграничный период, из курортов Германии и Австрии он будет стремиться на «родину», то есть не только в Россию, а в Симбирск, именно, главным образом, прежде всего в Симбирск.
|
|
|
В Симбирск я возвращусь, в мое уединенье,
В покой родимого гнезда,
На благодатное привольное сиденье. (I, 271)
Симбирск — «страна родная» (I, 14), «родимая сторона» (I, 256). Еще в раннем стихотворении 1822 года Языков восклицает:
О незабвенный край, о родина моя! Страна, где я любил лишь прелести природы; Где юности моей пленительные годы Катились весело незримою струей. (I, 11)
Родовое имение, вотчина около Симбирска — вот конкретный прообраз всей той лирики родины, отечества, которая будет все ярче расцвечиваться в жизни Языкова, точно так же как Дерпт, реальный Дерпт — прототип «Германии вообще», «немецкой нехристи». Еще один характерный образ Языкова связывается с Волгой и симбирскими ранними впечатлениями поэта. Смирнов в своей монографии связывает языковское «влечение к изображению наиболее сильных движений... водного царства» с Волгой (стр. 9). Он же правильно говорит в другом месте о «водной стихии» как о стихии «любимой» Языковым (стр. 170). Эту особенность, впрочем, отметил еще Шевырев: «Волга шумом волн своих, конечно, много участвовала в первых впечатлениях поэта и отозвалась после в гармонии стихов Ниагарского водопада, двух пловцов, Песни разбойников, картины самой Волги сравнительно с Рейном» и т. д. Действительно, влага, вода у Языкова — вообще частый, вечно возвращающийся образ. Но это не «вода просто», а индивидуализированная, своеобразная, конкретная вода. Достаточно одного противопоставления: у немецких романтиков и их предшественников воды или аллегоричны (море жизни, времени, судьбы), или тактильно-бесформенны — диспластичны (холодная роса на горячей коже и т. п.). У Языкова вода как-то сочетает пластичность и с подвижностью, и стеклянной прозрачностью. Вода — кристалл. И в ней нет мистически аллегорического привкуса:
Одежду прочь! перед челом Протянем руки удалые И бух! — блистательным дождем Взлетают брызги водяные. Какая сильная волна! Какая свежесть и прохлада! Как сладострастна, как нежна Меня обнявшая Наяда! (I, 116)
Это река Сороть в Тригорском, а не голубеющий поток Новалиса. Вода — стекло-стеклянная стена водопада, стеклянный ручей, стеклянный «брызг» волн, родник
стеклянных вод, светло-стеклянные струи, стекло зыбей. Это стекло — стекло спокойное: зеркальное.
Светло отражены прозрачными струями Ряды черемух и ракит (I, 323)
И купы островов над зеркальной водою (I, 325) И двух прудов спокойное стекло (I, 191)
Но эта же стеклянная, казалось застывше-неподвижная влага — живая. Странность языковской влаги в том, что она сочетает пластичную законченность стекла с текучей динамикой:
Живой хрусталь моря (I, 292) В другом стихотворении море
«струится и блещет, светло, как хрусталь» (I, 310). Или
Блестит подвижная громада кристалла, И тихо, качаясь, идет на меня (I, 297)
В метафорах, сравнениях отблески этого живого хрусталя:
Светло, сладкозвучно бежит и сверкает Сердечного слова живая волна (II, 282)
s Стих ваш ясен, как хрусталь (II, 271)
В лиющемся кристалле разговора (II, 29)
f
И т. д. и т. д. — до бесконечности.
·■; В самом начале нам пришлось говорить о впечатлении светлой звучности, производимом стихами Языкова. Сейчас своевременно напомнить об этом факте: кристалл стеклянной языковской влаги в «лирическом свету». Эпитеты «светлый» («звонкий») беспрестанно возвращаются. Но наряду с этим восприимчивость к цвету понижена. Образы стеклянной влаги, на которой играют отблески света, светотень, распространяют свое влияние на ландшафты Языкова вообще. Вот описание заката: ни слова о зелени, розовых тонах — одна игра света и теней:
Вот за далекими горами
Скрывается прекрасный день.
, От сеней леса над водами
Волнообразными рядами Длинеет трепетная тень. (I, 117-118)
Или описание полдня:
Вода чуть движется; над ней Склонилась томными ветвями Дерев безжизненная тень. (I, 115)
Clair-obscur — вот подлинная стихия Языкова. Невольно спрашиваешь себя: не в этом ли пластическом стекле, в языковской светотени без красок то впечатление Холода, о котором говорили некоторые критики? Белинский писал: «По-видимому, ~~ >ия г. Языкова исполнена бурного, огненного вдохновения; но это не более, как Разноцветный огонь образовавшегося на льдине солнца». Разноцветный огонь —
не Языковское. Но сияние солнца на льду, льдистая светотень — Языковские
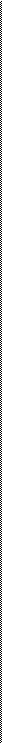
од «з
|
Психология творчества Языкова
 несомненно. Тени и свет без красок — вот что неизменно Языковское, и эта бескрасочность может производить впечатление холода. Ибо действительно, пластическая светотень как-то отгораживает от себя конкретную теплоту красочного внешнего мира. Вот типичный отрывок, в котором сосредоточено все сказанное:
несомненно. Тени и свет без красок — вот что неизменно Языковское, и эта бескрасочность может производить впечатление холода. Ибо действительно, пластическая светотень как-то отгораживает от себя конкретную теплоту красочного внешнего мира. Вот типичный отрывок, в котором сосредоточено все сказанное:
Какая ночь! Река то вдруг заблещет,
И лунный свет, в стекле ее живом,
Рассыплется огнем и серебром;
То вдруг она померкнет и трепещет,
Задернута налетным облачком.
Земля уснула, — будто райским сном. (I, 354)
Итак, цвета не ярки, но блеск и светлая прозрачность кристалла постоянно возвращается в поэзии Языкова, если не в полосе ясного зрения, то где-то на краях зрительного поля. Стеклянные воды в игре света и теней — психогенетически восходят к Волге. Но к этой же семье образов принадлежит и образ стекла, — хрустальной чаши, — появляющегося в том же светло-звучном окружении, что и воды стеклянные:
Те дни звучали ярким звуком Разгульных песен и стекла (I, 120)
Стекло звенело, пелись гимны: Тимпан торжественный бряцал (I, 10)
Кипели звуки песни дикой, Стекло сшибалось со стеклом. Тут, как вино в хрустальной чаше, Знаток, насквозь увидишь ты Все думы, чувства и мечты, Игру и блеск свободы нашей.
Звон стиха не отголосок ли звона стекла, где-то в сумеречной полосе зрения звучащего? И если «проявить» при помощи какого-то проявителя подсознательные центральные прототипы в художественном творчестве Языкова, то не появятся ли «на негативе» воды Волги под Симбирском, стеклянные и хрустальные чаши, хотя бы те «большие бокалы прекрасного хрусталя в Тригорском», показывая которые, А. Н. Вульф говорил Семевскому50: «Из этих самых звонких бокалов, о которых вы найдете немало упоминаний в посланиях Языкова... был распиваем пунш». Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, и в самом деле все «идеальное» языковское на деле, если взять целиком его психологию, есть реальное — симбирское. Симбирск — предел, край желаний. Он же «идеальная норма». Лето 1826 года, проведенное в Тригорском, — о котором в письме к Вульфу он пишет, что «во всей жизни не находит ничего приятнейшего и достойнейшего сиять золотыми буквами на доске памяти своего сердца»51, — Языков сравнивает с Симбирском. К. Полевой замечает по поводу лета, проведенного в Тригорском: «Кажется, это самое живое впечатление жизни его». Но, конечно, это впечатление не самое живое: перво-живое — у Волги.
Пора свести воедино все сказанное.
Исследование поэтических произведений, писем и биографических даннЫ обнаружило в Языкове ряд непримиримых или непримиренных расколов — некоН-
| 259 |
Психология творчества Языкова
груэнтность между различными слагаемыми его личности в целом. Жизненно Языков трагичен. Это нужно понять, откинув суждение о его «холодности», «бесстрастности». Но все дело в том, что светлый, звонкий, четкий стих никак не запечатлевает расколов непримиримых. Стих, художественная форма, языковское художественное творчество вообще, не выражает его психику, а восполняет ее: Языков-художник не сколок с Языкова «бытового», а одно из обличий цельного, так сказать, полного Языкова. Это справедливо прежде всего в отношении центральной идеи Языкова: свободы, буйства. «Хмель» и буйство, как мы видели, — в стихах, а реально — «гений» Языкова, по его собственному признанию, «застенчивый», «робкий» и т. д. Первый самый центральный раскол в этом: «слова» или, точнее, поэтическое дело не совпадает с житейски биографическим делом поэта. Другой раскол — между этой титанической буйностью в поэзии, тяготеющей к до-пушкинской, ломоносовско-державинской гиперболичности, и реальными узами — мадригально-альбомной средой или средой студенчества, буршества52.
 И наконец, самые главные узы — неуменье найти место в русском обществе того времени. Лучше всего это можно передать словами Вяземского, на которого нам приходилось не раз уже ссылаться:
И наконец, самые главные узы — неуменье найти место в русском обществе того времени. Лучше всего это можно передать словами Вяземского, на которого нам приходилось не раз уже ссылаться:
Сохранивший до кончины
К песням свежую любовь,
Удаль русской братовщины
И студенческую кровь. («Поминки»)
Студенческие песни нельзя было петь всю жизнь. Они были уместны в Дерпте, но уже в 30-х годах Языков сам сознает, что ему нужно искать новых тем для своей поэзии. Болезнь, катастрофически обрушившая все жизненные планы Языкова, наложила новый неизгладимо-своеобразный отпечаток на его элегии последних лет. Но об этом позже. Сейчас важно то, что какая-то детскость, бесшабашное «вечное студенчество» выкидывало Языкова из общественной среды, не позволяло ему до конца жизни локализировать себя в обществе твердо и определенно. Отсюда главный источник внутренних страданий и тревог Языкова, отсюда постоянное учительство со стороны других, отсюда же и метание из стороны в сторону по необозримому горизонту — «планы, походящие на хамелеона». Особенно ясно это видно из сопоставления Языкова с Давыдовым, уже делавшегося, кстати сказать, не раз. Так сопоставляет обоих Борис Садовской53. С сопоставлением Садовского, впрочем, нельзя согласиться вполне. «Давыдовская муза чужда разгульного хмельного ликования языковской вакханки, — пишет он. — Языков возвел в идеал свою пьяную необузданность, отчего искусственное напряжение его поэзии перешло под конец в болезненный надлом. Давыдов же весь, с начала до конца, выдержан в одном тоне». Не потому однако Языков пережил надлом, что тон его лирики был искусственно напряжен, как думает Садовской, а потому, что «гусарская» жизнь и жизнь «бурша» разны: нельзя быть «вечным студентом», но и «седому гусару» к лицу привычки молодых. Вот почему Языков с течением времени сам стал замечать, что его хМельная, студенческая поэзия не к лицу ему, еще в Дерпте все старался разработать тему «поважнее» — историческую, в противоположность альбомно-элегиче-сКим или студентски-песенным. Но самая живая психологическая тема его творчества — освобождения и свободы — могла здесь рядиться только в археологические одежды «исторического Баяна», воспевать освобождение от татар и т. д. и т. д. Так «значительность» покупалась ценою отрыва от «современности», тогда как «гусару 12-го года» незачем было кочевать в древнерусскую историю для того, чтобы
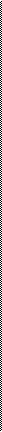 |
Психология творчества Языкова |
 уществить слияние тех двух устремлений, которые явны в темах Языковских сти
уществить слияние тех двух устремлений, которые явны в темах Языковских сти
хотворений: хмельное буйство и любовь к отечеству.
Сотоварищ урагана, Я люблю, казак-боец, Дом без окон, без крылец, Без дверей и стен кирпичных, Дом разгулов безграничных И налетов удалых.
Разгулы безграничные — это типично языковское («стремление к душевному простору», о котором говорил Киреевский). Но казак — этим все сказано. Здесь всегда, до седых усов, разгул и простор души к месту. Так же как Языкову, Давыдову душно
на пирах без воли и распашки.
Мы помним, как Языков боится стеснения дыхания, Давыдов бежит сборищ,
Где откровенность в кандалах, Где тело и душа под прессом.
Это типично языковское. Языкова преследует и пугает «Муза математики», Давыдов пишет:
Вам не сродни крылатый бог, Жизнь ваша — стрелка часовая, Арифметический итог, Но та, которую люблю, не называя, Ах, та вся чувство, вся восторг, Как Пиндара строфа живая.
Даже любимое слово Языкова «своеволье» в том же контексте встречается у Давыдова:
Где трубки?.. Вейся, дым, на удалом раздолье, Роскошествуй, веселая толпа, В живом и братском своеволье!
Но куда бежит Давыдов от «цепей» общественных сборищ? Мы знаем, куда бежит Языков: в тишь родового поместья в Симбирской губернии: «свобода» его близка «свободному», не стесняющему халату. Как будто в ответ на это Давыдов говорит:
Нет, братцы, нет! Полусолдат Тот, у кого есть печь с лежанкой! Жена, полдюжины ребят Да щи, да чарка с запеканкой!
А в своей автобиографии, где он, правда, несколько позирует, Давыдов пишет. «В лета щекотливой юности малейшее осуждение глянца сапогов, фабры усов, статей коня его бросало его руку на пистолеты или на рукоять его черкесской шашки»· Мы помним Языковское невнимание к одежде в Дерпте: Языкову все равно, какова его одежда, лишь бы стихи сияли и были безукоризненны. Не то Давыдов.
Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 46; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
