Старые опыты в пользу horror vacui 12 страница
В самом деле, приведенное толкование стирает те грани между пространством и временем, движущимся телом и пространственно-временной формой, которые резко проведены в обычном сознании. Следовательно, падает и та грань между психическим, как существующим только во времени, и физическим, как существующим в пространстве, — которую провело картезианство и которая утвердилась в обычном понимании. Нельзя говорить об антагонизме там, где есть неразрывная
нетрудно убедиться, что разность Δ/' не исчезает даже тогда, когда разность Δ? бесконечно мала. Иными словами, пространственное расстояние двух событий относительно одной системы может рассматриваться как временное расстояние относительно другой |34. Встав на точку зрения, кладущую в основу действительности понятие движения или актуализации, и приняв, что душа есть энтелехия тела, мы сказали бы, что, переходя в состояние потенциальности, душа может принимать телесные формы и наоборот, тело, актуализуясь, переходит в формы психические. Мало того: одна и та же вещь может рассматриваться и как физическая, и как психическая, в зависимости от того, рассматривается ли она как энтелехия низшего или потенция высшего. Бабочка — энтелехия гусенцы, то есть ее душа. Между тем мы сверху созерцаем эту душу как телесную вещь, тогда как для самой гусеницы она дана лишь в координате времени. То, что в процессе актуализации, по направлению к форме рассматривается как душа, то с другой точки зрения может быть увидено в формах пространственных. Следовательно, энтелехия с этой точки зрения не есть абстрактная форма, а живая реальность. В символике дьявол называется умопостигаемым змеем — νοητός όφις. Что бы мы ни думали о правильности этого сопоставления и о существовании самого дьявола, оно может служить яркой иллюстрацией нашей мысли: одна вещь есть душа другой, ее сущность, энтелехия и то может быть взята самостоятельно, как физическая реальность, то может быть рассматриваемая как реальность психическая, душа. Из этого видно, что вопрос о метафорах, соединяющих психическое и физическое, гораздо тоньше, чем вопрос о связи, например, неорганического и органического. Возьмем просопопею. Обычно под просопопеей понимается олицетворение неодушевленного, наделение психическими чертами того, что по существу психическому чуждо. Но иногда мы имеем дело с просопопеей в квадрате: одушевленное существо находит свое вторичное выражение в каком-либо лице. Этим именно объясняются некоторые, на первый взгляд странные формы, например, женская грамматическая форма вместо мужской. Сила геройства и воинственности неразрывно сочетается в мифическом сознании с женским образом. Таковы Афина-Паллада, Нике, валькирии. Такова в христианстве Богоматерь, «как гром устрашающая врагов»135, «непобедимая»136 и приводящая к победам. Этот центральный женский образ воительницы влияет на целый ряд подчиненных образов, которые обозначаются существительным с женской флексией, хотя следовало бы ожидать флексии мужской. Так —«воитель и боец обозначались женской формой и сюда в конце концов следует отнести и слова athleta, "■αλαιστρίτηΐ, πειρατής, pirata, старой, kempa, hettja, skytta, может быть и Scytha, Σκύθης и Chatta=hettja, ибо Птолемей пишет правильнее Χάτται, чем Страбон (Λάττοι) и Тацит (Chatti). Ср. славянские воевода, владыка, греческое δεσπότης — слова с первоначальной женской формой. Единственное число Γαλάτης, Κέλτης, латинское Celta требуют множественного Γαλάται, Κέλται, Celtae, которое следует Предпочесть множественному Κέλτοι; уже Лейбниц, а в недавнее время Гольцман, сближал его с немецким held, старо-верхненемецким halid, y которого образовалась Равным образом женская флексия»137. Из этого видно, что просопопея имеет место
|
|
|
|
|
|
70
|
|
|
Пути метафорологии
Пути метафорологии
71
 не там, где мы имеем только неодушевленное. В приведенном примере воин, властитель и т. д. относятся к Афине и Нике совершенно так же, как неодушевленная вешьр они личные существа, превращаются в олицетворение Нике, как бы олицетворяются дважды. Афина-Паллада или Нике оказываются сущностью или душой эмпирических индивидуумов. Если таким образом предыдущее устанавливает панпсихизм sui generis, окрашенный материалистически, — то главное затруднение переносится из области неорганического и органического в область природного и искусственного. Острие проблемы в том, как возможен перенос психических свойств на искусственные индивидуумы? Здесь мы не можем разбирать этого вопроса детально и можем ограничиться двумя указаниями: указанием на теорию органопроекции и теорию органов чувств, развивавшуюся шеллингианцами, в особенности Океном. Окен пытается воскресить старую идею о соответствии макро- и микрокосма, об аналогии вселенной и человека. Пяти стихиям соответствуют пять органов чувств; зрительный нерв — организованный свет, луч, мозг — организованное солнце, глаз — организованная радуга138. Подробно эта теория развита им в сочинении «О вселенной, как продолжении органов чувств». Но характерно, что в более ранних сочинениях основой сближения является морфологическое сходство, тогда как более поздние переносят центр тяжести на сходство функциональное. Например, в Abriss der Naturphilosophie (1805) мы читаем: «Кто хочет изъяснить природу осязательного органа, тому разумнее всего начать с тяготения мировых тел, с шеллинго-кеплеровых законов»139. Основа сближения здесь — графический символ эллипса. Наоборот, в 1831 году, во 2-м издании «Натурфилософии» графич-ность символов отходит на задний план и подчеркиваются связи функциональные. Таково, например, суждение: «Вкус воспринимает процесс усвоения веществ. Усвоение же есть растворение, образование воды; следовательно, во вкусовом ощущении воспринимается вода — это водное чувство (Wassersinn)» . Если мы обратимся к лингвистике, то найдем там это различение «гомологических» и «аналитических» метафор 141. Не будем делать выводов и ограничимся вопросом: достаточно ли ясно самое понятие функции, не указывает ли оно само уже на некоторую более тесную связь функции с формой, на некоторую связь морфологического и функционального, на связь орудия и действия или — по античной терминологии — На СВЯЗЬ пpyov И lvi . pye . ioP .
не там, где мы имеем только неодушевленное. В приведенном примере воин, властитель и т. д. относятся к Афине и Нике совершенно так же, как неодушевленная вешьр они личные существа, превращаются в олицетворение Нике, как бы олицетворяются дважды. Афина-Паллада или Нике оказываются сущностью или душой эмпирических индивидуумов. Если таким образом предыдущее устанавливает панпсихизм sui generis, окрашенный материалистически, — то главное затруднение переносится из области неорганического и органического в область природного и искусственного. Острие проблемы в том, как возможен перенос психических свойств на искусственные индивидуумы? Здесь мы не можем разбирать этого вопроса детально и можем ограничиться двумя указаниями: указанием на теорию органопроекции и теорию органов чувств, развивавшуюся шеллингианцами, в особенности Океном. Окен пытается воскресить старую идею о соответствии макро- и микрокосма, об аналогии вселенной и человека. Пяти стихиям соответствуют пять органов чувств; зрительный нерв — организованный свет, луч, мозг — организованное солнце, глаз — организованная радуга138. Подробно эта теория развита им в сочинении «О вселенной, как продолжении органов чувств». Но характерно, что в более ранних сочинениях основой сближения является морфологическое сходство, тогда как более поздние переносят центр тяжести на сходство функциональное. Например, в Abriss der Naturphilosophie (1805) мы читаем: «Кто хочет изъяснить природу осязательного органа, тому разумнее всего начать с тяготения мировых тел, с шеллинго-кеплеровых законов»139. Основа сближения здесь — графический символ эллипса. Наоборот, в 1831 году, во 2-м издании «Натурфилософии» графич-ность символов отходит на задний план и подчеркиваются связи функциональные. Таково, например, суждение: «Вкус воспринимает процесс усвоения веществ. Усвоение же есть растворение, образование воды; следовательно, во вкусовом ощущении воспринимается вода — это водное чувство (Wassersinn)» . Если мы обратимся к лингвистике, то найдем там это различение «гомологических» и «аналитических» метафор 141. Не будем делать выводов и ограничимся вопросом: достаточно ли ясно самое понятие функции, не указывает ли оно само уже на некоторую более тесную связь функции с формой, на некоторую связь морфологического и функционального, на связь орудия и действия или — по античной терминологии — На СВЯЗЬ пpyov И lvi . pye . ioP .
|
|
|
Пятый вид метафор, заключающийся в переносе свойств смысла на выражение и наоборот, уместнее разобрать в принципиальной части метафорологии, ибо он слишком тесно связан с вопросом о взаимоотношении образного и прозаического мышления, мифологии и науки. Потебнею и его школой достаточно обстоятельно выяснено коренное свойство мифа, заключающееся в слиянии образа и значения. «При мифическом понимании образ считается объективным и потому целиком переносится в значение и служит основанием для дальнейших заключений о свойствах означаемого; при поэтическом — образ рассматривается лишь как субъективное средство для перехода к значению и ни для каких дальнейших заключений не служит»142. «Миф есть словесное выражение такого объяснения (апперцепции), при котором объясняющему образу, имеющему только субъективное значение, приписывается объективность, действительное бытие в самом объясняемом» . В этом — основа заговоров, чар, примет, онейромантики.
Carmina vel coelo possunt deducere lunam, Carminibus Circe socios mutavit Ulyxi; Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis "".
Но если против отождествления образа и значения законно протестовать то не менее законно протестовать против разрывания образа и значения. Если акт и содержание противопоставляют друг другу, то между ними невозможно никакое отношение и интенциональность содержания акту либо необъяснима, либо указывает на то, что акт и содержание каким-то образом связаны145. Говоря грубо и упрощенно если слова оторваны от вещей, то мы приходим к утверждению Горгия, что истины нет, а если бы она и была и была познаваема, то нельзя было бы передать ее, ибо сообщимо только слово, а не предмет. Мысль упирается здесь в основную антино-мичность слова и символа: слово и предмет и различны, и тождественны, переход от одного к другому и прерывен и непрерывен. Подробный анализ этого, повторяю, относится к принципиальной части метафорологии.
Мы можем сделать теперь из всего предыдущего некоторые общие выводы. Связь и соответствие между разнородными областями бытия была нами выяснена, — конечно не полно, а в самых общих схемах. Однако сейчас же нужно оговорить: связь различных чувств, связь пространства и времени не должна непременно мыслиться в виде параллелизма. В Farbenlehre Гёте мы находим по этому поводу замечательные слова: «Сравнивать цвет и звук между собой нельзя никоим образом; но и тот и другой могут быть сведены к одной высшей формуле и оба могут быть выведены (притом каждый совершенно самостоятельно) из этой высшей формулы. Цвет и звук подобны двум рекам, берущим начало на одной горе, но текущим при совершенно разных условиях по диаметрально противоположным направлениям, так что на всем их взаимно-расходящемся пути нельзя сравнивать одно место с другим. И цвет и звук суть всеобщие элементарные действия, которые подчинены всеобщему закону разъединения и притяжения, колебания взад и вперед, качания туда и сюда, но проявляются эти действия в совершенно различных направлениях, различным образом, в различной среде, для различных чувств»146. Показательно, что синтетические устремления Скрябина в области искусства двигались от параллелизма искусств (партия Tastiera per luce в «Прометее») к «контрапунктированию искусств между собою»147. Самый параллелизм, как удачно выяснил Сабанеев, являлся во многом у Скрябина продуктом теории, а не непосредственного усмотрения 148. Скрябин начал с трех ярких непосредственных ассоциаций: тональность D — желтый, Fis — глубоко-синий, F — красный149. Исходя из этого он теоретически установил соответствие остальных цветов спектра с остальными тональностями квинтового круга (по его мнению, родственным тональностям должны соответствовать родственные цвета). Лишь построив эту схему он «нашел в себе чувство этих дремлющих ассоциаций» и «должен» был признать ее правильность 15°. В том Же направлении «контрапунктирования» искусств двигался в своих построениях Кандинский. На этом принципе построена его музыкальная драма «Der gelbe Klang» . в своей статье по поводу этой драмы 152 он замечает: «Все три элемента (то есть музыка, танец, цвет) играют равно важную роль, остаются внешне-самостоятельными и берутся одинаково, то есть в подчинении внутренней цели. Так, Музыка может быть удалена или совсем, или на задний план, если, например, движение достаточно выразительно и может быть ослаблено сильным музыкальным опровождением. Возрастанию движения в музыке может соответствовать убывание Движения в танце, благодаря чему оба движения (положительное и отрицательное) Получают большую внутреннюю цену и т. д. Возможен ряд комбинаций, лежащих Между двумя полюсами — содействия и противодействия. Если мыслить их графически, то все три элемента могут идти по совершенно самостоятельным, внешне
•
Пути метафорологии
Пути метафорологии
73

 друг от друга независимым путям»153. Итак, связь элементов не должна непременно длиться спинозически, где ordo et connexio idearum idem est quod ordo et connexio "Действительность может браться иерархически, то есть так, что ь« одной сту-пени^открывается то, чего не было на другой, и исчезает то, что на ней было налич-но. Мы имеем не схему,
друг от друга независимым путям»153. Итак, связь элементов не должна непременно длиться спинозически, где ordo et connexio idearum idem est quod ordo et connexio "Действительность может браться иерархически, то есть так, что ь« одной сту-пени^открывается то, чего не было на другой, и исчезает то, что на ней было налич-но. Мы имеем не схему,

а нечто вроде схемы
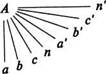
Иными словами, Целое проявляется в своих частях несимметрично, но так как одно Целое проявляется во всех них, то все они связаны друг с другом, содержатся друг в друге и в одном из них мы можем прочесть свидетельство о другом. Таким образом, хотя есть разрезы более и менее существенные, в каждом из них вся форма присутствует целиком. Здесь вполне применима формула: totum in toto et totum in qualibet parte, то есть здесь — все во всем. «И аще удивляетися, како Тело не ломается в раздроблении Тайн, егда Агнец раздробляем, или како во всякой части совершенный и целый есть Христос; удивляйтеся и сему, егда зерцало раздробится в малые части, образ же человеческий в нем не раздробляется, но во всякой части цел является, якоже и в полном зерцале»154. Говоря диалектически, мы имеем пропорцию: —=—-, которая выражает одинаковую подчиненность частей а, £ и т. д. целому
А А
А. Но это соотношение правильно либо при условии« = Ъ, либо при /1 = 0 или °°. Первого нет налицо в данном случае, ибо части разнородны, следовательно, остается допустить второе: ч4, как 0 и °овыходит из ряда частей, есть качественно иное. Связи, связующие а, Ъ, с и т. д., могут быть далекими и близкими, но для господствующего над ними А далекого и близкого нет. Поясним аналогией: части сонаты, рассматриваемые самостоятельно, находятся в разном отношении друг к другу и имеют разное отношение к целому. Но взятые не как индивидуумы, а как элементы, они одинаково подчинены целому и то, что они суть, предопределено этим целым. Если в сонате мы выделим экспозицию, то, как таковая, она конечно существеннее репризы, коды и т. д. Но если рассматривать ее в слитой цельности художественной формы, то она окажется столь же существенной, как и прочие элементы, ибо на этой точке зрения не экспозиция определяет репризу, разработку и коду, а общая форма сонаты: мы имеем не одностороннее воздействие, а взаимодействие частей чрез целое. Нельзя подходить к эстетическому целому аналитически, то есть исходя из частей155. Черный квадрат на белом фоне супрематиста Малевича несравним с произведением, в котором квадрат фигурирует лишь как элемент. Точно так же при всяком метафорическом построении не отдельные вещи (например, птица и корабль), воспринятые порознь, сопоставляются и сравниваются. Здесь — одно
неделимое переживание птицы и корабля, нет собственного и переносного, а два равноправных момента одного переживания. Возьмем для примера стихотворение Тютчева:
Когда в кругу убийственных забот
•ι'' Нам все мерзит, и жизнь, как камней груда,
вn Лежит на нас, — вдруг, знает Бог откуда,
| № ■ |
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.
..;■ ■ Так иногда, осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее долы,
1 ' ' Вдруг ветр подует, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою
И душу нам обдаст как бы весною.
Ясно, что здесь не изображение природы есть иллюстрация душевного переживания или, наоборот, душевное переживание — иллюстрация описания природы. Целый ряд тонких нитей связывает первую строфу со второй: «круг», «камней груда», «обвеет» — уже указания на физический мир, с другой стороны, целый ряд выражений второй строфы («поля уж пусты») могут толковаться символически. Следовательно, не осенний ветер или воспоминание есть предмет этого стихотворения, а нераздельная диада: «осенний ветер — воспоминание», одно не означает другое, а есть оно. В этом аналогия художественного произведения с мифом. Точно то же мы имеем и в словотворчестве. Греческие φ-ημί и φαίνω сводятся к одному корню фа, в котором понятия говорить и светить сливаются 156, корень фа имеет какое-то общее значение выявления или обнаружения. Однако такое определение корня фа не является настоящим, то есть корень не является и не являлся обесцвеченным родовым понятием, которому подчинены два или более разобщенных между собою вида. Эти виды между собою пересекаются, как два эксцентрических круга, словом, взаимоотношение мыслится здесь не в виде схемы
|
|
|
|
Н ' ь
ИЛИ
■ Ч
|
|
|
|
| или |
авввде
то есть там не наши обычные деления, а один нераздельный комплекс: «светить — говорить — являться». Логос древних — и пламя, и произносимый звук, и сила, изливающая творческие дары, хотя для Гераклита он преимущественно пламя, для Гермеса Трижды-величайшего преимущественно звучащее слово, а для Филона преимущественно сила изливающейся благодати. Иными словами, мы приходим к восприятию синтетических образов. Говоря словами Платона, нам открывается «образ тех природ, о бытии которых баснословят древние, о химерах, сцилле, цербере и всех других, в которых многие идеи срослись в одно» (Civ. X, Р. 588); «да, так оно и есть, думали романтики, мы соединяем то, что действительно связано вместе»
Пути метафорологии
(В. Жирмунский. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1914. С. 180). Таким «синтетическим образом» является священное дерево Ассирии, которое по исследованию Бонэвьё есть синтез пальмы, виноградной лозы, сосны, кедра и других растений, некогда почитавшихся в стране за оказываемую ими пользу, таковы териоморфные образы божеств Египта, Сфинкс, керубы Библии157. Но для конкретного восприятия этих образов нужно переустройство нашей организации, нераздельное слияние пространственного и временного восприятия, — выход в миры других измерений, где две вещи, связуемые метафорой, реально совпадут. Там они могут совпасть точно так же, как могут совпасть два симметричных треугольника при повороте одного из них на 180° в третьем измерении. Подобно двухмерным фигурам целый ряд симметричных трехмерных тел, не могущих совпасть друг с другом, вполне могут совпасть при наличии поворота в четвертом измерении, как это изобразил Г. Уэллс в рассказе «Случай с Пляттнером»: после фантастического путешествия в 4-е измерение правая рука Пляттнера стала левой, а левая — правой, сердце и желудок переместились на правую сторону, а печень — на левую158. У Канта в Критике чистого разума, в главе об амфиболии рефлективных понятий есть ряд соображений, связанных с интересующим нас вопросом159. Как известно, Кант критикует здесь Лейбница, исходя из своего основного противопоставления чувственности и рассудка, эмпирического явления и умопостигаемой сущности. Существенный вывод его здесь заключается в том, что вещи, по внутренним своим определениям тождественные, по своему явлению могут быть различными: тождественные в рассудке, они не тождественны в наглядном представлении. Так, понятие кубического фута всегда одинаково, тогда как наглядные представления двух кубических футов в пространстве всегда различны. Но уже раньше было отмечено, что нельзя мыслить внешнее и внутреннее разобщенным, ибо «то, что внутри, то и вовне», что внутреннее есть то же, что внешнее, лишь взятое в особой установке. Поэтому, принимая вывод Канта и отвергая его дуализм явления и вещи, мы могли бы сказать, что в разных разрезах две вещи могут быть и тождественными и различными. И для усмотрения этого синтетического тождества нет нужды непременно погружаться в «мир идей» дурно понятого платонизма, в какой-то второй мир, существующий наряду с нам данным. Необходимо лишь, чтобы временное восприятие наполнило пространственные формы и мертвящая апперцепция статических образов вещи заменилась кинематическим восприятием действительности. Большинство до сих пор не может воспринять кинематического образа вещи: когда мы видим движущийся трамвай, то в нашем восприятии (постоянно) фигурирует поправка, опирающаяся на образ трамвая неподвижного. Между тем именно чрез кинематический образ вещи мы приближаемся к синтетическим образам160. Не здесь ли скрытый путь к решению старого спора Локка и Беркли о родовом понятии, — о «треугольнике вообще»? Итак, элементы метафоры могут совпасть в одном синтетическом образе и, как мы пытались показать, этот образ лежит в основе метафорического соединения. Совпадают эти элементы не в костяке схемы или абстрактной формулы: они не теряют своей яркости и индивидуальности; сливаются, оставаясь раздельными. Иными словами, они совпадают лишь в пределе или бесконечности, ибо остается всегда иррациональный остаток, не позволяющий сказать, что оба члена метафоры — одно. Два момента наличны в метафоре: момент отождествления и момент разделения; в аспекте эстетического творчества им соответствует устремление лирическое и ироническое. Только обе силы вместе дают полноту, подобно силе притяжения и отталкивания. Возвращаясь к нашему примеру: свет и слово — и одно и то же, и не одно и то же, их тождество есть и ничто и нечто.
Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 45; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!




