Из главы «Великая музыка / Да юэ»
Далеки истоки музыки. Она рождается из меры, коренится в великом едином. Из великого единого появляются два начала, из двух начал – инь и ян. Инь и ян изменяются и преображаются, одно стремится вверх, другое опускается вниз. Объединяясь, образуют тела. Кипят и бурлыт. Разделившись, воссоединяются вновь; воссоединившись, вновь разделяются/…/ Ростки приходят в движение; затвердевая и застывая, обретают конечную форму, обретая конечную форму, они занимают собой определенное пространство, а у всякого пространства – определенный тон. Тон рождается из согласия, согласие – из упорядоченности. На этом основывались при установлении музыки первые цари.
Когда мир пребывает в великом покое, все существа в умиротворении, всё изменяется согласно высшему, тогда музыка достигает завершенности. Музыка, достигая завершенности, имеет последствием умерение страстей и желаний. Когда страсти и желания не направлены по ложному пути, музыка достигает законченности. Музыка, обретшая законченность, - искусство, проистекающее из уравновешенности. Уравновешенность проистекает из справедливости, справедливость – из знания дао. Посему лишь с человеком, постигшим дао, имеет смысл рассуждать о музыке.
В гибнущих государствах, у исчезающих народов не то чтобы совсем не бывало музыки, но музыка их нерадостна. Смеются и пьяные, поют и осужденные, издают воинственные клики и безумные. И музыка века, погрязшего в смуте, наподобие этого. Когда ни правитель, ни подданный не знают своего места, когда отец и сын забывают о своем долге друг перед другом, а мужчины и женщины забывают о приличиях, когда стонет и вздыхает народ, это едва ли можно счесть музыкой.
|
|
|
Ибо музыка есть следствие гармонического союза неба и земли и стремления к слиянию инь и ян.
Из главы «О пьянящей музыке / Чи юэ»
Живут все без исключения, но никто не знает, отчего он живёт. Знают тоже все без исключения, но никто не знает, отчего он знает. О том, кто знает, отчего он знает, говорят, что он познал дао. О том, кто не знает, отчего он знает, говорят, что он выбросил драгоценность. Бросающемуся драгоценностями недалеко до беды.
Властители нынешнего века за драгоценности принимают по большей части жемчуга да яшму, копья да мечи. Но чем больше собирают они этого, тем больше ропщет народ, тем в большей опасности их держава, тем большей опасности подвергают они себя самих. Так что такие действия ведут по сути к утрате драгоценностей.
Музыка смутных времён сродни этому. Когда барабаны и литавры гремят как гром, когда гонги и цимбалы звенят, как вспышки молний, когда лютни и свирели, пение и танцы подобны воплям – ци сердца приходит в смятение, в ушах и глазах сумятица, все естество в потрясении.
|
|
|
Такого рода музыка не может радовать. Ибо чем более опьяняюща музыка, тем в большее раздражение впадает народ, тем большие смуты в государстве, тем больше унижает себя властитель. Так что такие пути ведут по сути к утрате музыки.
Превыше всего мудрые цари древности ценили музыку за приносимую ею радость. Сяский Цзе и иньский Чжоу, склонные к пьянящей музыке, в звуках больших барабанов, колоколов, литофонов, труб и свирелей превыше всего ценили громкость, а в зрелищах – массовость. Они увлекались всем новым и необычным, созвучиями, непривычными уху, соцветиями, непривычными глазу. В стремлении превзойти в этом друг друга они не знали меры и конца. Упадок в царстве Сун наступил, когда там создали тысячи колоколов тона чжун. Упадок в царстве Ци наступил, когда там отлили огромный колокол тона люй. Упадок царства Чу последовал за созданием там шаманских мелодий.
Если желать опьянения, то такая музыка и впрямь опьянит. Однако если взглянуть на это глазами владеющего дао, то это путь к утрате истинной музыки. Когда же истинная музыка утрачена, прочая музыка не принесет радости. Когда же музыка не приносит радости, в народе начинается ропот, а жизни наносится ущерб. Жизнь под такую музыку уподобляется льду под палящим солнцем – она самое себя истаивает. А проистекает это из незнания истинной природы музыки и, вследствие этого, пристрастия к музыке пьянящей.[150]
|
|
|
Часть 2. БУДДИЗМ И ИСКУССТВО
Буддизм как первая мировая религия и одно из крупнейших философских направлений за два с половиной тысячелетия своего существования оказал огромное влияние на развитие культуры и искусства не только крупнейших азиатских стран – Индии, Китая, Японии, Кореи, Вьетнама. Его идеи были восприняты также европейскими и русскими писателями, поэтами, художниками, музыкантами XIX – XX столетий. К философии, религиям, литературе и искусству Индии большой интерес проявляли Шиллер, Гейне и Т. Манн, Гюго, Франс и Роллан, Кант, Гегель и Шопенгауэр, Шелли и Киплинг, а в России – Жуковский, Белинский, Л.Н. Толстой, Бунин, Верещагин. Буддийские образы и символы определили неповторимый характер многих произведений Н. Рериха, Ван Гога, К. Бальмонта, А. Белого, А. Скрябина, Г. Гессе.
|
|
|
Естественно, что и сам символический язык, и тематика буддийского искусства отражают содержание учения Будды, его онтологию, космологию, представления о человеке и смысле жизни, нравственную философию, эстетику. При этом важно помнить, что основные положения буддизма получали интерпретацию и преломление в зависимости от направления, предшествующей традиции и особенностей национальных культур. Так, обобщающим термином для ранних форм буддизма (V - IVвв. до н.э.) стала Тхеравада, «учение (или путь) старейших». Впоследствии она получила название Хинаяны.[151] Расхождения в трактовке основных положений, разногласия в ходе церковных Соборов привели к разделению Хинаяны на 18 школ. Наиболее известны из них школа Тхеравады (хранит тексты на языке пали[152]), Сарвастивады и Дхармагупты (используют санскрит). В полном объёме до наших дней сохранилась традиция Тхеравады, получившая распространение в Шри-Ланке, Бирме, Таиланде, Кампучии и Лаосе. Искусство буддизма Тхеравады подчёркивает историчность и человеческое начало личности Будды, достоверность событий его жизни. Это направление обычно не считают религиозным, его интерпретируют как философское крыло буддизма, требующее прежде всего размышления и познания глубин собственной личности, а не веры в чудо.
Северный буддизм или Махаяна («великий путь» или «большая колесница»), в отличие от философско-исторической традиции Тхеравады, полагает основой спасения человека веру и участие бодхисаттв, святых подвижников, находящихся на земле из сострадания к людям. Традицию Махаяны, сложившуюся в первые века нашей эры, принято считать религиозным направлением буддизма. Кроме того, в каждой из названных школ выделяется множество направлений, акцентирующих то или иное положение буддизма и логически его развивающих. Например, буддийская школа Чань представляет собой медитативное направление, придающее особое значение интуитивному и внезапному озарению. Появившись в Китае, это учение впоследствии широко распространилось в Корее (Сон) и Японии (Дзен). Основателем чань-буддизма был великий индийский учитель Бодхидхарма ( II в. н.э.). Большое внимание в его учении уделяется гармонии человека с природой и вселенной, что характерно для коренной китайской философии даосизма. По преданию, именно Бодхидхарма, соотнося буддизм с конкретными социальными условиями феодальной раздробленности Китая, состоящего из огромного количества воюющих княжеств, разработал то, что впоследствии стало известно как боевые искусства. В Индии не было традиции боевых искусств, как позднее этой традиции не обнаруживается ни в Тибете, ни в Монголии. Будда учил о тонких энергиях тела и работе с ними. Поскольку разработанная для Китая система боевых искусств также имеет дело с тонкими энергиями тела, то, по мнению специалистов, она согласуется с буддизмом. Однако в боевых искусствах энергии тела описываются с точки зрения глубоко укоренённых в Китае представлений даосизма.[153] Конфуцианство повлияло на цвет и форму одежды буддийских монахов. Если в Юго-Восточной Азии монахи носят оранжевые или жёлтые одежды без рубашек, то в Китае предпочитают одежду черного, серого и коричневого цветов с длинными рукавами, что согласуется с традиционными конфуцианскими представлениями о скромности.
Огромное значение для искусства Китая и Японии имели идеи китайской буддийской школы махаяны - Тянтай, в которой акцент делался на вере в спасение в так называемом «западном рае» Будды Амитабхи и на учении об отсутствии различия между живой и неживой природой, о присутствии (подобно Дао) «природы Будды» в каждой вещи.
 Кратко остановимся на тех положениях, которые, в основном, разделяются всеми основными буддийскими школами. Именно они получили наиболее полное воплощение в различных видах искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, литературе и поэзии.
Кратко остановимся на тех положениях, которые, в основном, разделяются всеми основными буддийскими школами. Именно они получили наиболее полное воплощение в различных видах искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, литературе и поэзии.
Основатель буддизма – индийский царевич Сиддхартха Гаутама Шакьямуни (536 – 483 гг. до н.э.), ставший Буддой, т.е. просветлённым или пробуждённым. Буддийская каноническая литература повествует о необычности рождения принца, не принёсшего болезни его матери, о предначертанности его пути, предсказанного Великим отшельником, о счастливой жизни во дворце, прерванной четырьмя символическими встречами царевича с тем, что отражает трагичность человеческой жизни. Это следующие друг за другом встречи Сиддхартхи с болезнью, старостью, смертью и монахом-отшельником, противопоставившим соблазнам и радостям жизни отказ от них.
Скульптура. Бодхисаттва Сиддхартха V век. Китай. Дин. Северная Вэй (386-534)
Национальный музей азиатских искусств. Париж.
В буддийском искусстве Китая эпохи правления династии Северная Вэй была выработана устойчивая иконографическая схема изображения принца Сиддхартхи (Будды до момента просветления). Он изображался сидящим в царской позе, в высоком головном уборе. Обычно одной рукой бодхисаттва касался щеки (другой вариант – указательный палец у подбородка), пребывая в состоянии глубокого раздумья. Характерной чертой иконографии северо-вэйского периода является одна из деталей одеяния бодхисаттвы – вариант набедренной юбки (андухуэй), складки которой полностью закрывают его трон.
Многочисленные скульптурные и живописные изображения Будды опираются на учение о 32-х признаках совершенства, находящихся на его теле. Самые известные из них – фиалковые глаза, возвышение на темени (ушниша), серп между бровями, удлинённые мочки ушей, разрез глаз, подобный прекрасным линиям лепестков лотоса, лучистое лицо, завитки волос, урна («третий глаз»), колесо на ступнях и др. Чаще всего Будду изображают сидящим в «позе лотоса», что символизирует чистоту и совершенное сознание. Канонизирована и неизменная улыбка Будды, отражающая все оттенки и превратности бытия, неизбежность победы Закона, а также сострадательное и печально-понимающее отношение к человеческим страстям.

Будда в виде йога («Аскеза Будды»). II-III вв.
Кушанский период, из Гандахары[154]
Довольно часто в скульптуре встречается образ «аскезы Будды», которая длилась около 7-ми лет и закончилась избранием «срединного пути», исключающего крайности аскетического отношения к телу. О трёх жизненных путях Будда поведал в первой знаменитой Бенаресской проповеди пяти монахам, ставшим его первыми учениками:
«О, братья! В две крайности не должны впадать вступившие на путь! В какие же две?
Одна из них в страстях соединена с наслаждением/…/ низкая, грубая, свойственная человеку непросвещённому.
Другая соединена с собственным истязанием, скорбная, не святая, и связана с тщетою.
Совершенный, обойдя обе эти крайности, уразумел срединный путь, дающий прозрение, знание, ведущий к успокоению, высшему уразумению, нирване».[155]
Символом просветления и высшего знания стало в буддизме и священное дерево Бодхи, под которым Гаутама получил откровение в виде четырёх «благородных истин», что и стало причиной его превращения в Будду.
 Согласно первой благородной истине – всякая жизнь есть страдание; вторая благородная истина открывает, что причина страданий – «лиана жажды» или различные желания и страсти, опутывающие человека; третья благородная истина указывает на то, что установленную причину можно устранить; путь «освобождения от страданий», состоящий из 8-ми ступеней (каждая из которых имеет еще по 4) – составляет четвёртую благородную истину.
Согласно первой благородной истине – всякая жизнь есть страдание; вторая благородная истина открывает, что причина страданий – «лиана жажды» или различные желания и страсти, опутывающие человека; третья благородная истина указывает на то, что установленную причину можно устранить; путь «освобождения от страданий», состоящий из 8-ми ступеней (каждая из которых имеет еще по 4) – составляет четвёртую благородную истину.
«Путь освобождения» или восьмеричный путь излагает нравственное учение буддизма, имеющее своей особой целью уход в нирвану (от скр. замирание, затухание), которая не определяется в религиозной традиции буддизма Махаяны. Как сказано в «Типитаке», показать нирвану нельзя «ни с помощью цвета, ни с помощью формы».[156] Поскольку состояние нирваны не имеет отношения к реальному земному миру, то в понятиях этого мира описано быть не может. Философское крыло буддизма - Хинаяна, видит в нирване некое особое развитие космической субстанции человека, освобождённой от телесности, чувственности, профанического «я». Земная жизнь человека – это сансара, представляющая собой «четыре великих потока, прорезывающие с разрушительной силой мир человека: это – поток страсти, поток созидания, поток заблуждения, поток неведения».[157]
Сидящий Будда. II-III вв. Кушанский период.
Пакистан.[158]
Важнейшим понятием при характеристике круговорота сансары, в котором осуществляются перерождения, является карма. Следует подчеркнуть, что буддийское понимание кармы отличается от идеи кармического воздаяния в индуизме. В классическом индуизме идея кармы ближе к пониманию долга, связанного с принадлежностью к разным кастам. Карма, или долг здесь состоит в следовании каноническим образцам поведения, описанным в «Махабхарате» и «Рамаяне». В буддизме карма означает «импульсы», которые побуждают нас что-либо делать или думать. Эти импульсы возникают как результат предшествующих привычных действий или поведенческих моделей. Но поскольку человек может не следовать каждому импульсу, то его поведение не является строго детерминированным.

Паринирвана Будды. V в. Левая стена пещеры Аджанта. Индия.
Первая ступень пути, освобождающего человека от бесконечного круговорота сансары – колеса мучительных рождений и смертей – состоит в понимании 4-х благородных истин, в принятии их в своё сердце. Вторая ступень связана с волевым устремлением преобразовать свою жизнь в соответствии с ними. Последующие несколько ступеней (с третьей по шестую) – часть этики буддизма, объединяющая его с другими мировыми религиями. Это «правильная речь», требующая воздержания ото лжи, клеветы, грубых слов и непристойных разговоров (третья ступень); «правильное действие», основанное на принципе ахимсы – непричинении вреда живому (червёртая ступень); правильный образ жизни, требующий честного труда, воздержания от воровства и других пороков (пятая ступень); «правильное усилие», означающее борьбу с дурными мыслями и соблазнами (шестая ступень). Седьмая ступень достигается «правильным сосредоточением» или правильным направлением мысли, что подразумевает понимание преходящего характера всего живого и отрешённость от всего, что привязывает к жизни, отвращение к телу, чувствам, уму и т.п. Как преддверие самой нирваны, обрывающей цепь перерождений, седьмая ступень содержит 4 стадии: 1- незамутнённый ум осмысливает 4 благородные истины; 2 - отпадение беспокойства и наступление душевного покоя и радости как следствия веры в эти истины; 3 – освобождение от самой радости, от всякого ощущения своей телесности; 4 –я стадия 7-й ступени и 8-ая ступень восьмеричного пути – это достижение нирваны как освобождения ото всех скандх (состояний сознания, составляющих «я» невежественного человека).
Глава 1. Литература буддийского канона. «Трипитака». Поэзия Древней Индии
Литература буддийского канона. Канон буддистов всех школ – Трипитака (с санскр. «три корзины» или «три сосуда»[159]) – состоит из трёх частей:
Винная – питака – монашеские правила; Сутра – питака – беседы Будды с учениками; Абхидхарма – питака - философские тексты. Каждый из этих больших сводов включает несколько малых, которые, в свою очередь, имеют внутренние разделы, иногда представляющие собой самостоятельные книги. Так, в тибетском буддийском каноне сутры занимают 44 тома.
Канон Махаяны (Махаяна – «великая колесница» – направление буддизма, распространённое к северу от Индии) отличается от священных книг Хинаяны («малой колесницы», южного буддизма) изначальной эзотеричностью. Предание Махаяны гласит: когда ученики почившего Шакьямуни в городе Раджагрихи (столица древнеиндийского царства Магадха) формировали канон Хинаяны, на горе Вималасвабхава близ Раджагрихи собрались бодхисаттвы[160] Ваджрапани, Майтрейя, Манджушри. На своём небесном соборе они записали учение Будды более полно, чем это могли сделать люди. В поисках древнейших вариантов махаянистских текстов учёные обращаются к тибетскому наследию. Но буддизм в Тибете получил широкое распространение только в VII веке, поэтому многие тексты махаяны восходят к более ранним санскритским и китайским первоисточникам.
 С философско-эстетической точки зрения наибольший интерес представляет Сутра[161] (или Сутта при переводе с палийской версии) – питака, куда входят Джатаки (рассказы о прошлых воплощениях Будды), Дхаммапада («Стезя добродетели и закона»), Кхуддака - никая (Собрание коротких поучений), содержащие шедевры буддийской прозы и поэзии.
С философско-эстетической точки зрения наибольший интерес представляет Сутра[161] (или Сутта при переводе с палийской версии) – питака, куда входят Джатаки (рассказы о прошлых воплощениях Будды), Дхаммапада («Стезя добродетели и закона»), Кхуддака - никая (Собрание коротких поучений), содержащие шедевры буддийской прозы и поэзии.
Лохань (архат). X-XIII вв. Китай.[162] Архаты всегда занимали важное место в иконографии буддизма, олицетворяя идею личного усилия в достижении цели. Начиная с эпохи Тан, они изображались в виде сильных, скромно одетых личностей с выразительным взглядом, отражающим их глубокие духовные достижения.
По своему происхождению Сутра связана с практикой обучения молодых монахов и с внутриобщинной проповедью. Оформляется она как предание о беседах, которые вёл Будда во время своих бесконечных странствий, что создало особую формулу начала повествования: «Так я слышал». В нашей науке наиболее известна «Алмазная Сутра», получившая свой канонический вид в среде китайских буддистов в IV в. н.э. Её автором называют Кумарадживу (343 – 413) – первого индийского буддиста, который познакомил китайцев с учением махаяны. В полном санскритском названии «Алмазной Сутры» - «Ваджраччхедика – праджня – парамитта – сутра» - отражена главная цель буддиста – достижение нирваны. Важная предпосылка достижения этой цели – приобретение 6-ти совершенств (парамит): совершенства в щедрости, нравственности, праведном усердии, терпении, медитативной практике и в интуитивной мудрости. Содержание «Алмазной Сутры» - неизмеримо глубоко, поэтому приводимые примеры и толкования бросают свет лишь на отдельные её грани. Слово и значение, на которое оно указывает, не одно и то же. Смысловое значение подобно многогранному кристаллу, определяемому множеством слов, каждое из которых может указать лишь на одну из его граней, но не на сам кристалл. «То, что мы говорим, не имеет глубины; то, о чём мы говорим, глубину имеет». Поэтому знание и понимание не тождественны.
Алмазная Сутра[163]
/…/стоит только появиться в уме бодхисаттвы-махасаттвы таким произвольно обусловленным концепциям, как существование собственной личности (самости) или существование других личностей, или бытие жизни, или существование атмана[164], как тут же он становится недостойным имени бодхисаттвы- махасаттвы.
Поскольку всё в этом мире неотделимо от всего, то в действительности нет никаких индивидуальных чувствующих форм бытия. Есть ВСЁ. Единое, цельное ВСЁ. /…/
Зрение, ум и другие органы чувств – не свои, так как в действительности нет никакого «себя». Иллюзию существования «Я» создаёт неправильная, извращённая деятельность ума. Ощущает мир не индивидуум, не «Я», а сам бесконечный мир ощущает самого себя через бесконечное количество органов чувств. Понять это и проникнуться этим надо в самом начале пути. /…/
Когда мысли касаются феноменов чувственного мира, они захватываются ими и появляется воспринимающий, появляется «Я», появляются другие личности и отношение к ним.
Когда мышление полностью свободно от чувственного мира, тогда нет мыслящего, и мышление осуществляется уже не индивидуальным умом, а разумом самого Будды, обладателя Наивысшей Совершенной Мудрости. /…/
Благожелательность другим, сострадание другим – дары, и дары великие, хотя это всего лишь чувства. Если эти чувства идут от человека самоотречённого, не имеющего хотя бы в эту минуту своего «Я», если эти чувства рождаются в нём и живут спонтанно, а не рождены его мыслями и намерениями относительно других, то эти чувства доброжелательности и сострадания рождаются как бы нигде (так как «Я» отсутствует) и идут из ниоткуда. В этом случае доброжелательность и сострадание – уже не чувства этого человека, а чувства бесконечного мира, чувства Будды, и поэтому обладают силой действительно творить добро и облегчать страдания. /…/
Земное человеческое бытие можно сравнить с тем индивидуальным миром, который отразился в капле росы, повисшей на ветке. Этот мир реален, хотя и искажён поверхностью капли, но в то же время этот мир – только отражение настоящего мира и в действительности не существует, так как он исчезнет без следа вместе с росинкой, когда пригреет землю солнце.
Поэтому когда Татхагата[165] говорит «земное бытие», даже когда он ссылается на самого себя, то он использует это выражение просто как речевой образ./…/
Принцип неэгоистичности всего сущего подразумевает, что ничто и никто в сущем мире не имеет в действительности своего «Я», ничто никакими границами не отделено от всего остального в бесконечном мире./…/
Только совокупными усилиями всего человечества, всех одушевлённых существ может бодхисаттва – махасаттва что-нибудь совершить. Так где же тут его поступок? Где же тут его заслуга?/…/
Говоря «состояние», - мы подразумеваем «состояние чего-то». Но нет такого состояния, как Архат («полностью просветлённый»), так как у просветлённого исчезает всякое «Я» и не о ком сказать, что он достиг состояния Архат. /…/
Состояние Будды присуще всему живому и каждой чувствующей пылинке в безбрежном космосе. В этих бесчисленных состояниях Будды содержатся все формы умонастроений и концепций от безначальных времён до не имеющего конца будущего./…/
Мы все слепы от рождения, и «видение» для нас невообразимо. Мы просто не знаем, что глаза надо открыть, не знаем, где эти глаза и что значит открыть их. Вместо того чтобы открыть глаза и начать видеть, мы пытаемся умом постичь это «видение». Точно так же состояние Будды присуще каждому, но состояние это не проявлено. Мы пытаемся постичь его умом, а надо «открывать глаза». Свет прозрения принадлежит всем и никому. Истинный Татхагата не может назвать себя Татхагатой, так как он, став всем, перестаёт быть чем бы то ни было.
Стихотворный отрывок «Сутты о Касибхарадвадже» раскрывает этическую составляющую учения Будды Гаутамы, которого брахман упрекает в том, что он не следует правилу есть только после того, как поле вспахано и засеяно.
- Пахарем себя называешь,/ Но пахоты твоей не вижу./ Спрашиваю тебя, скажи мне, /Что за пашню ты пашешь?
- Вера – зерно, воздержание – дождь,/ Мудрость – ярмо и плуг мой,/ Стыд – моё дышло, упряжь – мысль,/ Память – мой кнут и лемех./ В речи и действиях сдержан я,/ В еде и питье умерен,/ Правдой прополку делаю я,/ Кротость – моё спасенье./ Мужество – вот мои быки,/ Что везут к отдохновенью,/ Что, не сворачивая, бегут/Туда, где нет печалей./ Вот как пашется эта пашня./ Родит же она бессмертье./ Вспашешь такую пашню,/Избавишься от страданий. [166]
Жанр Джатаки, означающей «Повесть о прошлых рождениях», сложился в русле буддийской проповеди, обращенной к мирянам. В его основе лежит притча, оформляемая как поучение - рассказ о событиях, произошедших с Буддой в одном из прошлых его рождений. Как известно, буддизм принимает общее для индийских религий (брахманизм, индуизм) учение о перерождениях, согласно которому человек возрождается после смерти в новом образе, на более высокой или более низкой ступени социальной иерархии, или даже вне мира людей – зверем, обитателем ада или небожителем – в зависимости от итога его добрых или злых деяний в предшествующем рождении (закон кармы). Считается, что Сиддхартха Гаутама, царевич небольшого племени шакьев, как и всякий смертный, прежде чем стать Буддой, то есть Просветлённым, и избавиться от закона кармы, прошёл многие рождения. В джатаках Будда предстаёт божеством дерева, обитавшем в дупле, белым слоном с глазами, подобными драгоценным камням, отшельником, премудрым советником, благородным львом, царём птиц, повелителем обезьян, брахманом, Правдой в споре Правды и Кривды и др.[167] Проповедь самоотверженности содержится в джатаке о вожаке обезьяньего стада, спасшем своих соплеменников ценою собственной жизни. В «Рассказе о зайце» тема самопожертвования выражена ещё более утрированно: заяц- Бодхисаттва, видя, что брахман, чья мудрость может быть светочем многим, погибает от голода, сам прыгнул в огонь костра, чтобы накормить мудреца собой и спасти.
В виде джатак оформлялись сказки, басни, легенды, эпические песни (иногда из циклов «Махабхараты» и «Рамаяны»). Основная часть текстов этого жанра восходит приблизительно к III – II вв. до н.э. Джатака строится как рассказ самого Будды, который, достигнув просветления, обрёл память прошлых рождений. В ней «история о прошлом» обрамляется «историей о настоящем» как начало рассказа, повествующего о событии, заставившем Будду вспомнить именно об этом воплощении, и как заключение, в котором проводится аналогия между персонажами притчи и настоящего времени. Вот начало джатаки «Спор Правды и Кривды». «Заслуги и почёт лишь я дарую…» - это Учитель произнёс в роще Джеты по поводу Девадатты, когда тот провалился сквозь землю. Однажды в зале для слушания дхармы монахи завели такой разговор: «Девадатта встал Татхагате поперёк дороги, почтенные, потому он и провалился сквозь землю». Учитель пришёл и спросил: «О чём вы сейчас беседуете, монахи?» Монахи объяснили. «Это теперь, о монахи, он замахнулся на колесо моей победоносной проповеди и потому провалился сквозь землю, в прошлом же он замахнулся на колесо в колеснице Правды – и тоже провалился сквозь землю, тотчас оказался в страшном аду Незыби», - произнёс Учитель и рассказал о былом.
В джатаках были обязательными стихотворные вставки (гатхи), реплики действующих лиц, диалоги, что впоследствии, вероятно, стало причиной их превращения в разновидность драматического искусства: джатаки инсценировались в религиозных представлениях. Канонической, неизменной частью джатаки являются только стихи, прозаическая же часть текста в буддийской традиции рассматривается как комментарий и в канон не включается, что создавало возможность для варьирования, создавшего позднейшие наслоения. Как правило, начало джатаки – это первая строка гатхи. Так, в приведённом выше отрывке джатаки о споре Правды и Кривды начало составляют слова Правды, которой преградила путь движущаяся ей навстречу Кривда. Заслуги и почёт лишь я дарую,/ Средь шраманов и брахманов я славен,/ У небожителей и у людей в чести./ Мне этот путь принадлежит по праву./ Я – Правда. Кривда, уступай дорогу!»/ Кривда: «Меня не сбросишь с колесницы Кривды,/ Я полон мощи, неподвластен страху./ Зачем я стану уступать дорогу?/ Я сроду не сворачивал с неё!» Спор Правды (золота) и Кривды (железа) завершается низвержением Кривды, надеющегося победить соперника, поскольку «железом золото легко куётся, а золотом нельзя ковать железо», с его колесницы. Так «был он без сражения повержен. Так Правда силой своего терпенья/ Над грубой силой одержал победу».
Популярность жанра джатак послужила созданию на их основе апокрифических сборников, в которых выразилось народное творчество стран, принявших буддизм и неизбежно преломивших его учение в русле собственных традиций. Сюжет рассказа об обезьяне, перехитрившей крокодила, дважды представленный в «Джатаках» (57, 208), используется не только в знаменитой «Панчатантре»[168] - он известен и в японском фольклоре. В «Панчатантру» переходит из «Джатак» и лицемерный кот, прикидывающийся благочестивым отшельником, чтобы пожирать доверчивых мышей. Тема обманутого доверия повторяется в рассказе о коварном ибисе, поедающим рыб, которых он взялся переносить из одного пруда в другой. Этот сюжет впоследствии встречается не только в индийских памятниках, цыганском фольклоре, но и через много веков - в европейской литературе, в баснях Лафонтена. У Лафонтена пересказывается и содержание джатаки, в которой шакал хвалит ворону за прекрасный голос, чтобы заполучить лакомство из её клюва. При этом европейский автор заменяет шакала на лису, и в этом виде сюжет приходит в русскую литературу в известной басне Крылова. Еще одна басня Крылова «Волк и ягнёнок» восходит по содержанию к джатаке о леопарде, пожравшем козу, тщетно пытавшуюся умилостивить его своим смирением («Рассказ о леопарде»).
В связи с известной темой происхождения «бродячих сюжетов» в мировой литературе возникла проблема приоритета греческих или индийских версий сюжетов, общих для басен Эзопа и палийского памятника. Важно подчеркнуть, что сходство сюжетов не всегда объясняется простым заимствованием, проблема сюжетной общности требует тщательного и всестороннего исследования в связи с известной сложностью культурных взаимодействий. Например, один из сюжетов джатаки о мудром царевиче Адасамкхе, разрешающем трудные судебные дела, повторяется затем в «Венецианском купце» Шекспира; один из рассказов «Повести о большом подземном ходе» повторяет известную притчу о соломоновом суде, определившем истинную мать ребёнка в тяжбе двух женщин. Впоследствии он использовался в китайской пьесе о меловом круге, которая в XX веке была представлена читателям Б. Брехтом. В «Джатаках» помимо «бродячих сюжетов» представляет интерес выявление сюжетных архетипов, последующее воплощение которых в западной литературе теорией «заимствований» явно не объясняется. Так, «Джатака о царе Ними», по мнению учёных, предвосхищает сюжет «Божественной комедии» Данте, а рассказ о Тикхинамантине в конце «Повести о большом подземном ходе» воспроизводит экспозицию сюжета о Гамлете.[169] Исследователи отмечают также, что «Повесть о большом подземном ходе» предопределяет литературную форму романа, объединяющего различные сюжеты в своих эпизодах, которые связываются единым образом героя. Это произведение включает также большое количество персонажей, чередует бытовые и сказочные истории с эпическим повествованием, отмеченным занимательностью интриги. Параллели сюжетам «Повести» находят в персидской литературе, в повестях о Хийкаре и в арабских сказках «Тысячи и одной ночи».
Сюжеты джатак – наиболее распространённые темы фресок и барельефов буддийских храмов. Например, иллюстрацию к предостерегающей от соблазна дажатаке о петухе и кошке представляет собой барельеф буддийской «ступы» в Бхархуте. Исследователи видят значение ранних буддийских ступ в обилии жанровых сцен, взятых из джатак, что даёт основание называть резьбу, покрывающую эти архитектурные сооружения каменными страницами древних рукописей.

Оленья джатака. 100 г. до н.э.
Период Шунга. Бхархут, Индия.[170]
Высочайшее мастерство древних резчиков запечатлено в изображении знаменитой Оленьей джатаки, или «Притчи о благородном олене». В одном из медальонов ступы в Бхархуте соединены четыре отдельные сцены, составляющие эпизод из перерождений Будды. В центре находится фигура оленя – реинкарнации Будды, - повернувшегося к человеку, который молитвенно сложил руки. В это время другой человек готовится выстрелить в оленя из лука. Ниже в реке изображён человек, которому олень помогает достичь берега. Согласно джатаке, после спасения из реки неблагодарный охотник направил царских стражников за трофеем. Олень здесь символизирует отказ от убийства всех живых существ (буддийская ахимса), поэтому царь и его свита, обратившиеся в веру, застыли в благоговейных позах. Сюжеты из джатак отображены в рельефной резьбе, покрывающей колонны и балки четырёх ворот ступы знаменитого архитектурного ансамбля в Санчи (Северная Индия) и в росписях Аджанты.
К наиболее известным памятникам буддийского канона наряду с джатаками относится «Дхаммапада», составленная из изречений, приписываемых Будде и произносимых им по определённому поводу. В «Дхаммападе» с наибольшей полнотой изложена этическая доктрина раннего буддизма, что объясняет её необычайно высокий авторитет в буддийской среде, где она рассматривается как свод мудрости и учебник жизни.
Название Дхаммапада состоит из двух слов, каждое из которых многозначно. Слово «дхамма» означает добродетель, закон, буддийское учение, а также религию, элемент, качество, вещь, явление и т.п.[171] Важно для понимания термина то, что он происходит от глагола dhar – «держать» и употреблялся до возникновения буддизма как корень слов «творящий дхарму» (по отношению Индре), а также «носитель», «опора», «защита», «закон», «порядок» (в Ригведе) «правило», «обычай», «добродетель», «моральный долг» «истина» (в Атхарававеде, Упанишадах, брахманической литературе). Слово «пада» переводят как стезя, путь, место, средство, причина, основа, слово, стихи, след и др. Учитывая сочетания этих различных значений и то, что сейчас уже трудно добраться до первоначального значения древнего слова, исследователи считают допустимыми такие переводы, как «Стезя добродетели», «Стезя закона», «Основа учения», «Слово о законе», «Стихи о добродетели», «Стопы закона» и др. Следует помнить и о том, что Дхаммапада была живым, современным словом и в эпоху её создания, и в каждый из последующих периодов вплоть до настоящего времени. Само понятие «эпоха создания» в данном случае весьма неопределённо – видимо, это IV или III в. до н.э. Наиболее известной и авторитетной версией памятника является палийская, состоящая из 423 стихотворных сутр, разделённых на 26 глав. Именно из её перевода и даётся ниже небольшой отрывок[172]. Исследователи буддийской традиции усматривают ценность «Дхаммапады» в необыкновенном изяществе её сутр, каждая из которых представляет собой законченный афоризм, поражающий своей глубиной и образностью.
Того, кто живёт в созерцании удовольствий, необузданного в своих чувствах, неумеренного в еде, ленивого, нерешительного, - именно его сокрушает Мара[173], как вихрь – бессильное дерево.
Того, кто живёт без созерцания удовольствий, сдержанного в своих чувствах и умеренного в еде, полного веры и решительности, - именно его не может сокрушить Мара, как вихрь не может сокрушить каменную гору.
(Глава парных строф)
Серьёзность – путь к бессмертию. Легкомыслие – путь к смерти. Серьёзные не умирают. Легкомысленные подобны мертвецам.
Когда мудрый серьёзностью прогонит легкомыслие, он, беспечальный, подымаясь на вершины мудрости, смотрит на больное печалью человечество, как стоящий на горе на стоящего на равнине, как мудрый на глупого.
( Глава о серьёзности)
Что бы ни сделал враг врагу или же ненавистник ненавистнику, ложно направленная мысль может сделать ещё худшее.
Что бы ни сделали мать, отец или какой другой родственник, истинно направленная мысль[174] может сделать ещё лучшее.
(Глава о мысли)
Если странствующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть он укрепится в одиночестве[175]: с глупцом не бывает дружбы.
Если глупец связан с мудрым даже всю свою жизнь, он знает дхамму не больше, чем ложка – вкус похлёбки.
Пока зло не созреет, глупец считает его подобным мёду. Когда же зло созреет, тогда глупец предаётся горю.
Когда же глупец на своё несчастье овладевает знанием, оно уничтожает его удачливый жребий, разбивая ему голову.
(Глава о глупцах)
Не думай легкомысленно о зле: «Оно не придёт ко мне». Ведь и кувшин наполняется от падения капель. Глупый наполняется злом, даже понемногу накапливая его.
Если рука не ранена, можно нести яд в руке. Яд не повредит не имеющему ран. Кто сам не делает зла, не подвержен злу.
Ни на небе, ни среди океана, ни в горной расселине, если в неё проникнуть, не найдётся такого места на земле, где бы живущий избавился от последствий злых дел.
(Глава о зле)
Выдержка, долготерпение – высший аскетизм, высшая Нирвана, - говорят просветлённые, - ибо причиняющий вред другим – не отшельник, обижающий другого – не аскет.
Даже ливень из золотых монет не принесёт удовлетворения страстям. Мудр тот, кто знает: страсти болезненны и мало от них радости.
(Глава о просветлённом[176])
Победа порождает ненависть; побеждённый живёт в печали. В счастье живёт спокойный, отказавшийся от победы и поражения.
Нет огня большего, чем страсть; нет беды большей, чем ненависть; нет несчастья большего, чем тело; нет счастья, равного спокойствию.
(Глава о счастье)
Кто сдерживает пробудившийся гнев, как сошедшую с пути колесницу, того я называю колесничим; остальные – просто держат вожжи.
Говори правду, не поддавайся гневу; если тебя просят, - пусть о немногом, - дай. С помощью этих трёх условий можно приблизиться с богам.
И не было, и не будет, и теперь нет человека, который достоин только порицания или только похвалы. (Глава о гневе)
Писание загрязняется, если его не повторять; дома загрязняются, если за ними не следить; красота загрязняется леностью; легкомыслие у бдительного – грязь.
Легко жить тому, кто нахален, как ворона, дерзок, навязчив, безрассуден, испорчен.
Но трудно жить тому, кто скромен, кто всегда ищет чистое, кто беспристрастен, хладнокровен, прозорлив, чья жизнь чиста.
(Глава о скверне[177])
Как трава куса, если за неё неумело ухватиться, режет руку, так и отшельническая жизнь, если её неверно вести, увлекает в преисподнюю.
Что-либо сделанное небрежно, попранный долг, сомнительное благочестие – всё это не приносит большого вознаграждения.
Несделанное лучше плохо сделанного; ведь плохо сделанное потом мучит. Но лучше несделанного хорошо сделанное, ибо, сделав его, не испытываешь сожаления.
(Глава о преисподней[178])
Как дерево, хотя и вырванное, продолжает расти, если корень его не повреждён и крепок, так и страдание рождается снова и снова, если не искоренена склонность к желанию.
У кого сильны тридцать шесть потоков[179], устремлённых к удовольствиям, и мысли направлены на страсть, того, отклонившегося от правильных взглядов, уносят потоки.
Возбуждённые страстью попадают в поток, как паук в сотканную им самим паутину. Мудрые же, уничтожив поток, отказавшись от всех зол, странствуют без желаний.
(Глава о желании)
Буддийская поэзия Древней Индии формировалась на пересечении двух традиций – жреческой, проникшей в среду последователей Будды вместе с переходящим в буддизм брахманством, и фольклорной. Влияние жреческой традиции особенно ощутимо в древнейшей поэзии, представленной главным образом в сборнике «Суттанипата» в форме поэтических диалогов. Это беседы Будды с учениками, или с кем-нибудь из необращённых брахманов. Что касается фольклорной песенной традиции, обрядовой или лирической, то она питала буддийскую поэзию на всех этапах её развития. В демократических слоях общины религиозные песни часто создавались на основе переработки народного песенного творчества, что проявилось в существовании припевов, параллелизмах и т.п.
«Сутта о решимости», входящая в «Суттанипату» повествует о знаменитом эпизоде искушения будущего Будды Марой перед тем, как царевич достиг просветления. Действие разворачивается на берегу реки Неранджары, куда Гаутама приходит, разочаровавшись в аскезе, и садится под деревом. Мара, властитель всего, что противостоит буддийским ценностям, пытается вначале соблазнить, а потом устрашить царевича, насылая на него чудищ, персонифицирующих разнообразные страсти и пороки. Гаутама остаётся непоколебимым в своём решении, и Мара отступает.
 Когда я, полный решимости,/ На берегу Неранджары,/ Все силы собрав, размышлял/ О том, как достичь покоя,/ Ко мне подошёл Намучи/ С жалостливыми речами:/ «Ты исхудал, ты бледен,/ Близка твоя смерть, несчастный!/…Живя, как живут брахманы,/ В огонь принося жертвы,/ Много заслуг накопишь./ Что пользы в борьбе с собою?/ Путь борьбы с собою тернист,/ Мучителен, полон лишений»,/ Говоря эти гатхи, Мара/ Вплотную приблизился к Будде./ Так говорившему Маре/ Вот что ответил Блаженный: «Родич беспечных, грешник,/ Пришёл сюда зачем ты?/ Нет для меня в заслугах/ И самой ничтожной пользы!/ Кому до заслуг есть дело,/ С тем и беседуй, Мара!/…Твои полчища, что одолеть/ Не дано ни богам, ни людям,/ Мудростью в прах разобью,/ Как горшок разбивают камнем.[180]
Когда я, полный решимости,/ На берегу Неранджары,/ Все силы собрав, размышлял/ О том, как достичь покоя,/ Ко мне подошёл Намучи/ С жалостливыми речами:/ «Ты исхудал, ты бледен,/ Близка твоя смерть, несчастный!/…Живя, как живут брахманы,/ В огонь принося жертвы,/ Много заслуг накопишь./ Что пользы в борьбе с собою?/ Путь борьбы с собою тернист,/ Мучителен, полон лишений»,/ Говоря эти гатхи, Мара/ Вплотную приблизился к Будде./ Так говорившему Маре/ Вот что ответил Блаженный: «Родич беспечных, грешник,/ Пришёл сюда зачем ты?/ Нет для меня в заслугах/ И самой ничтожной пользы!/ Кому до заслуг есть дело,/ С тем и беседуй, Мара!/…Твои полчища, что одолеть/ Не дано ни богам, ни людям,/ Мудростью в прах разобью,/ Как горшок разбивают камнем.[180]
Тханка. Победа Сиддхартхи над Марой. Шёлк, темпера. Китай.
Эпоха Пяти династий и Десяти царств (907-960).
В центре тханки изображен Будда в позе лотоса (падмасане). Его левая рука сложена в жесте дхаяна-мудра (жест медитации), правая – в жесте бхумиспарша-мудра (прикосновение к земле или жест просветления), а над головой изображен шестирукий Мара с двумя скрещенными мечами над головой. По сторонам от Будды – чудовища из войска Мары, которые не могут победить решимость Гаутамы достичь просветления. По краям тханки – бодхисаттвы, а внизу помещены семь драгоценностей буддизма – колесо, конь, белый слон, волшебная жемчужина, меч, мудрый советник и прекрасная царица.
Древнее ядро «Суттанипаты» составляла группа текстов, входящих в цикл «Параяна» («Достижение того берега»). Особенность этих поэтических диалогов составляла иносказательность вопроса, использующего уже известные образы потока и острова как места спасения.
- Для попавших на середину/ Наводящего ужас потока,/ Для объятых смертью и старостью/ Укажи остров, почтенный,/ И мне расскажи про остров,/ Где бы это не повторилось./ - Для попавших на середину/ Наводящего ужас потока,/ Для объятых смертью и старостью/ Укажу тебе остров, Каппа. / Ничего не иметь и не брать -/ Вот тот единственный остров./ Я его нирваной зову,/ Разрушающей смерть и старость. (Вопрос манавы[181] Каппы)[182]
Основные жанры буддийской поэзии – наставления (от короткой заповеди до пространной поэтической проповеди); эпические песни житийного содержания, повествующие о жизни Будды и его сподвижников, и лирическая исповедь, связанная с темами разочарования, ухода от мира, душевной борьбы и просветления. Как и в Древнем Китае, исповедальная лирика, служащая «излиянию чувств», была связана с формированием авторской поэзии. В отличие от безымянной поэзии «Суттанипаты», сборники «Тхерагатха» и «Тхеригатха» (песни старейших, известных монахов и монахинь - соответственно), представляющие исповедальную лирическую традицию, оформлены как авторские. Разумеется, имя действительного сочинителя иногда подменялось авторитетным именем знаменитого святого или ближайшего ученика Будды, некоторые имена были случайными, но само разнообразие авторских имён говорит о формирующейся в III– II вв. до н.э. индивидуальной поэзии.
Венценосные, синие, с красивыми шеями
Павлины кричат в Карамви.
Растревоженные прохладным ветром, спящего
Пробуждают к раздумью.
(Читтака. /Тхерагатха)[183]
К ранней исповедальной лирике относятся и многочисленные образцы женской буддийской поэзии, воспевающие свободу и учение Будды. О я свободна, свободна!/ От трёх горбунов свободна:/ От пестика и от ступки/ И от горбатого мужа./ От рожденья и смерти свободна -/ Исчезло ведущее к жизни. (Мутта./Тхеригатха). О дарующих освобождение «трёх знаниях»[184] говорится в стихах монахини Меттики. Хоть я больна и стара/ И силы мои иссякли,/На гору я взобралась,/ Опираясь на палку./Покрывало сбросив с себя/ И кружку перевернувши,/ Сижу на камне – и вот/ Мысль моя стала свободной./ Три знания обретены,/ Исполнен наказ Будды.[185]
Буддийская традиция сохранила имя Вангисы - ученика Будды, который владел даром почитаемой на Востоке импровизации. Вангиса, вдохновлённый проповедями Учителя, перелагал их на стихи. По преданию, он был профессиональным поэтом: в одной из гатх говорится, что до обращения он бродил по городам и деревням, «опьянённый складыванием песен». Его творчество отличало мастерское владение литературными панегирическими приёмами, характерными для древней поэзии. Десять сотен бхикшу[186]/Окружили Счастливого./ Он разъясняет Дхарму,/ Ниравану, где страха нет./ Внемлют чистейшей Дхарме,/ Возвещаемой Буддой./ Как Будда обликом светел!/ Как славят бхикшу его!
К поздним гатхам относят творения другого профессионального поэта Талапуты (около III в. до н.э.). Согласно традиции, Талапута был знаменитым актёром, который под влиянием проповедей Будды оставил своё ремесло и стал монахом. Его поэзия знаменательна передачей двойственного состояния поэта-отшельника, решившего следовать по пути, данному Буддой, и в то же время ощущающего непреодолимую тоску по мирской жизни и её радостям. Веря в правильность избранного пути, автор стихов страдает от осознания мучительности долгого пути к просветлению. О когда же я буду в горных пещерах/ Жить один, вокруг никого не видя,/ Постигая сущего непостоянство, -/ О когда, о когда всё это будет?/ О когда я, муни, одетый в лохмотья,/ Ничего не имея, в жёлтых одеждах[187],/ Уничтожив вражду, заблуждения, страсти,/ Буду жить, счастливый, в расселине горной?/…Нет, не беда, не позор, не изгнанье,/ Не каприз, не поиски пропитанья/ Толкнули меня к уходу от мира - / Я был послушен тебе, о сердце!/ Довольство малым добрые славят,/ Отказ от гнева, прекращенье страданий, -/ Так ты, о сердце, меня наставляло,/ А теперь возвращаешься к старым привычкам!/… Всё будет теперь не так, как прежде./ Я не буду больше в твоей власти./ Я отрёкся ради учения риши,/ Подобные мне не подвержены смерти.[188]

Молящиеся буддийские монахи у висящей над пропастью («падающей») золотой гранитной глыбы, которую согласно преданию, удерживает волос Будды, на горе Чайтино. Мьянма. Современное фото.
На рубеже двух эпох в истории древнего буддизма – Хинаяны и Махаяны (I – II вв.) – было создано одно из самых популярных сочинений в буддийском мире – «Буддачарита» - «Жизнь Будды». Его автор – прославленный поэт и драматург Ашвагхоша (дословно – «Голос коня», или «Мелодия, подобная плавному бегу коня»). По словам К. Бальмонта, «священный напев Асвагхоши могуч, как конское ржание в бою, как топот копыт скакуна, мерный и быстрый».[189] В отличие от «Лалитавистары», отразившей традицию обожествления Будды в Махаяне, «Буддачарита» представляет собой жизнеописание Учителя, наделённого человеческими чертами. Поэма глубоко лирична и музыкальна, жизнь Будды рисуется в ней на фоне судеб людей с их благородными и недостойными поступками, настроениями и страстями. С. Леви называл поэму Ашвагхоши «сплошным песнопением».[190]
Об авторе «Буддачариты» - талантливом поэте, основателе драматургического искусства Индии сохранилось всего несколько биографических фактов и легенды в тибетских и китайских сочинениях. Согласно одной из них, однажды Будда, беседуя с учениками, проходил по саду. Соловей, увидав прекрасный лик Будды, пленился им и запел. Будда, растроганный пением, сказал: «Пусть же, в новом воплощении, он будет человеком». Этим человеком и стал Ашвагхоша, соединивший в себе горячую природу коня и певучую природу птицы. Поэт происходил из брахманского рода, получил традиционное образование; судя по его сочинениям, прекрасно знал священные тексты арийских Вед. Наиболее авторитетные источники относят время его жизни к первой половине I века н.э. Перу Ашвагхоши приписывалось более 30-ти буддийских сочинений различных жанров. Среди них наиболее достоверны музыкальное произведение «Покровитель царства», «Алмазная Игла», сборник поучительных рассказов «Украшение проповедей», поэмы «Сундара и Нанда», драмы «Сказание о Шарипутре» и поэма «Жизнеописание Будды». Текст знаменитой поэмы известен современной науке лишь с 1883 года, благодаря английскому переводу с санскритского оригинала. К. Бальмонт при подготовке русского перевода «Буддачариты» обращался к изданному в серии «Священные книги Востока» переводу С. Била, который перевёл на английский китайскую версию памятника.
 Известный индолог Г.М. Бонгард-Левин полагает, что знакомившим русского читателя с «Жизнью Будды» издателю Сабашникову и поэту Бальмонту, по-видимому, не было известно, что встреча России с царевичем Сиддхартхой, ставшим «Просветлённым», была уже не первой.
Известный индолог Г.М. Бонгард-Левин полагает, что знакомившим русского читателя с «Жизнью Будды» издателю Сабашникову и поэту Бальмонту, по-видимому, не было известно, что встреча России с царевичем Сиддхартхой, ставшим «Просветлённым», была уже не первой.
Симон Ушаков. Гравюра Преподобный Варлаам просвещает царя Иоасафа. Иллюстрация из «Истории о Варлааме и Иоасафе» Симеона Полоцкого, опубликованной в 1681 г. в Москве
За восемь столетий до этого, в XII веке, на Руси была популярна «Повесть о Варлааме и Иоасафе, царевиче индийском». Перевод на древнерусский и на другие славянские языки делался с греческой версии, восходящей к индийской легенде о жизни Будды и именно к «Буддачарите». Имя Иоасаф – искажённое индийское «бодхисаттва» (через персидско-арабскую форму Будасф). Иоасаф в русской церкви был даже причислен к лику святых. Повесть пользовалась широкой популярностью, по ней слагались духовные стихи. Так, духовный стих «Царевич Иосаф» из сборника П. Бессонова «Калики перехожие» передает диалог царевича Иосафа (Асафея) с «прекрасной матерью пустыней», символизирующей уход из мира, в котором царевич высказывает свою твердую решимость посвятить себя духовной жизни. «Прекрасная пустыня» указывает царевичу на его мирское предназначение – «владеть вольным царством», «казною золотою», жить в белокаменных палатах, подчеркивает его молодость, чуткую к пробуждению природы весной. Но Иоасаф отвергает все мирские блага, желая «работати» матери-пустыне, «земные поклоны исправляти». «И все святые праведные/ Асафью царевичу вздивовались,/ Ево младому царскому смыслу». [191]
В XVII веке свою версию «Повести о Варлааме и Иоасафе» создал Симеон Полоцкий, а при Петре Первом устраивались театральные представления, основанные на её сюжете. Позднее к ней обращались поэты В.А. Жуковский и А.Н. Майков. Вряд ли Бальмонт знал и о том, что драма «Жизнь есть сон» его любимого испанского драматурга Кальдерона, которую поэт перевёл на русский в 1902 г., также написана на сюжет «Повести о Варлааме и Иоасафе». Открытие первой буддийской выставки в Петрограде в 1919 г. академик С.Ф. Ольденбург предварил словами: «Нигде, может быть, на земле люди не искали с такой силою и напряжением ответа на вопросы о жизни и смерти, о цели и смысле жизни, как в далёкой от нас Индии, населённой главным образом народами, нам родными, языки и многие обычаи которых во многом близки нам».[192] Издание «Буддачариты» в переводе Бальмонта В. Брюсов назвал ценным подарком русской литературе. Через столетие ценность труда не уменьшилась, скорее всего, именно в наше время она многократно возросла.
Отрывки из поэмы Ашвагхоши «Жизнь Будды» даются в переводе К.Бальмонта.[193]
 1. Рождение
1. Рождение
Был некто, рода знатного Икшваку,
Что означает – Сахарный Тростник,
Непобедимый, как река, властитель
Царь Сакья, чистый в умственных дарах
И в нраве – незапятнанности цельной,
Суддходана, иначе – Чистый Рис.
Светло любимый всеми существами,
Как мир обласкан новою Луной,
Поистине тот царь был словно Сакра,
Кому все Дэвы неба – сонмы слуг,
Царица же его – богиня Саки.
Сильна, спокойна в мыслях, как Земля,
Чиста по духу, словно водный лотос,
Определить её – никак нельзя,
Её же имя, имя – образ, Майя./…/
Рождение Будды. X в. Непал.[194]
5. Разлука
И царь увеличил возможности чары,
Влеченья телесных услад.
Ни ночью, ни днём не смолкали напевы,
Царевич от звуков устал.
Ему опостылели нежные звоны,
Он жаждал отсутствия их.
Он думал о старости, боли и смерти,
Как лев был, пронзённый стрелой./…/
Он видел страду и томление мира,
Предельное горе его.
Болезнь разрушает, и в старости – тленье,
И смерть убивает совсем,
И люди не могут для правды проснуться,
И гнёт он чужой принимал./…/
13. Мара
Сильный Риши, рода Риши,
Твёрдо сев под древом Бодхи,
Клятвой клялся – к воле полной
Совершенный путь пробить.
Духи, наги, Сонмы Неба
Преисполнились восторгом.
Только Мара Дэвараджа,
Враг молитв, один скорбел.
Воин, царь пяти желаний,
Изощрённый в деле битвы,
Враг всех ищущих свободы,
Справедливо назван – Злой./…/

Тханка. Победа Сиддхартхи над Марой. Фрагмент. Шёлк, темпера. Китай. Эпоха Пяти династий и Десяти царств (907-960).
14. Лицом к лицу
Бодгисаттва, Мару победивши,/ Твердо ум в покое укрепив,/ Вычерпав до капли первоправду,/ В созерцанье глубоко вошел./ И в порядке пред его очами/ Состоянья разные прошли/…/ Вспомнил он свои существованья,/ Там рожден и с именем таким,/ Все, до настоящего рожденья,/ Через сотни, тысячи смертей/ Мириады разных воплощений,/ Всякие и всюду, без числа./ Всей своей семьи узнав сплетенья,/ Жалостью великой схвачен был./…/ Пусто все, и шатко, и неверно,/ Как платан, что каждый миг дрожит,/ Как мечта, что вспыхнет и погаснет,/ И как сон, что встанет и пройдет./…/ Пред собой увидел все созданья,/ Как увидишь в зеркале свой лик:/ Всех, кто был рожден и вновь родился,/ Чтоб в рожденьи новом умереть,/ Благородных, низких, пышных, бедных,/ Всех жнецов своих безмерных жатв./…/Видел также он скупцов и жадных,/ Ныне – как голодные они,/ Их тела крутой горе подобны,/ Рты же – как игольное ушко./…/ Жадные, обманывать умели,/ Облыгали тех, кто был благим,/ А теперь голодными родились,/ Призрак пищи вечно мучит их./…/ Видел тех, кто заслужили Небо,/ Но снедает их любовь к любви,/ Жажда быть любимым вечно мучит,/ вянут, как без влаги вянет цвет./Светлые дворцы их опустели,/ Дэвы спят во прахе на земле,/ Или молча горько-горько плачут,/ Вспоминая о былых любвях./…/ Восхотев Нирвану проповедать,/ Совершенный возвестить покой,/ К Бенаресу так он путь направил,/ Как пронзает Солнце темноту,/ К граду, где издревле жили Риши,/ Он направил свой размерный шаг,/ Царь быков глядит так взором кротким,/ Так ступает ровным шагом лев.
Пьяный слон[195]
И пришел он в Бенарес./ Обратил купцов богатых,/ И сандаловый он терем/ Принял в дар от обращенных,/ Благовонный до сих пор./ И пришел он в Магивати,/ обратил молельных Риши./ И ступил ногой на камень,/ До сих пор там виден след./ Колесо на нем двойное,/ В колесе сияют спицы,/ Десять сотен спиц блистает,/ Светлый след неистребим./…/В это время Дэвадатта,/ Совершенства Будды видя,/ В сердце завистью ужален,/ Власть мышленья потерял/ Измышлял дела он злые,/ Чтоб Закон остановился./ Он взошел на Гридракуту,/ Камень тяжкий покатил./ Был на Будду он нацелен,/ Но, с горы скатившись, камень,/ Разделился на две части/ И прошел по сторонам./ Неуспех увидя в этом,/ Он из царских загородок/ Отпустил, на путь прохожий/ Дико-пьяного слона./…/ Так бежал тот слон свирепый/ По дорогам Раджагрихи,/ Исступленно убивая/ Попадавшихся людей./…/ Совершенный в это время/ Путь держал свой в Раджагриху,/ С высоты ворот просили / Будду в город не вступать./ С ним пять сотен было Бхикшу,/ Все они сокрылись в страхе,/ Только Ананда остался,/ Верность Будде сохранил./ Но, одной лишь мыслью полон -/ Укротить любовью ярость,/ Шел спокойно Совершенный/ К сумасшедшему слону./ Пьяный слон увидел Будду,/ Диким оком быстро глянул/ И, придя, пред ним склонился,-/ Пала тяжкая гора./ Лотос – руку протянувши,/ Приласкал его Владыка,/ Как светло ласкает тучу/ Устремленный луч Луны./…/ И народ кругом, увидя,/ Что безумный слон стал мудрым,/ Поднял радостные клики,/ Это чудо вознося.
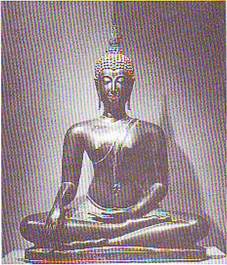
Бронзовая скульптура Будда,
покоривший Мару.
XIV в. Таиланд.
Буддийские мотивы стали ведущими в творчестве многих поэтов Древней Индии, среди которых был знаменитый Бхартрихари, о котором практически ничего достоверного не известно. Творчество поэта и некоторые косвенные данные позволяют предположить, что он жил в III или IV веке в одной из областей Северо-Западной Индии, был близок к кругам религиозных проповедников и странствующих учителей. Возможно, что поэт и сам вёл бродячий образ жизни, выступая с импровизациями перед самой разнообразной аудиторией. Стихи Бхартрихари, как предполагают, были собраны и записаны много лет спустя после его смерти. В поздних редакциях стихи были распределены по трём циклам – шатакам: «Нити-шатака» («Шатака о правильном поведении»), «Шрингара-шатака» («Шатака о любви») и «Вайрагья-шатака» («Шатака об отрешении»).
В целом во всех трёх шатаках преобладающими являются мотивы моралистического характера, которые развиваются поэтом в его идеале «хорошего человека», противостоящего дурному, назиданиях царям, стихах о всевластии судьбы, о богатстве, знании, дружбе, любовной лирике и назидательных стихах о женщине. Буддийские идеи и образы особенно характерны для последнего, третьего собрания, содержащего религиозную лирику, наставления о бренности бытия, ничтожестве мирских радостей, трудностях отшельнического пути. Герой Бхартрихари часто задаётся вопросом: отдаться любви, наслаждаться мирскими радостями или стать отшельником, уйти в лес, помня, что все эти радости нестойки и кратковременны? Каждый путь связан со своей системой ценностей. Равнозначность противоположных идеалов, свойств и явлений становится для поэта предметом логической игры. Он выстраивает доказательства, приравнивающие отшельника к царю, бедность к богатству. Увлечение Бхартрихари логической игрой ума даёт основание исследователям считать его поэзию рационалистической, чуждой как живописной изобразительности, так и бытовой ассоциативности.[196] Поэтическая образность его дидактики и даже лирики связана с абстрагирующими сопоставлениями, антитезами, противопоставлениями – перечислениями.
От дурного совета царь гибнет,
Подвижник – от привязанности, от баловства – сын,
Брахман – от невежества, род – от плохого сына,
Добродетель – от общения с низким и злым,
Стыд – от вина, от нерадивости – поле,
От долгих скитаний на чужбине – любовь,
Процветание – от несчастья, от недоверия – дружба,
А богатство – от щедрости и мотовства.
26
Прогрызла как-то ночью мышь дыру в корзине
И тут же угодила в пасть к змее,
Которая лежала там, кольцом свернувшись,
Голодная и без надежд на жизнь.
Наевшись, ожила змея и выползла на волю
Через дыру, проделанную мышью.
Не беспокойтесь! Видите? Судьба сама хлопочет
О том, чтоб нас сломить или возвысить.
162
Для еды довольно плодов,/ для питья – сладкой воды,/ Ложе моё – земля,/ из коры – одежды мои./ Не могу больше терпеть/ грубости подлецов,/ Что, из чаши богатства хлебнув,/ совсем помутились умом.
173
Катит река надежды воды бесплодных мечтаний/ Между крутых берегов бесконечных тревог,/ Вьются птицы сомнений над волнами жажды,/ Гибель сулит заблуждений водоворот./ Сносит могучим разливом деревья спокойствия,/ В глубине притаились крокодилы страстей…/ Люди, восславим очищенных святостью йогов,/ тех, кто мутный этот поток сумел переплыть!
191
Что толку в Ведах, в чтении пуран[197]?/ Что толку в смрити[198] и пространных шастрах[199]?/ Что толку хлопотать о списке добрых карм,/ Дающих право приютиться в сварге[200]?/ Всё это мелкий торг. И лишь одно/Блаженство самопогруженья/ Дотла сжигает тяжесть бытия/ И боль всех горестей и всех лишений.
Влияние Бхартрихари на древнюю и средневековую поэзию Индии было огромным. Стихи его распространялись и в устной традиции, и в многочисленных списках. Ему подражали многие поэты, причём не только творчеству или манере в целом, но и как это принято в древневосточной культуре, отдельным темам, стихам, приёмам. Поэтому творчество Бхартрихари породило целую поэтическую традицию с особым жанровым, дидактико- тематическим и стилистическим каноном.
Глава 2.Канонические изображения Будды и символов его учения. Отражение в искусстве буддийской космологии
Согласно исследованиям в области буддийского искусства, с образом исторического Будды связано несколько жестов, характерных для его изображений.[201] Так, обе руки, находящиеся у груди с прижатыми пальцами, символизируют поворот колеса Закона или передачу учения. Руки, лежащие на коленях, указывают на состояние медитации. Поднятая ладонью вперёд рука – это жест утешения или защиты. Опущенная к земле ладонью вниз правая рука символизирует момент просветления. К главным событиям жизни Будды относится первая проповедь в Сарнатхе. Здесь он изображается с соответствующим жестом учения, при этом иногда в композицию включается колесо Закона (символ раннего буддизма). Образ полулежащего Будды указывает на его окончательный триумф – паринирвану.[202]

Стоящий Будда (Будда Удаяны).
XIV в. Китай. Династия Юань.
Знаменательно происхождение популярного в Восточной Азии изображения стоящего в полный рост Будды с поднятой в жесте утешения правой рукой. Это так называемый Будда Удаяны. Согласно преданию, достигший просветления и ставший Буддой Гаутама по прошествии определённого времени взошёл на небеса для проповеди своего учения 33-м божествам царства Индры. Исповедующий учение Будды царь Удаяна, бесконечно тоскуя по Учителю, приказал создать его статую из сандалового дерева. Впоследствии это событие и образ Будды Удаяны, стали каноническими, дав импульс для многочисленных воспроизведений иконографии несохранившейся скульптуры.
 Учёные полагают, что канонические изображения Будды, подчёркивающие ту или иную его ипостась, распространяются с III века до н.э. Многие факты говорят о том, что развитие образа Будды, как и всего буддийского искусства, было связано прежде всего со светским покровительством, с деятельностью властителей, ставших последователями буддизма. «В то время как нищенствующие монахи и благочестивые священники использовали наглядные изображения крайне редко, мирские последователи нуждались как в начальном руководстве, так и в продолжающемся визуальном напоминании о вероучении, которому они следовали».[203] Так, ещё до распространения антропоморфных изображений Будды символом буддийского учения были колонны с пышными капителями. Их происхождение связано с именем легендарного индийского царя Ашоки Маурьи, который правил с 268 по 231 г. до н.э. Ашока объединил северо-восточную, северную и центральную части Индии в буддийскую империю. «Он узрел в буддизме принципиально новый инструмент концептуальной власти, позволяющий создавать полиэтнические империи, основанные на идее религиозно-идеологического равенства подданных».[204] Ашока утверждал избранное им вероучение с помощью указов, вырезанных на колоннах из камня и дерева. Исследователи предполагают, что в использовании символических столбов Ашока следовал ранним ведийским верованиям, в частности представлениям об axis mundi («оси мира»), содержащимся в Ригведе.
Учёные полагают, что канонические изображения Будды, подчёркивающие ту или иную его ипостась, распространяются с III века до н.э. Многие факты говорят о том, что развитие образа Будды, как и всего буддийского искусства, было связано прежде всего со светским покровительством, с деятельностью властителей, ставших последователями буддизма. «В то время как нищенствующие монахи и благочестивые священники использовали наглядные изображения крайне редко, мирские последователи нуждались как в начальном руководстве, так и в продолжающемся визуальном напоминании о вероучении, которому они следовали».[203] Так, ещё до распространения антропоморфных изображений Будды символом буддийского учения были колонны с пышными капителями. Их происхождение связано с именем легендарного индийского царя Ашоки Маурьи, который правил с 268 по 231 г. до н.э. Ашока объединил северо-восточную, северную и центральную части Индии в буддийскую империю. «Он узрел в буддизме принципиально новый инструмент концептуальной власти, позволяющий создавать полиэтнические империи, основанные на идее религиозно-идеологического равенства подданных».[204] Ашока утверждал избранное им вероучение с помощью указов, вырезанных на колоннах из камня и дерева. Исследователи предполагают, что в использовании символических столбов Ашока следовал ранним ведийским верованиям, в частности представлениям об axis mundi («оси мира»), содержащимся в Ригведе.
Львиная капитель. III в. до н.э.
Сарнатх, Индия.[205]
Знаменитый памятник, связанный с так называемым царским подношением Будде, - Сарнатхская львиная капитель, отпечатанная на денежных знаках Индии. Один из самых древних символов буддизма - колесо Закона - изображён на государственном флаге этой страны. Получили распространение колонны с капителью в виде цветка лотоса, увенчанные фигурами таких почитаемых в Индии животных, как корова, слон и лев. Лев на колонне Ашоки, как и в других связанных с Буддой изображениях (львы обычно поддерживают трон Будды), является символом царского происхождения Гаутамы, имеющего от рождения «львиное» тело. Лев указывает на родовое имя царевича – «лев из рода Шакья», что и подчёркивается часто изображаемым «львиным» троном.
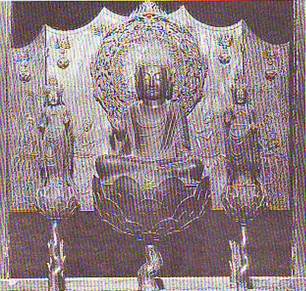
Бронзовая скульптура Будда Амида (Амитабха) и два бодхисаттвы.Начало VIII в. Святилище г-жи Татибана. Япония
Кроме Будды Удаяны, символизирующего утешение, существуют образы коронованного Будды, Будды Вайрочаны, а также Будды Амитабхи или Будды Амиды (в Японии). Образ Будды Амитабхи связывают с представлениями о молодости, вечности и неизбежности перерождения в раю. Земная жизнь – всего лишь часть движения к перерождению в «чистой земле» Амитабхи. В улыбке Будды Амитабхи запечатлена вера в окончательное освобождение человека как следствие неисчерпаемости космической энергии.
Отличительной особенностью изображений Будды-целителя(Бхайшаджьягуру) является наличие 12-ти стражников или воинов, образы которых возводят к разработке архаических персонажей, олицетворяющих плодородие. Фигуры 12-ти воинов располагались в соответствии со знаками зодиака, что также подчёркивает их связь с ранними земледельческими культами.
БуддаВайрочана – космический Будда, воплощающий абсолют вселенной, стал популярен как олицетворение идеи Махаяны, подчёркивающей божественность Будды и стремящейся представить его как небесного владыку. Поэтому небесный Будда Вайрочана часто изображается коронованным. Считается, что к V в. н.э. эволюция земного образа Шакьямуни к вечным, одухотворённым и космологизированным изображениям Будды махаяны была закончена.
Следует подчеркнуть также влияние древнеиндийской скульптуры на изображения Будды. В индийской традиции человек рассматривается как хранитель «дыхания жизни», поэтому сама скульптура – это не просто физическое изображение человека или его тела. Изображение предполагало возвышенную отрешённость, красоту аскезы и отшельничества. Поэтому изображения Будды гармонически соединяют человеческие черты с признаками божественности, к которым относились уже упоминаемые 32 признака совершенства и последующие добавления ореола и нимба.

Бронзовая статуэтка. Панга Саю Санг (Майтрейя).
VI в. Корея. Национальный музей азиатских искусств. Париж. Бодхисаттва будущего изображен в царской позе (лалитасана), левая нога опирается на подставку в виде стилизованного лотоса.
К образам Будды (особенно в традиции Махаяны) примыкают изображения Бодхисаттв (просветлённых, находящихся на пути к нирване), вначале сопровождающих Будду, а затем ставших самостоятельными объектами поклонения. Для отличия бодхисаттв служили особые, только им присущие символы. Например, у будущего Будды – бодхисаттвы Майтрейи в короне изображается ступа, а в короне Авалокитешвары, который всегда держит в руке лотос, есть изображение сидящего Будды. Авалокитешвара, выражающий такую ипостась Будды, как сострадание, впоследствии выступал как защитник путешествующих, спаситель душ умерших и заблудших. Культ Майтрейи был связан с будущим, с надеждами на благоприятное перерождение. Кроме того, бодхисаттвы олицетворяли благородство, благочестие, милосердие, земные заслуги, которые будут вознаграждены небесными дарами (последнее подчёркивалось великолепием их одеяний).

Главными божествами, получившими
распространение в странах буддийского влияния, были Праджняпарамита как олицетворение женской ипостаси и мудрости Будды и богиня Тара, женский двойник бодхисаттвы Авалокитешвары, которая также выполняла функции защиты от таких опасностей, как огонь и свирепые животные.
Бронзовая статуэтка. Бодхисаттва Авалокитешвара.
XII-XIII вв. Камбоджа. Национальный музей азиатских искусств. Париж.
В буддизме Махаяны, получившем распространение в Камбодже при царе кхмерской династии Джаявармане VII (1125-1218), который в то же время поддерживал представления о Божественном царстве, основанные на индуизме, был развит культ бодхисаттвы созерцания Авалокитешвары («владыки зрящего»). Влияние индуизма проявляется в многорукости бодхисаттвы. В его руках обычно находятся такие важные атрибуты буддизма, как четки (мала), лотос (падма), сосуд (калаша) и другие. Лицо, головной убор и одеяние бодхисатвы имеют местный кхмерский облик.
В Китае буддийской богиней милосердия была Гуаньинь, о чем свидетельствуют её многочисленные изображения, основанные на легендах о её необыкновенном благородстве и сострадании: слепота (глаза были отданы потерявшему зрение отцу), расколовшаяся на несколько частей голова богини при виде мучений грешников в аду. Поза «царского отдохновения», изящество одеяния и жеста правой руки символизируют духовное просветление и совершенство бодхисаттвы сострадания.
 Помимо изображений самого Будды в скульптуре и живописи разных стран с самого раннего периода распространения буддизма используются такие наиболее важные символы, как колесо Закона, дерево Бодхи, лотос, чинтамани, ваджра, ступа. В искусстве раннего буддизма они изображались самостоятельно, символизируя или самого Будду, или наиболее важные события его жизни и распространение учения.
Помимо изображений самого Будды в скульптуре и живописи разных стран с самого раннего периода распространения буддизма используются такие наиболее важные символы, как колесо Закона, дерево Бодхи, лотос, чинтамани, ваджра, ступа. В искусстве раннего буддизма они изображались самостоятельно, символизируя или самого Будду, или наиболее важные события его жизни и распространение учения.
Рельеф из песчаника. Поклонение колесу Закона.
100 г. до н.э. Бхархут. Индия.
 Позднее эти символы вошли в различные композиции буддийской скульптуры, архитектуры и живописи. Колесо Закона как образ просветления Будды и его первой проповеди обычно включалось в каноническое изображение передачи учения. Здесь символический жест остановки Буддой колеса Закона наряду с характерным знаком выдвинутой вперёд правой ладони усиливает значение события. Позднее, с VI века, в искусстве Индии встречаются изображения колеса Закона и двух газелей, символизирующих первую проповедь Будды в Оленьем парке. Долгое время сохранялись различные изображения ветвей священного дерева Бодхи, выражающего момент превращения царевича Гаутамы в Будду. Ветви дерева Бодхи присутствуют даже в тех случаях, когда образ Будды даётся в момент просветления, на что указывает знак касания земли рукой.
Позднее эти символы вошли в различные композиции буддийской скульптуры, архитектуры и живописи. Колесо Закона как образ просветления Будды и его первой проповеди обычно включалось в каноническое изображение передачи учения. Здесь символический жест остановки Буддой колеса Закона наряду с характерным знаком выдвинутой вперёд правой ладони усиливает значение события. Позднее, с VI века, в искусстве Индии встречаются изображения колеса Закона и двух газелей, символизирующих первую проповедь Будды в Оленьем парке. Долгое время сохранялись различные изображения ветвей священного дерева Бодхи, выражающего момент превращения царевича Гаутамы в Будду. Ветви дерева Бодхи присутствуют даже в тех случаях, когда образ Будды даётся в момент просветления, на что указывает знак касания земли рукой.
Бодхисаттва с лотосом. Фрагмент
росписи. Аджанта. VII в.
Лотос (чистота, совершенство, превосходящая земное значение мудрость, само учение буддизма), чинтамани (жемчужина или «драгоценность, исполняющая желания», иногда её держат в руках бодхисаттвы), ваджра («алмаз», «молния и удар грома» - символы прочности и неуничтожимости) позднее стали знаками эзотерических буддийских школ (Ваджраяна, Сингон, Тэндай).
Ваджра представляет абсолютную чистую силу природы в её наиболее могущественном проявлении и таким образом символизирует непобедимость пути Будды. Ваджраяна – путь ваджры или путь «грома – и молнии», отличается от ранних форм буддизма представлением о том, что чувственный окружающий мир не следует считать иллюзорным, что возможно достичь просветления и в этой жизни, чему служат особые виды медитации под руководством гуру, а также чтение мантр (мантра – букв. «освобождение ума») и участие в ритуалах. Сложные и тайные ритуалы эзотерических буддийских школ были призваны открыть абсолютный смысл в обычных вещах и тем самым устранить невежество, считающееся в буддизме «худшим видом грязи».
Одним из самых важных символов буддизма остаётся лотос, который может входить в различные изображения как часть композиции, придавая духовный смысл происходящему. «Поза лотоса» - это знак Будды и других буддийских божеств, лотос находится в руке бодхисаттвы Авалокитешвары, подчёркивая его близость к абсолютному совершенству и чистоте, он венчает колонну Ашоки, символизирующую присутствие самого Будды и
олицетворяющую столб мира на горе Меру, означающей центр вселенной.

Храм Феникса (Бёдо-ин) около Киото. 1053 г. Миниатюрная копия «западного рая» Амитабхи.
Кроме того, лотос связан с водной стихией, с темой воды в искусстве буддизма. В изображениях, связанных с буддийской космологией, водяной лотос, занимающий в таких композициях центральное положение, часто переходит в лотосовый трон, на котором восседает Будда Амитабхи - Будда «чистой земли» или рая. Земля Амитабхи описана в сутрах: «В стране совершенного блаженства есть семь драгоценных прудов, наполненных водой восьми заслуг…В пруду лотосы с большое колесо, благоухающие тонким ароматом. В стране совершенного блаженства, в чистой земле Будды есть всевозможные красивые птицы разных цветов – домашние и дикие гуси, цапли, аисты, журавли, павлины, попугаи…двухголовые птицы шиншин и другие. Во все часы дня и ночи они общим хором стройно поют».[206]
 Обожествление водной стихии в буддизме объясняет культ змеиных царей (наградж и нагов), которым поклонялись как воплощениям духов рек, источников, озёр. В буддийской мифологии наги – змееподобные полубожества. Исследователи полагают, что наги играли важную роль в мифологии доарийской Индии, и во включении их в буддийскую мифологию видят признак неарийского происхождения буддизма. Описания нагов встречаются во многих канонических текстах, например, в «Джатаках» (легендах о прошлых воплощениях Будды). Сам Шакьямуни, до того как стать Буддой, несколько раз перерождался в образе нага. В традиции махаяны распространены легенды, повествующие о том, как философ Нагаджуна добыл у нагов сутру «Праджняпарамиту», которая ими охранялась до тех пор, пока люди не созрели до её понимания.[207] Изображение наградж особенно характерно для произведений искусства раннего буддизма, где они символизируют мудрость и плодородие. Змеиным царям приписывались также защитные, охранительные функции. Известны изображения Шакьямуни на троне из свёрнутых змеиных колец и под капюшоном змеиного царя Мучалинда, которому в одном из буддийских мифов приписывается заслуга спасения Шакьямуни во время потопа.
Обожествление водной стихии в буддизме объясняет культ змеиных царей (наградж и нагов), которым поклонялись как воплощениям духов рек, источников, озёр. В буддийской мифологии наги – змееподобные полубожества. Исследователи полагают, что наги играли важную роль в мифологии доарийской Индии, и во включении их в буддийскую мифологию видят признак неарийского происхождения буддизма. Описания нагов встречаются во многих канонических текстах, например, в «Джатаках» (легендах о прошлых воплощениях Будды). Сам Шакьямуни, до того как стать Буддой, несколько раз перерождался в образе нага. В традиции махаяны распространены легенды, повествующие о том, как философ Нагаджуна добыл у нагов сутру «Праджняпарамиту», которая ими охранялась до тех пор, пока люди не созрели до её понимания.[207] Изображение наградж особенно характерно для произведений искусства раннего буддизма, где они символизируют мудрость и плодородие. Змеиным царям приписывались также защитные, охранительные функции. Известны изображения Шакьямуни на троне из свёрнутых змеиных колец и под капюшоном змеиного царя Мучалинда, которому в одном из буддийских мифов приписывается заслуга спасения Шакьямуни во время потопа.
Позолоченная скульптура из камня Будда Мучалинда (змеиный).
XII в. Таиланд
Индийская легенда о змее Мучалинде, охранявшем Будду во время его медитации, получила яркое воплощение в скульптурных памятниках Юго-Восточной Азии, что было обусловлено как добуддийскими культами, так и самой природой Камбоджи и Таиланда. К этим памятникам относится знаменитая балюстрада нагов (змеиная) XIII века в Камбодже. Кроме того, изображения змей входили в перила всех мостов надо рвами с водой, поскольку считалось, что змеи как олицетворение воды соединяют небеса и землю. Для изображений Будды Мучалинды в Таиланде важно то, что медитация Шакьямуни под плащом змеиного царя олицетворяет последнее событие, связанное с жизнью исторического Будды. Это его последняя медитация, предшествующая просветлению, которая заканчивается первой проповедью Будды в Оленьем парке в Сарнатхе.
 В качестве речных божеств в раннем искусстве буддизма получили распространение мужские и женские фигуры – якши и якшини, символизирующие плодородие и изобилие. Позднее их изображения появляются на резных оградах ступ. Принадлежащие к древнеиндийской мифологии якши – полубожественные существа, отцом которых, по одной из версий, является Брахма. Как правило, они благожелательны к людям. Их самих часто называют «другие люди» или «чистые люди». Якши изображаются иногда сильными и прекрасными юношами, а иногда – уродливыми карликами. В их функции входит охрана заповедных садов и сокровищ бога богатства Куберы.[208] В ваджраяне женские образы – якшини - имели значение мудрости и изображались в паре с мужским божеством, отождествляемым с действенным активным началом и состраданием. Иногда (чаще в Восточной Азии) женские божества символизируют удачу, счастье, защиту и спасение, восходя к добуддийским культам даосизма и синто.
В качестве речных божеств в раннем искусстве буддизма получили распространение мужские и женские фигуры – якши и якшини, символизирующие плодородие и изобилие. Позднее их изображения появляются на резных оградах ступ. Принадлежащие к древнеиндийской мифологии якши – полубожественные существа, отцом которых, по одной из версий, является Брахма. Как правило, они благожелательны к людям. Их самих часто называют «другие люди» или «чистые люди». Якши изображаются иногда сильными и прекрасными юношами, а иногда – уродливыми карликами. В их функции входит охрана заповедных садов и сокровищ бога богатства Куберы.[208] В ваджраяне женские образы – якшини - имели значение мудрости и изображались в паре с мужским божеством, отождествляемым с действенным активным началом и состраданием. Иногда (чаще в Восточной Азии) женские божества символизируют удачу, счастье, защиту и спасение, восходя к добуддийским культам даосизма и синто.
.
Якшини. Рельеф из красного песчаника.
Фрагмент. 100 г. до н.э. Бхархут. Индия
Священные постройки буддизма всегда повёрнуты фасадом к водоёму. Водная гладь, отражающая небо, является олицетворением души мудреца, глубокой и неизмеримо чуткой, откликающейся на самые незаметные перемены и воздействия. Вода всегда присутствует в китайских парках наряду с беседками - павильонами из камня и дерева, напоминая о связанных с даосизмом культах воды, камня и дерева. Великолепные вышивки из шёлка изображают небеса и роскошные дворцы «чистой земли» Будды Амитабхи как живописные архитектурные композиции посреди бескрайних озёр и рек, где непременно присутствует цветок лотоса, переходящий в лотосовый трон, в то время как его стебель и листья образуют центр мироздания – гору Меру.
На искусство буддизма в целом и особенно на его архитектуру повлияли космологические представления буддистов различных направлений, содержащие в себе много общего.
Космология буддизма. На ранних этапах буддийской истории космологические мотивы находились в центре учения как медитационный опыт Будды и его ближайших учеников, что породило традицию яркого образного представления небесных миров рая и ада. Учёные подчёркивают, что уже в начальный период своего существования буддийская община приняла древнюю индийскую космографию с горой Сумеру (Меру) в центре, что нашло своё отражение в буддийском искусстве и храмовой архитектуре.[209] Буддийская ступа символизировала образ Вселенной и её различные уровни. В каноне тхеравады оформилась концепция пяти (позднее шести) сфер обитания: жители адов; страдающие духи; животные; асуры (полубоги – полудемоны); люди; боги. В первых проповедях Будды было также сформулировано учение о трёх сосудах бытия или трёх мирах. 1-й сосуд (камалока) – чувственный мир желаний; 2-й сосуд (рупалока) – мир форм, содержащий следы материальных качеств; и 3-й сосуд (арупалока) – мир не имеющий форм, не содержащий материальных проявлений. Эти три сосуда содержат в себе 31 уровень, из которых 11 нижних сфер относятся к камалоке: здесь обитают аморальные существа (уровень ада), выше находятся животные, птицы, рыбы, насекомые и т.д. Затем следуют голодные духи, питающиеся страданием; асуры; люди и божества, занимающие 6 последующих уровней бытия. Второй сосуд бытия состоит из 16-ти уровней (с 12 по 27), которые обычно соотносятся со ступенями медитации. Эти сферы рупалоки носят такие названия, как Брахмы – «спутники», Брахмы – «министры», Лучезарный брахма, Брахма с бесконечной аурой, Брахма вознаграждения. Последний, высший уровень сосуда занимают Верховные брахмы. Арупалока состоит из 4-х уровней и символизирует 4 высшие ступени медитации: Бесконечность пространства, Бесконечность сознания, Великая пустота, Неописуемое.
В современной литературе представлены многочисленные прочтения буддийской космологической картины трёх миров. В.И. Корнев предлагает анализ числовой модели буддийской космологии на основе её соотнесения с догматическим толкованием жизни принца Гаутамы и количественным выражением формул его учения.[210] После освобождения Гаутамы от 5 скандх (компоненты профанического «Я») 6 его органов чувств обрели блаженство (5+6 = 11 – чувственный сосуд). В течение 4-х недель он медитировал, осмысливая 4 истины (4´4= 16 – второй сосуд). Когда же Будда постиг сущность третьего сосуда бытия, содержание 4-х истин слилось с его сознанием. По отношению к обычному человеку иерархия уровней космической пирамиды воспринимается прежде всего как иерархия уровней сознания человека, где горизонт его знаний постоянно расширяется, благодаря переходу на более высокий уровень. При этом следует подчеркнуть, что для каждого уровня сознания существует свой космический эквивалент. В ранних буддийских текстах, т. е. в традиции тхеравады, нирвана, как и другие уровни, понималась прежде всего как особое место в космосе.

Барельеф. Бодхисаттва Майтрейя в раю Тушита.
III в. Афганистан. Национальный музей азиатских искусств. Париж.
Космология буддизма определяет и место, где находится ожидающий своего времени Будда Майтрейя. Это 4-й из 6-ти уровней богов в первом сосуде бытия, где располагаются обитатели «неба Тушита». На приведенной репродукции барельефа изображена трапециевидная арка, опирающаяся на колонны с коринфизированными капителями. В ней находится бодхисатва будущего Майтрейя, руки которого сложены в жесте учения. Между колоннами, по сторонам от Майтрейи разместились два буддиста-мирянина, которые внимают ему. На втором ярусе – балконе – стилизованного архитектурного сооружения (райского чертога) стоят женщины с ветками растений в правой руке и шаровидными атрибутами в левой. По сторонам от строения – две крупные фигуры воинов – защитников сторон света (дравапал). Один опирается на копье, другой правой рукой держит палицу, а левой – рукоять меча, висящего на поясе. По мнению ученых, это одно из наиболее ранних изображений Майтрейи в раю Тушита. Представленный барельеф, согласно их предположению, является постаментом под статую Будды.
 Приход Майтрейи, согласно учению буддистов, обусловлен необходимостью возобновления традиции. Будда Гаутама был четвёртым Просветлённым, а до него учение приносили на землю Какусандха (Кракучханда), Конагамана (Канакамуни) и Кассапа (Кашьяпа).
Приход Майтрейи, согласно учению буддистов, обусловлен необходимостью возобновления традиции. Будда Гаутама был четвёртым Просветлённым, а до него учение приносили на землю Какусандха (Кракучханда), Конагамана (Канакамуни) и Кассапа (Кашьяпа).
Вход в храм Чьяёркун. Внутри 30-метровый монумент, изображающий четырёх Будд – Шакьямуни и трёх его предшественников – Какусандху, Конагаману и Кассапу.
Пегу. Мьянма. Современное фото.
Согласно Мифологическому словарю, Кашьяпа (др.-инд. «черепаха») – в ведийской и индуистской традициях божественный риши, участвовавший в творении мира в образе космической черепахи. В эпосе и пуранах Кашьяпа – сын Брахмы. Внук Кашьяпы – Ману – стал прародителем людей. Будучи отцом богов и асур, людей и демонов, змей и птиц, Кашьяпа как бы символизирует изначальное единство, предшествующее дуализму творения. В ряде текстов Кашьяпа идентифицируется с Праджапати или Брахмой.[211]
Буддисты полагают, что даже самой совершенной идеологии со временем свойственно приходить в упадок. Учение нынешнего Будды, рассчитанное на пять тысячелетий, существует немногим более двух с половиной тысяч лет. Оно уже достигло в своём развитии апогея и постепенно теряет значение для людей. Об этом говорит рост аморальных поступков, невежества, безобразия, увеличение отрицательного совокупного «кармического продукта». С приходом Будды Майтрейи начнётся последний период современной кальпы[212], который продлится 80 тысяч лет. Затем вновь начнётся процесс зарождения и созидания. Грядущий Майтрейя будет исполинского роста, другими по своим физическим и интеллектуальным способностям будут люди. Буддисты полагают, что учение должно трансформироваться в зависимости от состояния человечества, изменения его ценностей и способностей.
Многие отечественные и зарубежные учёные отмечают ряд великолепных догадок буддийской космологии о бесконечности и единстве мира, о пульсирующей Вселенной и прямой зависимости человека от состояния космоса. Вобравший в себя ранние индуистские представления буддийский космос подобен огромному живому организму, в котором бушуют страсти, самые низменные и безрассудные деяния соседствуют и борются с возвышенными устремлениями человеческого и даже сверхчеловеческого разума. Всё это находится в постоянном движении, взаимопревращении, а осью круговорота является не столько мифическая гора Меру, сколько сам человек.[213]
В буддийском космосе нет жестких границ между живой и неживой природой, между неразумными и мыслящими существами. Каждая сфера, или уровень знания, содержит в себе потенции более высокой организации. В то же время она может переходить и в более низкие состояния. «Отсюда рождается благоговейный трепет перед всеми проявлениями жизни: ибо порхающая бабочка и тянущий травинку муравей могут являть собой как формы низведённых плохой кармой людей, так и возможность в будущем реинкарнировать до уровня самой высокой разумности – стать бодхисаттвой или даже буддой».[214]
На значение буддийских космологических представлений, соединивших воедино пространство и время и заложивших в основу мироздания элементы (дхармы), которые не являются по своей природе ни материальными, ни идеальными, указывает известный физик-теоретик Ф. Капра. Учёный подчёркивает важность подхода к миру как вечно изменяющемуся, что связано с пониманием элементарных частиц в терминах динамики, энергии, активности, а не статики. Очень важны для современной физики, по мнению Капры, учения древних буддистов о взаимопроникновении пространства и времени на макроскопическом уровне и о том, что все сложные объекты бытия непостоянны. При этом следует подчеркнуть, что понятию объекта (вещи) в оригинальных версиях буддийских памятников на языке пали и санскрите предшествуют такие понятия, как «событие», «явление», «действие», что говорит о динамике и изменении как основе всех процессов, идущих во Вселенной. Пульсирующая модель Вселенной в традиции махаяны и индуизме символически представлена бесконечным танцем, составляющим, как известно, важнейшую часть священных ритуалов в буддийских монастырях. «Все вещи – это совокупность атомов, которые танцуют и своими движениями рождают звуки. Когда изменяется ритм этого танца, произносимые им звуки также становятся другими…Каждый атом постоянно исполняет свою песню, а звук в каждое мгновение рождает разные – и насыщенные, и тончайшие формы» (Из слов тибетского ламы о сути бытия).[215]
 В архитектуре буддийское учение о космосе символически выражено в форме ступы, каждый элемент которой обусловлен религиозным каноном и ритуальным значением. Первоначально, в добуддийский период, ступа представляла собой купольное сооружение для захоронения, восходящее к индуистским погребальным курганам. В буддизме ступа – хранилище священных реликвий, место захоронения мощей особо почитаемых святых. Важнейшие части ступы – анда (тело ступы); хармика (квадратная терраса наверху, окружающая шпиль с зонтиками или дисками); торана (4 пары богато декорированных ворот в окружающей ступу ограде). В трёх частях ступы нашло отражение учение о 3-х сосудах бытия: основание символизирует камалоку (чувственный мир), колоколообразный купол – рупалоку (мир форм), а навершие со шпилем – арупалоку (мир, не имеющий форм). Шпиль ступы – обозначение мирового древа на вершине горы Меру, центра мироздания.
В архитектуре буддийское учение о космосе символически выражено в форме ступы, каждый элемент которой обусловлен религиозным каноном и ритуальным значением. Первоначально, в добуддийский период, ступа представляла собой купольное сооружение для захоронения, восходящее к индуистским погребальным курганам. В буддизме ступа – хранилище священных реликвий, место захоронения мощей особо почитаемых святых. Важнейшие части ступы – анда (тело ступы); хармика (квадратная терраса наверху, окружающая шпиль с зонтиками или дисками); торана (4 пары богато декорированных ворот в окружающей ступу ограде). В трёх частях ступы нашло отражение учение о 3-х сосудах бытия: основание символизирует камалоку (чувственный мир), колоколообразный купол – рупалоку (мир форм), а навершие со шпилем – арупалоку (мир, не имеющий форм). Шпиль ступы – обозначение мирового древа на вершине горы Меру, центра мироздания.
Большая ступа и северные ворота.
III - I в. до н.э. Санчи. Индия.
 Считается, что главный столб ступы с зонтиками являет собой развитие культа колонны царя Ашоки с её значением оси Вселенной или «горы мира», а диски-зонтики – символы небесных сфер. Кроме того, зонтик входит в число важных буддийских символов, обозначающих особое почитание (изображения Будды с зонтиком в пещере Аджанта), а три зонтика рассматриваются как знаки трёх драгоценностей буддизма: Будды, Закона и Сангхи (монашеской общины). Внутренние, скрытые элементы ступы располагались, по словам исследователей, по образу магических геометрических схем (таких, например, как колесо), а затем вместе со священными реликвиями закрывались сверху телом ступы. Обычно ступы окружались четырёхугольным двором и строились на четырех- или восьмиугольном основании. Четверо ворот ориентированы по сторонам света, что также связано с многообразием значений числа 4: четвёртый Будда, четыре благородные истины, четыре встречи и события в жизни Гаутамы. Восточные ворота символизируют рождение Будды, юг – просветление, запад – пропаганду учения, север – нирвану. Полагают, что само число четыре произошло от арийского солнечного знака свастики.
Считается, что главный столб ступы с зонтиками являет собой развитие культа колонны царя Ашоки с её значением оси Вселенной или «горы мира», а диски-зонтики – символы небесных сфер. Кроме того, зонтик входит в число важных буддийских символов, обозначающих особое почитание (изображения Будды с зонтиком в пещере Аджанта), а три зонтика рассматриваются как знаки трёх драгоценностей буддизма: Будды, Закона и Сангхи (монашеской общины). Внутренние, скрытые элементы ступы располагались, по словам исследователей, по образу магических геометрических схем (таких, например, как колесо), а затем вместе со священными реликвиями закрывались сверху телом ступы. Обычно ступы окружались четырёхугольным двором и строились на четырех- или восьмиугольном основании. Четверо ворот ориентированы по сторонам света, что также связано с многообразием значений числа 4: четвёртый Будда, четыре благородные истины, четыре встречи и события в жизни Гаутамы. Восточные ворота символизируют рождение Будды, юг – просветление, запад – пропаганду учения, север – нирвану. Полагают, что само число четыре произошло от арийского солнечного знака свастики.
Восьмиугольная пагода Суле, которой около 2тыс. лет.
Янгон. Мьянма. Современное фото.
В буддизме ритуал поклонения заключается в круговом обходе вокруг ступы по часовой стрелке. Паломники-буддисты три раза обходят ступу вокруг, останавливаясь в четырёх или восьми (с учётом «промежуточных» сторон света) местах, где в маленьких часовенках установлены статуи Будды. Четыре пары ворот с покрытыми великолепной резьбой балками и колоннами представляют каменные страницы учения, завораживая своими многочисленными историями и картинами из жизни Будды и его учеников. Иногда ступы целиком покрыты мраморными плитами с тончайшей резьбой. Часто в композицию включаются отдельно стоящие столбы, близкие известным колоннам царя Ашоки, олицетворяющим незыблемость Закона.
Ступа как основной объект поклонения присутствует в пещерных храмах, таких, как знаменитый комплекс Аджанты, представляющий собой вырубленный в толще огромной скалы комплекс буддийских монастырей (начал создаваться ок. 200 г. до н.э.) Здесь они находятся в пещерах, отведённых для молений, и представляют собой монолитные формы без рельефных изображений. Именно в образах пещерных ступ происходит соединение идеи ступы как воплощения сосудов бытия и идеи Вселенной как тела Будды. Считается, что во всей Индии не найти более детально и красочно представленной истории жизни Будды, чем в пещерных храмах Аджанты, которые были действующими на протяжении восьми с лишним веков, прежде чем их поглотили джунгли.[216] Ступа такжесимволизирует победу Будды над иллюзией, сансарой как материальным миром чувств и поэтому может прочитываться как символ нирваны. В культуре Восточной Азии (Китай, Япония) она трансформируется в пагоду.
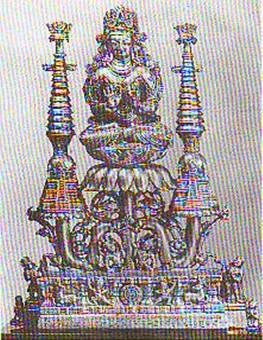
Серебряная скульптура Будда Вайрочана или
Коронованный Будда. IX в. Кашмир. Индия
В позднейшем буддизме ваджраяны существует изображение Будды Вайрочаны, объединяющее все важнейшие символы буддизма, связанные между собой и перетекающие друг в друга, что позволяет представить себе разветвлённость и глубину буддийского богословия и философии. Это небольшое серебряное (с инкрустацией из меди) изваяние Будды Вайрочаны из Кашмира, относящееся в IX веку. В центре композиции между двумя ступами, завершающимися «колоннами Ашоки», находится Будда, поза и расположение рук которого символизирует передачу учения, или проповедь. На его голове зубчатая корона, украшенная кистями и драгоценностями. Вселенская роль Будды подчёркивается изображённым на каждой ступе «всевидящим оком» и гигантским стеблем лотоса, поднимающегося из великого океана между двух царей нагов. Нижняя часть композиции изображает земную сферу в виде стилизованных скал с фигурами богов – хранителей, а также колесо Закона и двух газелей (символ первой проповеди в Сарнатхе). Насыщенность этой обобщающей космологической картины богословской мыслью проступает в многообразных искусно исполненных деталях и соединении подтекстов. Это пять углов короны Будды, символизирующие пять лепестков-уровней знания; три уровня бытия, отображённые в делении скульптуры; объединение всей композиции изящными завитками и стеблем большого лотоса.
Как пример движения к трансцендентному восприятию личности Будды можно рассматривать появление его гигантских изображений. Прежде реальная фигура исторического Будды в космологическом контексте понимается как проявление космического Будды Вселенной. Учение Махаяны требовало образов, не ограниченных человеческими измерениями, образов, связанных с небесами и горой Меру. Поэтому в образной системе северного буддизма подчёркивается центральное значение небесных будд и особенно Будды Вайрочаны, воплощающего вселенский абсолют. Именно этими представлениями вызвано появление колоссальных статуй Будды в Индии (в Канхери) и других северных буддийских странах - от Афганистана до Японии. Высота позолоченной статуи вселенского Будды в Афганистане превышала 53 метра (в 2001 году гигантская скульптура была взорвана талибами).
Космологические представления эзотерических направлений буддизма наиболее полно отражают мандалы - космические диаграммы необыкновенной сложности. Также как и другие виды буддийского искусства, мандалы передают религиозные идеи и смыслы в великолепной эстетической форме. Специалисты истолковывают форму мандалы, обычно представляющую собой круг или сферу, как алтарь, символическое место, окружающее Будду, подобно диску луны или солнца. Тот же смысл имеют диски-нимбы, окружающие головы высших божеств. Считают, что эзотерическое искусство буддизма из-за большого количества и разнообразия символов и образов полагается на геометрический порядок. Буддийский пантеон выстраивается по типу геометрической сетчатой структуры мандалы или её скульптурной аналогии, выражающей чёткую упорядоченность. В одной мандале, передающей устройство Вселенной, может быть заключено до тысячи образов, которые располагаются в соответствии с правилами универсальной гармонии, соответствующими учению того или иного направления. В соответствии с учением ваджраяны были построены пять городов при манчжурской династии Ляо (936 – 1125) в Китае. В Японии космические диаграммы распространились лишь с IX века вместе с эзотерической практикой школы Сингон.

Создание мандалы из цветного
песка или порошка – один из буддийских ритуалов, сопровождающийся молитвами. Современное фото.
Мандалы стали одним из главных символов тибетского буддизма. Эти сложные сакральные схемы мира, имеющие прежде всего богослужебное, медитативное значение, привлекают современных психологов. Ученые видят в диаграммах универсальные образы, отражающие уровни человеческого подсознания. Мандалы вызывают особый интерес своей гармонической упорядоченностью, выражающей многообразные мистические значения, интеллектуальные и глубоко эмоциональные смыслы космического устройства, которые раскрывают главную идею буддийского учения – идею единства человека, уровней его сознания и интеллекта со всеми сферами бытия. Религиозная функция мандалы – помощь в медитации. Диаграммы Вселенной играют особую роль в ритуале, в молитвах о благоденствии других людей. Модель космоса включает как необходимую составляющую «гору мира», где осуществляется воссоединение человека с многочисленными силами природы и богами. Мандала раскрывает космические способности человеческой мысли, показывает роль разума человека в преобразовании Вселенной, что через многие века станет основой учения В.И. Вернадского о ноосфере.
Изменениезначений буддийских символов в зависимости от направления истраны. Уже отмечалось, что в своём распространении идеи и образы буддизма адаптировались к уже сложившимся в данном регионе историческим и культурным условиям. Так, буддизм Шри-Ланки, существующий уже более двух тысячелетий, лучше понимается через живые связи и ассоциации с историческим Буддой. Поэтому здесь распространено почитание реликвий, иногда конкретных предметов, которые со временем приобрели особый нравственный и философский (если не сказать мистический) смысл. К таким реликвиям относится зуб Будды, хранящийся в святилище в Канди. Отвергающий абстракции, принятые в других формах буддийского искусства, буддизм Шри-Ланки почитает священное дерево Бодхи и окружает благоговением «потомков» этого символа просветления. В честь дерева Бодхи построено специальное открытое небу святилище, называемое бодхи-гхара. Оно воздвигнуто вокруг священного дерева и окружено четырьмя фигурами сидящего Будды, изображенного в состоянии медитации (обе руки покоятся на коленях). В соответствии с учением тхеравады, образы спокойного, обращённого внутрь себя Будды подчёркивают важность собственных усилий на пути к просветлению.

Традиционная ступа в Анурадхапуре. Шри-Ланка. В ступе соединены два символа – столп мира и вершина горы Меру[217]
Особым характером отличаются ступы Шри-Ланки, на которых отсутствует богатство рельефа индийских ступ. Здесь нет ни украшенных торан, ни резных оград. Гладкое полусферическое тело ступы как бы висит над землёй, символизируя «промежуточное» состояние человека: приземистая форма ступы «прижимает» её к земле, в то время как шпиль задаёт ступе движение ввысь своим энергичным вертикальным устремлением. В отличие от богато декорированных ступ махаяны, композиция ступы тхеравады оставляет впечатление ясности, простоты и силы. «Буддизму тхеравады с его малочисленным пантеоном и акцентом на прямом действии, в отличие от махаянистской веры в спасение и великолепные небеса, как нельзя более подходят чистые, неусложнённые формы и геометрическая гармония ступ Шри-Ланки».[218]
 В Непале, где тесно соседствовали буддизм и индуизм, получил распространение эзотерический буддизм. Это привело к широкому развитию милостивых и разгневанных ипостасей одного и того же божества, изображаемого с многочисленными головами, руками и огромным количеством атрибутов, среди которых наиболее часто встречаются лотос и разные виды оружия.
В Непале, где тесно соседствовали буддизм и индуизм, получил распространение эзотерический буддизм. Это привело к широкому развитию милостивых и разгневанных ипостасей одного и того же божества, изображаемого с многочисленными головами, руками и огромным количеством атрибутов, среди которых наиболее часто встречаются лотос и разные виды оружия.
Ступа в Сваямбунатх. V в., несколько раз перестраивалась. Катманду. Непал.
Главная отличительная особенность непальских ступ – лица, вырезанные на каждой из четырёх сторон хармики. Глаза обычно изображаются слегка прикрытыми, благодаря чему взгляд как будто следит за ритуальным обходом ступы паломниками. Согласно другой интерпретации, эти лица представляют четырёх защитников сторон света – локапал, находящихся внутри ступы, или всевидящее око самого космического Будды. В целом непальская архитектура отличается богатым орнаментальным декором в обработке стены, деревянных дверей и оконных проёмов. Разнообразие и тонкость отделки во многом достигается сложным и в то же время гармоничным сочетанием резьбы по дереву и орнамента из обожженного кирпича.
 Кроме того, в Непале получила развитие такая уникальная форма буддийского искусства, как иллюминированные манускрипты.
Кроме того, в Непале получила развитие такая уникальная форма буддийского искусства, как иллюминированные манускрипты.
Фрагмент Иллюминированной рукописи
(текст Гандхавиуха). XII в. Непал. Тушь, цветные краски, пальмовый лист
Непальские рукописи создавались из прессованных пальмовых листьев, нарезанных на узкие полоски (обычно 5 см в высоту и 35 см в длину). Текст писали с обеих сторон, затем украшали живописными миниатюрами и связывали листья шнурком. Эти манускрипты содержат образцы великолепной живописи, которой покрывались не только страницы «книг», но и их деревянные переплёты. Разнообразные по типу иллюстрации (динамичный, эмоциональный рисунок или монументальное, напоминающее настенные росписи, изображение) обычно были посвящены сценам из жизни Будды. Лаконичные живописные миниатюры включают такие символы, как трон, деревья, скалы и животные. Главный сюжет окружали декоративные бордюры и растения, в изображении которых проявлялась фольклорная традиция и фантазия автора. Этот уникальный вид живописи связан с искусством книги, получившим распространение во всей буддийской Азии.
Тибетский буддизм, или ламаизм, получивший своё название по тибетскому имени монахов, появился не ранее VII века. Его отличает самый сложный в буддийском мире пантеон, на формирование которого оказали влияние и геополитические условия, и ранние культы шаманизма. Исследователи видят квинтэссенцию тибетского буддизма в ритуальных предметах, в которые входят сложно декорированные магические кинжалы и драгоценная алтарная утварь, отличающаяся особой роскошью (отлитые из меди и позолоченные фигуры бодхисаттв или выполненное из серебра Колесо Закона).

Пурбху (магический кинжал).
XVI-XVII вв. Тибет
Влияние шаманских практик сказалось в сочетании первобытной дикости и технически совершенной отделки предметов ритуала, к которым относятся причудливо орнаментированные тарелочки из человеческой кости, связанные в форме фартука ламы, или ритуальные барабаны из человеческих черепов. Наиболее известные формы тибетского искусства – цветные фрески, настенные вертикальные свитки, достигающие 20 метров в высоту, и миниатюрные манускрипты. Особый характер тибетских росписей, сакральных предметов и скульптурных изображений, сохраняющийся в произведениях XVIII и XIX веков, позволяет говорить об их колоссальном ритуальном и психологическом воздействии. К таким «ужасающим» предметам относится, например, «седельный» коврик, на котором ездит богиня-охранительница Лхамо.
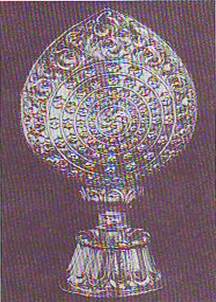
Колесо Закона. XVIIIв.
Тибет. Алтарный предмет,
выполненный из серебра[219]
 Особое место в ламаизме занимает культ бодхисаттвы Авалокитешвары, который считается покровителем Тибета. Каждый в цепочке 14-ти Далай-лам (начиная с XV века) рассматривается в качестве очередного человеческого воплощения Авалокитешвары.[220] Существует изображение одиннадцатиликого и шестирукого Авалокитешвары (XI в.), в котором сложным и изысканным языком выражены главные буддийские темы. Фигура бодхисаттвы дана в позе йога, погружённого в медитацию, на сиденье из лотоса, которое находится на троне, поддерживаемом львами. Величие и многочисленные функции Авалокитешвары выражены искусно исполненными атрибутами, находящимися в его руках, а также пламенеющим ореолом, переходящим в изображение высокой ступы, в основание которой помещены головы с повёрнутыми в разные стороны ликами.
Особое место в ламаизме занимает культ бодхисаттвы Авалокитешвары, который считается покровителем Тибета. Каждый в цепочке 14-ти Далай-лам (начиная с XV века) рассматривается в качестве очередного человеческого воплощения Авалокитешвары.[220] Существует изображение одиннадцатиликого и шестирукого Авалокитешвары (XI в.), в котором сложным и изысканным языком выражены главные буддийские темы. Фигура бодхисаттвы дана в позе йога, погружённого в медитацию, на сиденье из лотоса, которое находится на троне, поддерживаемом львами. Величие и многочисленные функции Авалокитешвары выражены искусно исполненными атрибутами, находящимися в его руках, а также пламенеющим ореолом, переходящим в изображение высокой ступы, в основание которой помещены головы с повёрнутыми в разные стороны ликами.
Одиннадцатиликий Авалокитешвара.
XI в. Тибет.
Тибетские ступы (чортен) отличаются разнообразием: они могут быть небольшими хранилищами реликвий и в то же время представлять собой традиционно величественные архитектурные сооружения, предназначенные для обхода верующими. В некоторых случаях ступы включают в своё внутреннее пространство молельни и настенные росписи, а во внешнее оформление – лики со всевидящими глазами, как в непальских ступах.
 На буддийскую скульптуру и архитектуру Китая повлияло учение о «западном рае» Будды Амитабхи. В распространении этого учения важную роль сыграли представления даосов об особом значении западной части света (легенда о Лао-цзы, покинувшем Поднебесную через западные ворота). Бесчисленные варианты представлений о «чистой земле» были воплощены в живописи, поэзии, вырезаны на стенах храмов и пещерных святилищ эпохи Тан. При этом как важную отличительную особенность буддийского искусства Китая в целом следует подчеркнуть тяготение всех его форм и образов к так называемой линейной структуре, канонически заданной гексаграммами И-цзин, лежащими в основе древнекитайской письменности, а впоследствии искусства каллиграфии и живописи. Этим объясняется стремление к акцентированию горизонтальной линии в скульптурных изображениях Будды, когда вместо традиционного расположения рук на коленях для обозначения медитативного созерцания ладони Будды располагаются у пояса прямо горизонтально.
На буддийскую скульптуру и архитектуру Китая повлияло учение о «западном рае» Будды Амитабхи. В распространении этого учения важную роль сыграли представления даосов об особом значении западной части света (легенда о Лао-цзы, покинувшем Поднебесную через западные ворота). Бесчисленные варианты представлений о «чистой земле» были воплощены в живописи, поэзии, вырезаны на стенах храмов и пещерных святилищ эпохи Тан. При этом как важную отличительную особенность буддийского искусства Китая в целом следует подчеркнуть тяготение всех его форм и образов к так называемой линейной структуре, канонически заданной гексаграммами И-цзин, лежащими в основе древнекитайской письменности, а впоследствии искусства каллиграфии и живописи. Этим объясняется стремление к акцентированию горизонтальной линии в скульптурных изображениях Будды, когда вместо традиционного расположения рук на коленях для обозначения медитативного созерцания ладони Будды располагаются у пояса прямо горизонтально.
Пагода Даяньта (Большая пагода диких гусей)
в Сиане. Китай. 652 г. Несколько раз перестраивалась
Влияние обобщенных линий китайского пейзажа, отражающих фундаментальные представления о бинарности мира, сказывается также в плоскостном решении скульптуры и даже в формах китайских пагод, очевидно тяготеющих к традиционной линейности. Поэтому хотя китайская пагода и происходит от индийской ступы, её форма имеет мало общего со всеми известными в Южной Азии видами ступ. Вертикальная, прямолинейная форма и нависающие черепичные («крылатые») карнизы непосредственно восходят к ранней деревянной архитектуре Китая. Излюбленный тип пагоды – многоярусные, квадратные в плане. Именно к таким формам относится знаменитая «Большая пагода диких гусей», на многочисленные ярусы которой можно подняться по внутренним лестницам. Строгая, почти лишенная украшений 64-метровая пагода, выстроенная в VII веке в центре танской столицы Чанъань (современный Сиань), стала главным монументом города. Название пагоды связано с легендой о знаменитом танском паломнике Сюаньузане, которому в тяжких странствиях из Индии в Китай помогали найти путь дикие гуси, указавшие и место возведения священной пагоды.
В эпоху Вэй (IV – VI вв.) в Китае появились необходимые для отправления буддийского культа многочисленные бронзовые изваяния, в которых соединились декоративная каллиграфичность со скульптурной формой, что достигалось искусной проработкой драпировок и окружающих фигуры пламенеющих нимбов.[221]
.

Статуэтка. Два Будды на троне. Бронза,
литье, золочение. Дин. Северная Вэй (386-534).
Национальный музей азиатских искусств. Париж
Сюжет этого характерного для раннего этапа распространения буддизма в Китае произведения (изящество отделки, каноничность и детализация формы) восходит к Лотосовой Сутре (гл. 11). Согласно Сутре, два Будды – Шакьямуни (Будда настоящего) и Прабхутаратна (Будда прошлого) – встречались и вели беседу. Будды восседают на широком троне в царской позе, за их спинами – ростовые нимбы (мандорлы), окруженные огненным ореолом. Кисть правой руки обоих Будд запечатлена в жесте дарения и щедрости (варада-мудра), а кисть левой – в жесте защиты (абхайя-мудра). В центре основания трона помещена курильница, которую поддерживает земное божество (атлант). По сторонам от неё – два монаха в позе поклонения. На двух передних ножках трона – сидящие львы.
Самая распространённая в Китае буддийская школа Чань, делающая в своём учении акцент на интуитивном понимании истины и озарении, вызвала к жизни изображения предметов, стимулирующих проявление индивидуальных усилий для пробуждения нового сознания.
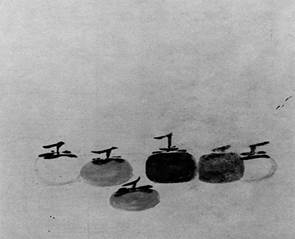
Му Ци, монах школы Чань. XIII в. Шесть плодов хурмы.
Китай.
Один из примеров такого рода в живописи – свиток с шестью плодами хурмы, который предоставляет возможность свободно интерпретировать и анализировать рисунок. Лаконичные и экспрессивные каллиграфические и живописные работы буддийских мастеров при медитативном общении с ними должны были вызывать вспышку истинного знания или озарения. Вместе с тем школа Чань создавала портретные галереи учителей, чтобы подчеркнуть (в духе конфуцианства) преемственность традиции, сохранению которой придавалось первостепенное значение.
Начавшийся с XIII века упадок буддизма в Китае (за исключением тибетского ламаизма и школы «чистой земли») сказался в изменении образов искусства этого периода. В целом в изображениях позднего периода становится преобладающим эстетическое начало, изящество форм, мягкость моделировки, утончённость. Изменения коснулись прежде всего образов бодхисаттвы Авалокитешвары: если ранее он выполнял функции проводника душ умерших, то теперь он выступает как спаситель пострадавших от самых разных несчастий – от огня и грабежа, от кораблекрушения и даже как помощник в поиске пропавших детей, особенно мальчиков. Трактовка образов бодхисаттв этого периода акцентирует их женскую милосердную ипостась, движется сторону их феминизации (Авалокитешвару заменяют изображения богини милосердия Гуаньинь). Вместе с этим к традиционной позе стоящего бодхисаттвы прибавляется изображение сидящего, томно положившего руку на приподнятое колено. Эта поза, впоследствии известная как лалитасана, или поза царского отдохновения, станет весьма популярной в буддийской скульптуре.

Скульптура из дерева Бодхисаттва
милосердия Гуань Инь (Авалокитешвара).
XII-XIII вв. Китай
Широкое распространение получит также встречающаяся уже в Индии поза размышления, характерная для изображений бодхисаттвы Майтрейи. (Бодхисаттва сидит, опустив левую ногу и прикасаясь к щеке пальцами правой руки, которой он опирается на согнутое колено).
Буддологов удивляет поразительная эволюция образа Майтрейи в китайском искусстве: из прекрасного бодхисаттвы он превратился в смеющегося пузатого Будая (аналог японского Хотэя, одаривающего подарками детей и исполняющего желания). Этот любимый в Китае персонаж, происходящий от легендарного монаха по имени Будай, щедрость и добродушие которого символизирует мешок за спиной и смеющееся лицо, и стал Буддой грядущего времени. Вклад китайцев в буддийское изобразительное искусство представляют скульптуры лоханей, или архатов. Это философы-буддисты, изображаемые в виде сильных, иногда несколько экстравагантных личностей с выразительным пристальным взглядом, олицетворяющим, согласно тхераваде, необходимость личного усилия, самоконтроля и обучения для каждого вставшего на Путь. В распространении культа лоханей в Китае, несомненно, сыграла роль традиция почитания даосских отшельников и святых, чьи качества – просветлённая мудрость, любовь и сострадание ко всему живому – совпадали с идеалами буддизма.
Изобразительное искусство и архитектура Кореи, где буддизм появился в IV веке, отличается более абстрактным и отвлечённым характером, тягой к воплощению надмирного духовного начала. Передача духовности в скульптурах Будд и Бодхисаттв была, несомненно, для корейских художников более важной задачей, чем выражение физического совершенства. Поэтому для ранних изображений характерны непропорционально большие ладони и голова Будды, неглубокая резьба и простота форм. Здесь полностью отсутствует линейный ритмический китайский стиль. Распространение получило изображение Бодхисаттвы Майтрейи (Мирыл-босал) в позе размышления. Отличительной особенностью корейских ступ является открытый центр с одиноко сидящим львом и резьба по камню, имитирующая бамбук и лепестки лотоса.
Шедевром мирового значения является статуя Будды Шакьямуни, изваянная из гранита в 751 г. в Соккураме, в которой проступает доминирующая в Корее тяга к абстрактному и абсолютному началу. Будда из Соккурама, по мнению специалистов, остаётся одним из самых выразительных воплощений в искусстве буддийского идеала. «Немногие образы в азиатском искусстве так полно передают одухотворённость и трансцендентную природу божественного внутри тела тленного, которые превосходят пределы сил смертных.»[222]

Будда Шакьямуни. 751 г. Соккурам. Корея.
Гранит. Высота 3,5 м.
Последующие политические и религиозные коллизии в Корее ослабили позиции буддизма. В искусстве юношески мягкие лица уступили место печальным, место эпической монументальности заняли устрашающие и экспрессивные образы. Тайные мистические практики эзотерических буддийских школ вызвали к жизни появление сдержанных и даже холодных и отстранённых мистических фигур, окружённых огромным количеством символов и персонажей, имеющих значения для эзотерических практик. Большое влияние на развитие искусства оказала в XIII-XIV вв. корейская буддийская школа Сон (Чогу-дзон), основанная Чинтулом (1158-1210). Это направление включало в себя многие аспекты традиционного учения, а также идею перерождения в «западном рае», изучение сутр, медитацию, что в результате дало уникальную корейскую систему буддизма, существующую до сих пор. Покровительство правящей династии привело к формированию элегантного рафинированного стиля, ярко проявившегося в живописи на шёлке и книжных миниатюрах. Для этого стиля характерно использование золота, орнаментальные покрытия одеяний, тонкость и изящество линий – всё, что обычно характеризует придворный вкус. Вместе с тем корейская скульптура позднего периода (кон.XIV – нач. XX вв.) сохраняет свою первозданную мощь, благодаря колоссальным размерам изваяний, увеличенным пропорциям головы, абстрактной, неглубокой резьбе, особенно при проработке лица. Учёные подчёркивают, что в настоящее время искусство Кореи разрабатывает буддийские образы в контексте народной художественной традиции.
Буддийское искусство Японии, появившись VI веке, за время своего существования (до XVI века) прошло, как и в других азиатских регионах, несколько этапов. Вехами его развития можно считать следующие: 1 - наряду с ассимиляцией корейского влияния создание (благодаря слиянию с синтоизмом) собственного стиля (около IX в.), для которого характерно отражение ценностей буддизма как государственной религии; 2- расцвет эзотерических школ и культа Будды Амиды (Амитабхи), что выразилось в искусстве как отражение рафинированных вкусов дома Фудзивара (XI и XII вв.); 3- буддизм эпохи Камакура (с конца XII в.) – Муромати (XVI век), который характеризуется воссозданием памятников, уничтоженных в гражданских войнах и последующим расцветом медитативных школ дзен-буддизма.
Исследователи называют собственно японский стиль в буддийском искусстве «экспрессивным натурализмом» или «магическим реализмом», поскольку стремление к предельной реалистичности изображения, свойственное национальной эстетике, допускало такие техники, как создание скульптуры из глины, смешанной с пеплом портретируемого.[223] Японским художникам, стремящимся к психологической достоверности, как никому, свойственно подчёркивать человеческие качества легендарных буддийских святых.
Большое влияние на развитие искусства Японии оказала школа Сингон, основанная Кобо Дайси (774-835). Это направление, включившее в свой пантеон многочисленных синтоистских божеств, рассматривало все чувствующие существа как эманацию космического Будды Вайрочаны. Согласно Сингон, достичь спасения можно в этом существовании, поэтому феноменальный мир наделялся религиозным смыслом. Культ космического Будды породил широкое использование сложных графических символов – диаграмм Вселенной для постоянных упражнений в медитации, благодаря которым раскрывается истинный, скрытый смысл окружающих повседневных предметов. Искусство Сингон отличалось чрезвычайной сложностью и исключительной силой, которую редко кому удавалось превзойти в буддийском мире. Фигуры буддийских божеств, данные в состоянии медитативного транса, соединяют в себе яркую чувственность с отрешённостью и даже холодностью, что рождает ощущение небывалой трансцендентной силы.

Дзётё. Будда Амида. 1053 г. Около Киото.
Памятник придворного искусства эпохи Хэйан.
Листовое золото и лакированное дерево.
Искусство эпохи Хэйан (IX – XII вв.) сконцентрировано на изображениях Амиды, его рая и милосердных бодхисаттв. Произведения этого времени пронизаны чувством скоротечности жизни, преходящего характера бытия, что порождало обострённое восприятие красоты во всём, что принадлежит мимолётному миру. Это концепция моно-но-аварэ («очарование вещей»), характерная особенно для эпохи позднего Хэйан. Буддологи отмечают, что эстетика моно-но-аварэ (независимо от утратившего своё влияние буддизма) сохраняет своё значение в японской культуре по сей день. Уникальный памятник придворного искусства периода позднего Хэйан - созданный мастером Дзётё Сидящий Амида (1053 г.), окружённый ослепительным сиянием и излучающий в то же время большое сострадание. Этот шедевр характеризует гармоничное равновесие силы и изысканности, формы и декоративности, а также тонкое чувство цвета – качества, отличающие лучшие образцы японского искусства. Самыми знаменитыми скульпторами XIII века были Ункэй, создавший целый поток блестящих произведений, и его последователь Танкэй, творения которого отличались потрясающей психологической глубиной.
Во время укрепления дзен-буддизма место изображений Будды Амиды и его рая или многоруких божеств эзотерических школ в искусстве заняли портреты[224], монохромная живопись, каллиграфия и специально предназначенные для медитации объекты. К таким объектам относятся получившие мировую известность дзенские сады из песка и камня. В отличие от других направлений, где живопись и скульптура наделялись магическими свойствами или воплощали принципы учения, искусство дзен предназначалось, также как и родственное ему искусство чань, для пробуждения и озарения сознания. Дзенские произведения во всех видах искусства опирались на указание и намёк, требуя приложить собственные усилия для достижения просветления - сатори. Под влиянием дзен-буддизма возникает совершенно особое искусство храмовых сухих пейзажей или каменных садов, главная идея которых заключалась в том, чтобы «передать через композицию сада-микрокосмоса ощущение беспредельного мира» и создать «обстановку для самоуглубления, быть своего рода камертоном для внутреннего настроя человека».[225]
 «Каждый сад всегда имел два основных компонента…: это Инь – Ян сада, его отрицательное и положительное начало, его «кровь» и его «скелет» - вода и камни. Вода могла быть натуральной или символизированной песком, галькой. Камни же, за редким исключением (в специальных песчаных садах), присутствовали всегда. Искусство расстановки камней - сутэиси считалось главным в работе художника сада. Камни подбирали по форме, цвету, фактуре /…/чтобы почувствовать пластические возможности каждого камня и сгруппировать их наиболее выразительно».[226]
«Каждый сад всегда имел два основных компонента…: это Инь – Ян сада, его отрицательное и положительное начало, его «кровь» и его «скелет» - вода и камни. Вода могла быть натуральной или символизированной песком, галькой. Камни же, за редким исключением (в специальных песчаных садах), присутствовали всегда. Искусство расстановки камней - сутэиси считалось главным в работе художника сада. Камни подбирали по форме, цвету, фактуре /…/чтобы почувствовать пластические возможности каждого камня и сгруппировать их наиболее выразительно».[226]
Дзэнский сад из камней и песка. Разбит в 1480 г. Монастырь Рёандзи. Киото.
Сады «песок – вода» символизировали «чистую землю» Будды Амиды. В дзенских храмах часто отдавали предпочтение небольшим абстрактным садам с песком, выровненным граблями, и несколькими разбросанными камнями для медитации. Эти композиции были предназначены не для прохода, а лишь для обозрения с определённых точек зрения. Самый знаменитый из всех садов камней (разбит в 1480 г.) находится в монастыре Рёандзи, в Киото. Он представляет собой всего 15 искусно размещённых камней на волнисто выровненном песке. Обозрение сада возможно лишь с двух продольных сторон занимаемого им прямоугольника. Буддисты и обычные посетители заняты поисками его смыслов. Одна из его интерпретаций, предложенная последователем учения дзен, состоит в том, что в один момент времени мы видим самих себя так же, как эти 15 камней – больших и значительных, готовых куда-то отправиться; эта иллюзия создаётся за счёт неровных волн песка. Однако в другое время мы будем не больше и не важнее, чем бесчисленные песчинки (каждая из которых когда-то была крупным весомым камнем), которые составляют песок, окружающий 15 камней, - значительность длится только миг. Круг повторяется бесконечно, и в этом состоит урок о мимолётности вещей.[227] Это повествование не даёт ответа на вопрос о количестве камней, о месте их нахождения. Каждому предоставляется возможность создать свою интерпретацию этих абстрактных и в то же время живых и конкретных символов, найти гармонию противоположностей.
Глава 3. Буддийские мотивы в поэзии Средневековой Японии
О реке говорил Се Тяо:
«Прозрачней белого шелка», -
И этой строки довольно,
Чтоб запомнить его навек.
Ли Бо (пер. А. Ахматовой)
 Вытесненный из Индии реформированным брахманизмом, буддизм, как известно, получает широкое распространение в Китае, где почва для него была во многом подготовлена учением даосов. Мы знаем об основах даосско-буддийского канона в живописи и поэзии Старого Китая, создавшего уникальный характер этих видов искусства. В Японию пришли из Китая не только буддийская религия, повлиявшая на философскую и религиозную мысль страны, её искусство, нравы и обычаи, но и уже сложившиеся темы, образы, жанры и приёмы китайской живописи и поэзии. Вместе с тем нельзя считать, что поэзия Японии представляет собой всего лишь ответвление искусства поэзии Поднебесной. Классическая японская поэзия совершенствует форму пятистиший (танка) и создаёт ставшие не менее знаменитыми трёх – стишия – хойку (хокку), расширяет образный строй, вносит свои темы и приёмы, отразившие особенности национальной религии синто («путь богов»), природы Японии, её древних традиций. Буддизм с его культом природы, простирающимся от «живых камней» до образов животных-бодхисаттв, оказался близок синтоизму, как в своё время - даосизму в Китае. Страстная любовь японских поэтов к природе соединялась с глубочайшим стремлением к созерцательному покою, даруемому красотой пейзажей, наблюдением за сменой времён года, жизнью цветов, деревьев, животных и птиц.
Вытесненный из Индии реформированным брахманизмом, буддизм, как известно, получает широкое распространение в Китае, где почва для него была во многом подготовлена учением даосов. Мы знаем об основах даосско-буддийского канона в живописи и поэзии Старого Китая, создавшего уникальный характер этих видов искусства. В Японию пришли из Китая не только буддийская религия, повлиявшая на философскую и религиозную мысль страны, её искусство, нравы и обычаи, но и уже сложившиеся темы, образы, жанры и приёмы китайской живописи и поэзии. Вместе с тем нельзя считать, что поэзия Японии представляет собой всего лишь ответвление искусства поэзии Поднебесной. Классическая японская поэзия совершенствует форму пятистиший (танка) и создаёт ставшие не менее знаменитыми трёх – стишия – хойку (хокку), расширяет образный строй, вносит свои темы и приёмы, отразившие особенности национальной религии синто («путь богов»), природы Японии, её древних традиций. Буддизм с его культом природы, простирающимся от «живых камней» до образов животных-бодхисаттв, оказался близок синтоизму, как в своё время - даосизму в Китае. Страстная любовь японских поэтов к природе соединялась с глубочайшим стремлением к созерцательному покою, даруемому красотой пейзажей, наблюдением за сменой времён года, жизнью цветов, деревьев, животных и птиц.
Медитирующий китайский монах Гандзин, основавший
в Японии в VIII в. монастырь Тодайдзи, запечатлевший
стиль Тан в Японии. Конец VIII в. Храм Тосёдайдзи,
Традиция Чань, попав в Японию, стала называться Дзэн, достигнув своего расцвета в XII-XIII веках. Эта форма буддизма, отличающаяся созерцательным характером, приобрела также ярко выраженные национальные черты, присущие японской культуре. Исследователи отмечают, что в дзэн-буддизме присутствуют определённые влияния воинской традиции Японии, которой присуща суровая дисциплина: верующий должен сидеть в безупречной позе, при нарушении которой его бьют палкой.[228]
Благодаря влиянию синто, уделяющей особое внимание утончённому восприятию красоты, в дзэн-буддизме развились традиции аранжировки цветов, чайной церемонии и других полностью японских по своему характеру культурных явлений. По утверждению специалистов, икэбана ведет своё происхождение от обряда подношения цветов Будде. В связи с этим первая школы икэбаны – Икэнобо - носит имя своего создателя монаха из Киото Икэнобо Сенкея, жившего в XV веке. Главный стиль школы Икэнобо – рикка, -использующий сосну и бамбук, был посвящен прославлению Будды.

Икэбана школы Икэнобо.
Стиль рикка.
Танка - букв. «короткая песня», основная форма японской поэзии раннего Средневековья. Представляет собой пятистишие лирического содержания, в котором ритм строится на чередовании пяти – и семи – сложных стихов по схеме 5 – 7 – 5 - 7 – 7. В целом насчитывается 31 слог. Исследователи подчёркивают, что время зарождения танка точно не известно. Иногда называют рубеж III - IV веков. Создание перовой песни в ставшей канонической форме танка мифология приписывает богу стихий и равнины морей Сусаноо, младшему брату богини солнца Аматэрасу. Первые записи танка датируются VII веком. На это указывает «Сборник классических японских танка», составленный в 1235 году Фудзивара-но Тэйка,[229] содержащий сто стихотворений ста поэтов. Первые пятистишия принадлежат императорам и принцам, советникам и придворным дамам, священнослужителям и монахам.
Под циновками
Прячутся крестьяне от
Осенних дождей.
Вот и мои рукава
От росы промокают. (Император Тэндзи, 627-671 гг.)
В VII веке появляется знаменитая антология «Манъёсю» («Собрание мириад листьев»), где собраны не только танка, но и «длинные песни», не ограниченные размером. Форма танка, состоящая из пяти стихов имеет своей основой представление о гармонии как подвижном равновесии. Как и в китайской поэзии, здесь используются «дары древности» – множество постоянных эпитетов и устойчивых метафор, составляющих язык символов, призванный озвучить мир человеческих чувств, различных и неповторимых, но в то же время вечных в своей узнаваемости и близости каждому человеку. Унаследовав богатства народного творчества, танка пришли в профессиональную лирику. На основе изучения китайской классической поэзии мастера Японии совершенствовали и шлифовали их форму. Творчество китайских поэтов эпохи Тан – Бо Цзюйи, Ли Бо, Ду Фу – получило развитие и претворение в японской лирике.
Уже в IX веке были созданы каноны, позволившие создать поэтическую антологию «Кокинсю» («Собрание старых и новых песен», 905 г.), ставшую учебником для молодых поэтов многих поколений. В этом собрании были установлены и закреплены темы поэтического творчества, в которых главное место занимала пейзажная и любовная лирика. Влияние буддизма проявилось в канонизации темы природных ритмов, проявляющихся в смене времён года, чередовании дня и ночи (разделы «Весна», «Лето», «Осень», «Зима»). В буддийской школе «чистой земли» западный рай Амиды представляли как четыре времени года. Поэтому тема смены времён года была ведущей не только в поэзии, но и в изобразительном искусстве, о чём свидетельствуют росписи на дверях и стенах храмов периода Хэйан. Поскольку человек неотделим от природы, то язык природных символов может рассказать о состояниях души – тоске, переживании разлуки, надеждах, одиночестве, ожидании. Обращает на себя внимание то, что буддийскими мотивами наполнены сочинения не только поэтов-отшельников, но и светская лирика. Хижина в лесу,/ Такая убогая./ В столице люди/ Мой мир и всю мою жизнь/ Зовут – гора Печали. (Монах Кисэн, нач. IX в.).
Пожухли краски/ Летних цветов, вот и я/ Вглядываюсь в жизнь/ Свою и вижу только/ Осени долгие дожди. (Оно-но Комати, нач. IX в.)
Понятие роккасэн (букв. «шесть бессмертных») – означает шесть гениев поэзии 40-х – 80-х годов IX века, которые положили начало новому стилю поэзии – аварэ(трогательная, грустная красота), пришедшему на смену стилю макото(ясность, прямота, непосредственность). Это Аривара Нарихира, Оно-но-Комати, Содзё Хэндзё, Фунья Ясухида, Кисэн-хоси и Отомо Куронуси.Произведения первых четырёх поэтов хорошо представлены в известных антологиях, в отличие от двух последних, сохранивших живую связь с фольклорной традицией.
В хэйанскую эпоху (IX – XII вв.) складывается классический стиль в искусстве Японии, особенностью которого считают гармонию разнородных (национальных и привнесённых) элементов, подчинённых единой эстетической системе. Черты хэйанского стиля – «продуманная и уравновешенная гармония, чувство меры, утончённое изящество, плавные линии и мягкая гамма цветов, полутона и оттенки».[230] Ничего кричащего, резкого, неброская красота с лёгким привкусом меланхолии, «печальное очарование вещей» («моно-но аварэ»).

Деревья в храмовом комплексе
Муродзи. IX в. Япония
Отрицание ценности окружающего мира как следствие его иллюзорности, временности, нестойкости, в то же время, вызывает стремление увидеть в нём абсолютное, вечное, духовное. Отсюда проистекает прочность символического языка, основанная на бесконечных повторениях ситуаций, типов, обстановки, что воспринимается как дыхание вечности, как присутствие нетленного в тленном и бесконечного в конечном. Поэтому парадоксальным образом неизмеримо возрастает ценность мгновения, ускользающих примет весны или осени, времени дождя, когда Небо соединяется с Землёй, или предмета, освещенного вечным светом луны. Ветры в небесах,/ Сохраните врата для/ Белых облаков!/ Ещё одно мгновенье/ Дайте мне насладиться. (Монах Хэндзё, 816-890 гг.) В буддийской эстетике красота мира может быть пронзительной и яркой, восприниматься как озарение. Даже в век богов/ Не верю, чтобы воды/ Так отражали/ Красный облик осени,/ Как гладь реки Тацута. (Аривара-но Нарихира, 825-880 гг.)
В самой человеческой жизни отражается цикличность природы, и поздняя осень может походить на раннюю весну. Глубину сердца/ Распознать не дано мне,/ Но на родине/ Аромат сливы тот же,/ Что и в юные годы. (Ки-но Цураюки, 868-945 гг.) Осознание своего единства с природными явлениями в поэзии вырастает в тему их включённости не только в идеальный мир духовной жизни поэта, но и в саму реальную жизнь. Канонические символы луны, ветра, сосны, дождя перерастают рамки образа и воспринимаются поэтом как части собственной жизни и её участники. Какой старый друг/ Со мной вместе доживёт/ До моих седин?/ Лишь сосны Такасаго,/ Но они бессловесны. (Фудзивара-но Окикадзе, IX в.) С рисовых полей/ Ко мне в шалаш в сумерках,/ Негромко шурша,/ Приходит странствующий ветер-дружок. (Минамото-но Цунэнобу, 1016-1097 гг.)
В отличие от китайской поэзии, японская более трагична по характеру, в ней меньше философии и больше печали, одинаково пронизывающей и духовную и светскую лирику.
В домик в тумане
И в виноградной лозе
Никто не зашёл.
Только осень каждый год
Проведывает меня. (Монах Эгё, X в.)
Не хочется жить/ В этом тёмном мире, но/ Что держит меня?/ Только память о зимней/ Полной луне на небе. (Император Сандзё, 976-1017 гг.) Трудно я живу,/ Судьба жестока ко мне,/ Но я ещё жив,/ Только слёз не удержал,/ Их пролила моя грусть. (Монах Доин, годы жизни неизв.) Вместе с тем чувство причастности собственной жизни к ритмам природы и её хрупкой и в то же время вечной красоте позволяет гармонизировать переживание неизбежной старости, одиночества, смерти. Белые цветы/ Снежинок кружит ветер./ А мне кажется,/ Что это я вверх лечу,/ Так бела моя старость. (Фудзивара-но Кинцунэ, 1171-1244 гг.)

Пагода в храмовом
комплексе Муродзи. IX в. Япония.
Ощущение таинственного присутствия в явлениях бытия некоего вечного, неизменного начала в конце хэйанской эпохи (XII в.) породило в японской поэзии принцип «югэн», оказавший большое влияние на поэзию танка и рэнга («сцепленные строфы»), на театр Но, живопись, керамику, садовое искусство. «Югэн» (букв. сокровенное и тёмное) означает в японском искусстве тайную, скрытую красоту, не до конца явленную взору. Задача художника или поэта – указать к ней дорогу, наметить путь с помощью намёка, ассоциации, образа или символа. В этом принципе нашли отражение идеи, родственные даосизму – онтологическое единство пользы и бесполезного, возвышенного и низкого, усмотрение красоты в непривлекательных, на первый взгляд, предметах. Такая красота требует сосредоточения, отказа от суеты повседневности, покоя. Именно такого восприятия требует принцип «югэн», обращающийся к тому высшему началу в человеческом сердце, из которого рождается совершенство и просветление.
Наиболее полно принцип «югэн» воплотил в своём творчестве признанный мастер классических танка Сайгё (1118-1190), чья поэзия питала собой всю последующую японскую лирику. Он был буддийским монахом с прозвищем Сайгё-хоси, означающим «К западу идущий». Именно на западе, по учению буддистов, помещается рай Амида (скр.: Амитабха), на существование которого указывал огонь закатного солнца. Подлинное имя поэта, принадлежащего к знатному воинскому роду, – Норикиё. Биография Сайгё окружена легендами, поэтому самые достоверные сведения о нём, как это часто бывает, - его стихи. В пятнадцатый день[231] десятой луны 1140 г. Сайгё постригся в монахи, оставив вассальную службу и, по некоторым сведениям, жену и дочь. Жалеешь о нём…/Но сожалений не стоит/Наш суетный мир./Себя самого отринув,/Быть может, себя спасёшь.[232]
Первые годы после пострижения Сайгё провел невдалеке от столицы Хэйан (Киото), лежащей в окружении гор, на которых в самых живописных местах стояли знаменитые буддийские храмы-монастыри. Пятьдесят лет прожил поэт в монашестве, но он не стал религиозным учителем, знатоком священных буддийских текстов, его стихи не имеют назидательного характера. Монах Сайгё был прежде всего поэтом, поэтому буддийские темы и символы получают в его творчестве яркое индивидуальное преломление, традиционные мотивы наполняются новым чувством и содержанием.
Поэзия Сайгё высвечивает разные грани одной из главных буддийских тем – темы быстротечности бытия, причиняющего страдания. Вот кремушек брошен,/Одно мгновенье летит -/Упал на землю./С такой быстротой/Проносятся солнца и луны. Тема зыбкости и неустойчивости мира составила в поэзии Сайгё отдельный цикл «Десять песен о непостоянстве бытия», который исследователи относят к юности поэта, ко времени до принятия монашества. Непрочен наш мир./И я из той же породы/Вишнёвых цветов./Все на ветру облетают,/Скрыться…Бежать…Но куда?
В это время молодой поэт напряжённо и остро переживает изменчивость человеческой судьбы, которой вторят картины природы. Внезапный ветер/Сломает хрупкие листья/Банановой пальмы,/Развеет…Неверной судьбе/Могу ли ещё вверяться? Сочувствие превратностям судьбы других людей, их беды и неизбежные страдания заставляют Сайгё размышлять о поиске выхода. «Так я и ждал беды!» -/Человек в мановение ока/Упал на самое дно./Сколько глубоких ямин/Уготовил для нас этот мир!

Медитирующий бодхисаттва. Красная сосна.
620-649 гг. Корюдзи. Киото. Япония.
Мотив бренности бытия перерастает у поэта-отшельника в печальную и прекрасную мелодию белых лепестков цветущей вишни.
С особым волненьем смотрю…
На старом вишнёвом дереве
Печальны даже цветы!
Скажи, сколько новых вёсен
Тебе осталось встречать?.. (Увидев старую вишню, бедную цветами).
Ах, если бы в нашем мире/Не пряталась в тучи луна,/Не облетали вишни!/Тогда б я спокойно жил,/Без этой вечной тревоги… Но белый цвет цветущей вишни способен вызвать и совсем иные ассоциации. О пусть я умру/Под сенью вишнёвых цветов!/Покину наш мир/Весенней порой «кисараги»/При свете полной луны.[233] Облетающие лепестки становятся для Сайгё самым точным и ярким символом преходящего характера бытия и неизбежности прощания с ним. Слишком долго глядел!/К вишнёвым цветам незаметно/Я прилепился душой./Облетели…Осталась одна/Печаль неизбежной разлуки.
Горечь жизни и тоска по несбыточному и ушедшему находят свой образ в дожде, так похожем на человеческие слёзы. В пору долгих дождей весь мир в слезах. Соловьи на ветвях/Плачут, не просыхая,/Под весенним дождём./Капли в чаще бамбука…/Может быть, слёзы? (Соловьи под дождём). Дожди всё льются…/Ростки на рисовых полях,/Что будет с вами?/Водой нахлынувшей размыта,/Обрушилась земля плотин. Печаль от осознания непрочности мира усиливается острым переживанием его несовершенства, связанного с утратой высоких идеалов прошлого. Тоскую лишь о былом,/Тогда любили прекрасное/ Отзывчивые сердца./Я зажился. Невесело/ Стареть в этом мрачном мире.
 Гармонизировать переживание помогают мысли о вечном, непреходящем, предстающем в неизбежности смены времён года, в круглом диске луны. Луна – символ вечной истины и высшего просветления. Всё без остатка/Меняется и уходит/В нашем бренном мире./Лишь один, в сиянье лучей,/Лунный лик по-прежнему ясен. Тема луны, подобно мотивам дождя и весеннего цветения, особо выделяется в творчестве Сайгё, достигая необыкновенного смыслового и
Гармонизировать переживание помогают мысли о вечном, непреходящем, предстающем в неизбежности смены времён года, в круглом диске луны. Луна – символ вечной истины и высшего просветления. Всё без остатка/Меняется и уходит/В нашем бренном мире./Лишь один, в сиянье лучей,/Лунный лик по-прежнему ясен. Тема луны, подобно мотивам дождя и весеннего цветения, особо выделяется в творчестве Сайгё, достигая необыкновенного смыслового и
выразительного изящества. Деревья и пагода в монастыре Муродзи. IX в.
Современное фото.
Росы не пролив,
Ветку цветущую хаги
Тихонько сорву,
Вместе с лунным сияньем,
С пеньем цикады. (Цикады в лунную ночь).
Образ луны способен примирить с несовершенством мира, указать смыслы его вечной метаморфозы. Как сильно желал я/Дождаться! Продлить мой век/До этой осенней ночи./ На время – ради луны -/Мне стала жизнь дорога. (Пятнадцатая ночь восьмой луны).
Истина, образ вечности становятся зримыми лишь при озарении, которое, подобно мгновенной вспышке света, пронзает тьму неведения. Порою заметишь вдруг:/Пыль затемнила зеркало,/Сиявшее чистотой./Вот он, открылся глазам -/Образ нашего мира! В обычном состоянии истина недоступна, и луна, отражённая в воде, становится символом недостижимости радости и счастья в этом мире.[234] Пригоршню воды зачерпнул./Вижу в горном источнике/Сияющий круг луны,/Но тщетно тянутся руки/ К неуловимому зеркалу.
Природные циклы составляют четыре группы стихов о временах года, каждое из которых вызывает особые состояния в душе поэта. В сердце запечатлей!/Там, где возле плетня/Слива благоухает,/Случайный прохожий шёл,/Но замер и он, покорённый. Но весна не только пора цветения, весной из Японии улетают птицы, чтобы вернуться осенью. Весенний туман./Куда, в какие края/Фазан улетел?/Поле, где он гнездился,/Выжгли огнём дотла. Образ диких гусей в творчестве японских поэтов сохраняет характерное для китайской поэзии значение одиночества и долгого ожидания вестей. Эти строки Сайгё также явно тяготеют к графическому образу. Словно приписка/ В самом конце посланья - /Несколько знаков…/Отбились в пути от своих/ Перелётные гуси. (Летят дикие гуси). Отчего-то сейчас/ Такой ненадёжной кажется/ Равнина небес!/ Исчезая в сплошном тумане,/ Улетают дикие гуси.

Икэбана . Школа Охара (существует с 1897 г.;
названа по имени основателя). Современное фото.
Подобно древним китайским поэтам, Сайгё соединяет в своём сердце пору цветения с тоской по родственной душе, с темой ожидания друга.
Приди же скорей
В мой приют одинокий!
Сливы в полном цвету.
Ради такого случая
И чужой навестил бы…
Сама цветущая ветка открывает путь к сердцу другого человека: Невольно душе мила/Обветшалая эта застреха./Рядом слива цветёт./Я понял сердце того,/Кто раньше жил в этом доме.
Буддийское отношение к миру, согласно которому весь мир есть тело Будды, диктует особое представление о стихиях и всех проявлениях природного начала. Это понимание мира животного и растительного как равного себе бытия. Когда б улетели прочь,/Покинув старые гнёзда,/Долины моей соловьи,/Тогда бы я сам вместо них/Слёзы выплакал в песне. (Если б замолкли голоса соловьёв в долине, где я живу).
Открытая сердцу поэта печаль мира наполняет его сочувствием ко всему происходящему Первых побегов/Свежей весенней травы/Ждёт не дождётся…/На омертвелом лугу/Фазан жалобно стонет. (Фазан). Такое сердце способно чувствовать, с каким трудом весной «вода, пробиваясь сквозь мох, ощупью ищет дорогу» и страдать из-за того, что туман мешает найти верный путь стае перелётных гусей, устремившихся на север.
Отшельник может беседовать, как с близким другом, с кукушкой, чей образ, означающий надежду, весьма популярен в японской поэзии. Твой голос, кукушка,/Так много сказавший мне/В ночную пору, -/Смогу ли когда-нибудь/Его позабыть я? Поэт уверен в том, что природа так же откликается на зов человеческого сердца, родственного ей – она может утешить, смирить скорбь, приняв её в себя. Скажите, зачем/Так себя истомил я/Сердечной тоской?/Не от моих ли жалоб/Осень всё больше темнеет? Такое отношение к природе позволяет понять, что голубь на одиноком дереве в мрачный зловещий вечер зовущий друга – не что иное, как сама душа поэта. А стоящая одна на высоком холме сосна – единственный друг состарившегося отшельника.
Если и в этих местах
Дольше жить
Мне прискучит,
Тогда какой одинокой
 Останется эта сосна!
Останется эта сосна!
Икэбана. Школа Согецу (существует с 1927 г.;
означает «трава и луна»).
Современное фото.
Слово «сердце» (главная категория «югэн») у Сайгё имеет три значения. Это неразумное, «истомлённое весною», страдающее человеческое сердце, над тревогами которого не властен разум. Увлечено цветами,/Как сердце моё могло/Остаться со мною?/Разве не думал я,/Что всё земное отринул? Есть еще «глубинное сердце» - духовное начало мира, маленький росток, из которого может вырасти Будда. Но в сердце поэта Будда может жить как цветущие ветви вишен. В горах Ёсино/ Долго, долго блуждал я/ За облаком вслед./Цветы весенние вишен/Я видел – в сердце моём. И наконец, сердце – это сама поэзия как возвышенная речь о сокровенном, понятная тому, кто подобно поэту, тоже ищет цветущие вишни. Но загадка и тайна составляют суть мира, понять скрытую истину трудно и тем более – рассказать о ней. Как же мне быть?/ На моём рукаве увлажнённом/ Сверкает свет,/Но лишь прояснится сердце,/В тумане меркнет луна. Смысл жизни буддиста состоит в развитии «глубинного сердца», которое, подобно луне, освещает душу человека и может дать истинное знание. У Сайгё есть стихи о «прозрении истинного сердца»: Рассеялся мрак./На небосводе сердца/ Воссияла луна./К западным склонам гор/Она всё ближе, ближе…В пространном, как это было принято, заголовке к другому стихотворению о ростке Будды в человеке Сайгё говорит о том, что, если случится пробудить в себе «истинное сердце», то даже в пламени Вечного ада Аби возможно просветление.
Отдельный цикл в поэзии Сайгё составляют стихи о буддийском аде, описания и изображения которого входили важной составной частью в тематику искусства средневековой Японии. Этот цикл состоит из 27-ми стихов, в которых используется особый приём развёрнутых прозаических вступлений, составляющих своеобразную оправу для поэтического текста. Использование прозы углубляло художественный образ, придавало поэзии эпическое, монументальное звучание.
Из судилища князя Эмма адский страж уводит грешника туда, где в направлении Пса и Вепря[235] виднеется пылающее пламя. «Что это за огонь?» - вопрошает грешник. «Это адское пламя, куда ты будешь ввергнут», - ответствует страж, и грешник в ужасе трепещет и печалится. Так повествовал о сём в своих проповедях Тюин-содзу[236]
Осуждённый спросил:
«Зачем во тьме преисподней
Пылает костёр?»
«В это пламя земных грехов
И тебя, как хворост, подбросят».
Согласно буддийскому учению и японским народным легендам, душа умершего уходит по горной тропе, где в загробном царстве ей сопутствует кукушка. Перейдя через Сидэ-но яма – Горы смерти – душа видит перед собой новую преграду – «Реку тройной переправы». Праведники перейдут её по мосту, люди, близкие к ним, не обременённые тяжкими грехами, смогут преодолеть её вброд, а вот тяжкие грешники утонут в пучине.
Судит грешников владыка преисподней князь Эмма (скр. Яма). Согласно древней индийской мифологии, Яма – первочеловек, хранитель мира предков. Под его началом находится воинство демонов – это стражи и палачи, но, верша возмездие по закону кармы, они не лишены сострадания к человеку – «из диких глаз демона», по словам Сайгё, могут даже «литься слёзы» сочувствия. Адский страж полон жалости к ввергнутому им в геенну грешнику и «идёт обратно уныло повесив голову», что вовсе не вяжется с его грозным обликом. О картинах, изображающих ад, поэт оставил такие строки: Взглянешь – ужас берёт!/Но как-то стерпеть придётся,/ О сердце моё!/Ведь есть на свете грехи,/Такой достойные кары. Душу грешника в аду очищают страшными пытками, поэтому видения, описанные Сайгё, иногда напоминают ад Данте – например, люди, превращённые в деревья. Души грешников -/ Теперь на горе Сидэ[237]/Лесные заросли./Тяжёлый топор дровосека/Рубит стволы в щепу. (Область ада, где «набросив верёвку с чёрной тушью»[238], рубят, как дерева).
 Но более всего в этой страшной теме поэтическую душу Сайгё занимает не идея воздаяния и искупления, а идея милосердия. В буддийском аду восемь областей. Самая нижняя часть Аби (скр. Авичи) – вечный ад, но и туда приходит милосердный Бодхисаттва Дзидзо, утешитель грешников в аду, а на земле защитник странников и малолетних детей. Статуи Дзидзо обычно стояли на дорогах Японии. Лишь божественное милосердие Дзидзо – Бодхисаттвы преисподней – способно проникнуть в сердцевину адского пламени, «подобно утреннему рассвету, чтобы посетить и утешить страждущего».
Но более всего в этой страшной теме поэтическую душу Сайгё занимает не идея воздаяния и искупления, а идея милосердия. В буддийском аду восемь областей. Самая нижняя часть Аби (скр. Авичи) – вечный ад, но и туда приходит милосердный Бодхисаттва Дзидзо, утешитель грешников в аду, а на земле защитник странников и малолетних детей. Статуи Дзидзо обычно стояли на дорогах Японии. Лишь божественное милосердие Дзидзо – Бодхисаттвы преисподней – способно проникнуть в сердцевину адского пламени, «подобно утреннему рассвету, чтобы посетить и утешить страждущего».
Сидящий Будда Амида. XIII в.
Бронза. Высота 11,4 м. Около Камакуры. Япония
Раздвинув пламя,
Бодхисаттва приходит утешить.
О, если бы сердце
Могло до конца постичь:
Сострадание – высшая радость!
Поэт сам стремится утешить людей, чья жизнь прошла под властью «неразумного сердца». Главное – и об этом надо помнить в самом аду – это вера в божественное милосердие, которое даёт возможность спастись «из самой кромешной тьмы», и молитва, имеющая тайную, великую силу. Лениво, бездумно/ Ты призывал имя Будды,/Но эта заслуга/ Спасёт тебя от страданий/На самом дне преисподней.
Даже в аду возможно «озарение», если человек осознает свою причастность к высшему началу. Если ввериться сияющему лику Будды Амида, что озаряет глубины преисподней, не отвращаясь от созданий, вверженных туда за тягчайшие грехи, тогда и кипящее зелье в адских котлах превратится в чистый и прохладный пруд, где распустятся лотосы.

Храм Гинкакудзи (Серебряный павильон) и пруд. 1489 г. Киото.
Современники запомнили Сайгё как отшельника – скитальца, часто переходившего с места на место и предпринимающего подчас рискованные путешествия, которые сам поэт воспринимал как символы своего жизненного пути. Стелется по ветру/Дым над вершиной Фудзи./В небо уносится/И пропадает бесследно,/Словно кажет мне путь. (Когда я шёл в край Адзума, чтобы предаться делам подвижничества, я сложил стихи при виде горы Фудзи). Дремота странника…/Моё изголовье – трава -/Застлано инеем./С каким нетерпеньем я жду/Тебя, предрассветный месяц! Но уходя всё глубже в горы от людей и исторических событий, поэт не находит места, куда бы не доходили горькие вести.
Один из немногих источников радости, помогающий переносить тяготы и несовершенства жизни - дружба, общение с единомышленниками. Когда бы в горном селе/Друг у меня нашёлся,/Презревший суетный мир!/Поговорить бы о прошлом,/Столь бедственно прожитом! Многие стихи Сайгё представляют собой «ответные песни» («каэси ута»), которые составляли своеобразные поэтические диалоги. Но и послания друзьям, как правило, печальны.
Когда уже всё было занесено снегом, я послал эти
стихи одному другу. Осенью он обещал навестить
меня, но не сдержал слова
Теперь она без следа
Погребена под снегом!
А ждал я, мой друг придёт,
Когда устилала тропинки
Кленовых листьев парча.
Поэты-единомышленники часто устраивали поэтические собрания, где сочиняли стихи на какую-либо избранную тему. Поэтические турниры обычно проходили во дворцах аристократов, покровительствующих искусствам, иногда в монастырях, бывших очагами культуры. Темами состязаний были природные пейзажи, воспоминания детства, отношение к современной жизни, иногда – картина на ширме. Тема обычно имела название: «Путник идёт в густой траве», «Голос воды глубокой ночью» или «Стихи о нынешних временах». Картина на ширме могла изображать сановников Весеннего дворца, которые толпятся вокруг цветущих вишен. Написанные стихи тут же обсуждались, назывались победители поэтического турнира. Вокруг признанных мастеров собирались ученики, почитатели, последователи. Стихи Сайгё довольно часто в качестве заголовка или прозаического вступления содержат указания на тему поэтических состязаний.
Сочинил во дворце Кита-Сиракава, когда там слагали
стихи на тему: «Ветер в соснах уже шумит по-
осеннему», «В голосе воды чувствуется осень»
Шум сосновых вершин…
Не только в голосе ветра
Осень уже поселилась,
Но даже в плеске воды,
Бегущей по камням речным.
 Иногда основой поэтического диалога была лишь одна строфа, поскольку танка содержит две относительно независимые друг от друга части – начальное трёхстишие и конечное двустишие, которые при прочтении можно менять местами. «Ответ» в данном случае состоял в том, чтобы написать следующую строфу так, чтобы получилось единое произведение. Такая «переписка», которая была под силу только большим мастерам, дала новую стихотворную форму, родившуюся во время поэтических турниров – рэнга («сцепленные строфы»). Строфы соединялись с помощью тонкой игры контрастов, переходов, двойных значений образов, ассоциаций и т.п. В стихах Сайгё встречается описание того, как появилось одно из классических пятистиший в стиле «сцепленных строф».
Иногда основой поэтического диалога была лишь одна строфа, поскольку танка содержит две относительно независимые друг от друга части – начальное трёхстишие и конечное двустишие, которые при прочтении можно менять местами. «Ответ» в данном случае состоял в том, чтобы написать следующую строфу так, чтобы получилось единое произведение. Такая «переписка», которая была под силу только большим мастерам, дала новую стихотворную форму, родившуюся во время поэтических турниров – рэнга («сцепленные строфы»). Строфы соединялись с помощью тонкой игры контрастов, переходов, двойных значений образов, ассоциаций и т.п. В стихах Сайгё встречается описание того, как появилось одно из классических пятистиший в стиле «сцепленных строф».
Феличе Беато. Самурай.
Фото. Ок. 1860 г.[239]
Однажды во дворце принцессы Дзёсанмон-ин молодые придворные беседовали с госпожой Хёэ-но цубонэ.[240] «Ныне всех занимают лишь вести с полей битвы, о поэзии и думать позабыли», - сетовала она. И вот в лунную ночь на поэтическом собрании стали слагать танка и низать рэнга строфу за строфой. Когда же в рэнга были помянуты воины, она в свою очередь сложила двустишие:
Озаряет поле сраженья
Месяц - туго натянутый лук.[241]
Ко мне в Исэ[242] пришли люди из столицы и поведали: «Вот какую строфу сочинила Хёэ-но цубонэ. Но тут все умолкли, никто не мог далее продолжить рэнга». Услышав это, я добавил к ней такую строфу.
Сердце в себе умертвил.
Подружилась рука с «ледяным клинком»[243].
Или он – единственный свет?
Среди поэтов хэйанской поры большим влиянием пользовалась необуддийская эзотерическая школа Сингон. Её вероучение содержало элементы мистицизма и оккультной магии, свойственные синтоизму. Единственным спасителем признавался Будда Дайнити (скр. Махавайрочана). У последователей Сингон особо почиталась священная гора Коя, где находились чтимые храмы и жили отшельники, среди которых более тридцати лет провёл Сайгё. Здесь тоже собирались поэты и устраивались поэтические состязания в виде коллективной импровизации. Одно из таких собраний нашло отражение в стихах Сайгё.
Сочинено мною, когда на горе Коя слагали
стихи на тему «Голос воды глубокой ночью»
Заблудились звуки.
Лишь буря шумела в окне,
Но умолк её голос.
О том, что сгущается ночь,
Поведал ропот воды.

Парк и пруд храма Гинкакудзи.
Был заложен в 1489 г. Киото.
К современным Сайгё поэтам, развивавшим в своём творчестве принцип «югэн», относились Фудзивара-но Садаиэ, Фудзивара-но Иэтака, Сикиси-Найсинно, Санэтомо. Принципы «югэн», соединённые с буддийской тематикой, в стихах этих знаменитых поэтов раскрываются в традиционных темах «истинного сердца», «срединного пути» и призрачности мира, находят выражение в гармонии весеннего света и печали (цветущих вишен и покидающих Японию диких гусей), тайном родстве одиночества и сияния луны. Традиционные буддийско-синтоистские идеи и образы выражены в стихах этих поэтов лёгким касанием, без пафоса и экспрессии, тонкой кистью ассоциаций. В кои веки, бывало,/Друзья посетят меня…/Дальнее воспоминанье!/В саду моём с давних пор/Людские следы исчезли. (Фудзивара-но Садаиэ).
Наиболее ярко после Сайгё буддийские образы были воплощены в творчестве Минамото Санэтомо (1192-1219). Став сёгуном уже в 12 лет, он рано осознал роковой характер своей судьбы. Трагическое мироощущение, предчувствие ранней гибели (был убит заговорщиками) гармонизируются в его поэзии буддийскими символами и философскими размышлениями. Где боги живут?/Где обитают Будды?/Ищите их/ Только в глубинах сердца/Любого из смертных людей. (Песня о сердце в глубине сердца). Молодого поэта занимает онтологическое учение махаяны, согласно которому Будда говорил о существующем в мире как о несуществующем, а об отрицании – как о единственно возможном способе постижения бытия. Этот мир земной -/Отражённое в зеркале/Марево теней./Есть, но не скажешь, что есть./Нет, но не скажешь, что нет. (Песня о «срединном пути» согласно Махаяне). Но сердце поэта отказывается воспринимать мир лишь как иллюзию, оно искренне скорбит о его несчастьях, особенно если они приходят к тем, кто сам не может себя защитить. Это касается маленького ребёнка, напрасно зовущего умершую мать, «бессловесных зверей», у которых тоже есть слабые беззащитные дети. Грустные мысли вызывает осознание собственной греховности, неизбежно пролагающей путь к «пламенеющему аду». Своей молитвой, обращенной к Будде, Санэтомо стремится защитить крестьян от разбушевавшейся стихии. Последнее стихотворение приобретает эпическую силу, благодаря использованию пространного прозаического вступления-комментария.
Во время наводнения, приключившегося в седьмую
луну первого года Кэнрэки, горестные сетования
земледельцев переполнили небеса. И тогда, пред-
став в одиночестве перед Буддой моего домашнего
алтаря, я вознёс краткую мольбу:
В такие времена
Страдания и жалобы народа
Превыше всех забот.
Божественных драконов осьмерица[244],
Останови губительный потоп!
Поэзия Сайгё оказала влияние не только на современных мастеру поэтов, но и на всё дальнейшее развитие японской поэзии. В числе продолжателей традиций его поэтического искусства мастер «сцепленных строф» Соги (XV в.), поэты, слагавшие трёхстишия - хокку – Басё (XVII в.) и Бусон (XVIII в.). Всё, к чему могла прикоснуться рука Сайгё, вызывало поэтический отклик. Через несколько веков на берегу залива, где некогда жил Сайгё, его конгениальный соотечественник Басё написал: Может, некогда служил/ Тушечницей этот камень?/Ямка в нём полна росы.
 В творчестве Басё (1644-1694) (поэтический псевдоним, обычно переводимый как «Мудрец из банановой хижины», «Банановое дерево») продолжают звучать буддийские темы, к которым присоединяется развитие им поэтических традиций Ду Фу и Сайгё. Настоящее имя поэта, происходящего из древнего рода самураев, Мацуо Мунэфуса. По свидетельству историков японской культуры, Басё в своих многолетних путешествиях часто облачался в одежды буддийского священника, что было вызвано не столько внешними причинами, сколько внутренним созвучием учению буддизма[245]. Среди его учителей (Басё изучал военные искусства, китайскую классическую поэзию, рисование, древнюю литературу Японии) называют и мастеров дзен.
В творчестве Басё (1644-1694) (поэтический псевдоним, обычно переводимый как «Мудрец из банановой хижины», «Банановое дерево») продолжают звучать буддийские темы, к которым присоединяется развитие им поэтических традиций Ду Фу и Сайгё. Настоящее имя поэта, происходящего из древнего рода самураев, Мацуо Мунэфуса. По свидетельству историков японской культуры, Басё в своих многолетних путешествиях часто облачался в одежды буддийского священника, что было вызвано не столько внешними причинами, сколько внутренним созвучием учению буддизма[245]. Среди его учителей (Басё изучал военные искусства, китайскую классическую поэзию, рисование, древнюю литературу Японии) называют и мастеров дзен.
Пожилой самурай. Фото 1860-1880 гг.[246]
Форма поэтической миниатюры – хокку, непревзойдённым мастером которой был Басё, родилась из диалога поэтов – рэнга. Первая строфа (трёхстишие) «сцепленных строф» называлась хокку (или позднее, с XIX в. – хайку). Отделившись от пятистишия – танки, хокку стали самостоятельной формой, делающей слово необычайно весомым, благодаря ещё большему по сравнению с танка ограничению в средствах выражения. Иногда работа над словом в хокку занимала несколько лет. Поэт долго отбирал окончательный вариант стихотворения. Так было со знаменитым трёхстишием Басё На голой ветке/Ворон сидит одиноко./Осенний вечер. По словам поэта, обращённым к ученику, «хокку нельзя составлять из разных кусков…Его надо ковать, как золото».[247]
Гармония в высшем её проявлении (тайное, сокрытое созвучие) стала основой произведений Басё. Эта гармония имеет множество прекрасных проявлений, выступая как согласованное созвучие частей природы и её явлений, превратностей человеческой судьбы и смены картин пейзажа в путешествиях, как философское раздумье о единой основе окружающего нас многообразия. Часто стихи Басё звучат как продолжение традиционных для китайской и японской поэзии тем, как своеобразные «ответы» Ду Фу или Сайгё, с которыми он ощущал глубокое духовное родство. Друг, не забудь/Скрытый незримо в чаще/Сливовый цвет! (Уезжающему другу). Цветы увяли./Сыплются, падают семена,/Как будто слёзы…Необыкновенно изящно и глубоко преломляется у Басё тема поиска родной души и буддийское отношение к природе. О, проснись, проснись!/Стань товарищем моим/Спящий мотылёк! В своих странствиях поэт посещал места, где подолгу жил в уединении Сайгё, образ которого соединился в творчестве Басё с символами цветения – дружбы - духовного родства. Деревце сливы в цвету/ Позади обители юных жриц./Сколько прелести в нём! (В святилище Исэ). Дружеская беседа может разбить и прогнать прочь осеннюю мглу, заставить забыть о холоде и невзгодах. Осень уже на пороге./Сердце тянется к сердцу/В хижине тесной.(На собрании поэтов)

Ямадэра - храм буддийской школы «Тэндай». Образован в 860 г. По преданию, связан с именем Басё, который останавливался в нем во время своего путешествия по северу Японии в 1689 г. и
посвятил ему такие строки: Что за тишина!
Так пронзительны средь скал-
голоса цикад.
Но природа таланта Басё была новаторской, что обусловило не только внесение нового в устоявшуюся традицию, но и создание абсолютно оригинальных приёмов, введение в поэзию социальных идей, расширение самого поэтического взгляда на мир. Тема цветения и весны получает неожиданно яркое цветовое решение.
Храма Канннон[248] там, вдалеке,
Черепичная кровля алеет
В облаках вишнёвых цветов. (Смотрю в окно после болезни)
Иногда по отношению к этой вечной, священной для японской поэзии теме Басё считает допустимой даже иронию. В путь! Покажу я тебе,/Как в далёком Ёсино вишни цветут,/Старая шляпа моя.
Ирония, которая весьма редко встречается в лирической поэзии вообще, сопровождает поэта во время его путешествий, нашедших отражение в канонической для Китая и Японии теме странствий. Если бы шёл я пешком,/На «Холме дорожного посоха»/Я не упал бы с коня. Чувство самоиронии необходимо поэту, оно помогает преодолеть многие превратности пути, поскольку способно включить в своё поле яркие образы прошлого, найти в них поддержку. Часто место, привлёкшее внимание Басё, соединяется с образом известного поэта или отшельника, жившего здесь, или проходившего тем же путём.
«Безумные стихи»…Осенний вихрь…
О, как же я теперь в своих лохмотьях
На Тикусая нищего похож! (Мне невольно пришёл на память мастер «безумных стихов» Тикусай, бродивший в былые дни по этой дороге).
Иногда не печаль или радость, а тонкая усмешка присутствует и в стихах, обращенных к друзьям. А ну, скорее, друзья!/Пойдём по первому снегу бродить,/Пока не свалимся с ног. Иронически поэт относится и к своим чувствам, и к своим печальным мыслям. Даже «печаль-трава»/Здесь увяла. Зайти в харчевню?/Лепёшку, что ли, купить? (Возле развалин старого храма).
 Часто канонические темы и образы только будят мысль, становятся основой для развития идеи в новом направлении, которое высвечивает иной, непривычный ракурс.
Часто канонические темы и образы только будят мысль, становятся основой для развития идеи в новом направлении, которое высвечивает иной, непривычный ракурс.
Вишни в весеннем расцвете.
Но я – о горе! – бессилен открыть
Мешок, где спрятаны песни. (В ответ на просьбу сочинить стихи)
Не менее неожиданный и философски новый поворот получает и тема вечности, воплощенной в луне. В небе такая луна/ Словно дерево спилено под корень:/Белеется свежий срез. Преодолевая созерцательное отношение к миру в дзен-буддизме, Басё позволяет себе невиданную в пейзажной лирике экспрессию. Ядом дышит скала./Кругом трава покраснела./Даже роса в огне. (Возле «Камня смерти»).
Киёнага Тору (1752-1815).
Чайный домик на побережье. Ксилография.
Укиё-э. Эпоха Эдо (1603-1868). Национальный
музей азиатских искусств. Париж.
Тему человека как части общества, внимание к социальным проблемам, прошедшее через всё творчество Басё, можно назвать «темой Ду Фу», своеобразной данью любимому поэту, которая, конечно, не сводилась к прямому влиянию китайского мастера и развитию его идей. В социальной проблематике Басё органично и тонко соединяет буддийское мироотношение с острым переживанием социальной несправедливости. Человек – не только часть природы, его судьба зависит и от других людей, и от исторических катаклизмов, и от непогоды. Сколько выпало снега!/А ведь где-то люди идут/Через горы Хаконэ.
Внимание поэта обращено не только к вечным приметам осени, но и к промокшему путнику, бредущему под дождём по полю. Именно этот образ для Басё становится символом осени, столь же ярким, как для весны - цветение хаги. Такой подход делает одним из трагических символов зимы одинокую старуху в лесной хижине, засыпанной снегом. А радостный взгляд видит сходство весеннего цветения с играми детей. Но наряду с яркими приметами лета Басё выделяет тяжёлый труд земледельцев. Полоть…Жать…/Только и радости летом -/Кукушки крик. (Крестьянская страда).
Человеческая жизнь в восприятии поэта не может полностью раствориться в природных символах. Вся семья побрела на кладбище./Идут, сединой убелённые,/Опираясь на посохи. (Посещают семейные могилы). Чем же там люди кормятся?/Домик прижался к земле/ Под осенними ивами.
Поэт глубоко переживает тему отверженности, равнодушия, изгоняющего человека из его среды, ставших частью жизни, особенно в больших городах. Праздник весны…/Но кто он, прикрытый рогожей/Нищий в толпе? (Встречаю Новый год в столице). Ему близка тема бедности, и хотя Басё не видит большой ценности в материальных благах, его изящная ирония становится особенно горькой, когда нечем поделиться с пришедшим другом.
В старом моём домишке
Москиты почти не кусаются.
Вот всё угощенье для друга.
Бесконечно трудно смириться с потерей близких. Тема плача по умершим родителям, детям, верным спутникам жизни, друзьям – также одна из главных в творчестве поэта. Всё падают и шипят./Вот-вот огонь в глубине золы/ Погаснет от слёз. (Отец тоскует о своём ребёнке). Здесь человеческое горе не растворяется в гармонии природы, а ищет образ, способный выразить его. Басё новаторски подчиняет природный символ переживанию, превращая его в метафору невыразимой глубины скорби. Поник головой,/Словно весь мир опрокинут,-/Под снегом бамбук. (Отцу, потерявшему сына).
Но жизнь человека объединяет разные планы и явления. Новый образ получает мир природный, вплетённый в нужды повседневной жизни. Ношу хвороста отвезла/Лошадка в город…Трусит домой, -/Бочонок вина на спине. (На сельской дороге). Трагическое здесь часто соседствует с комическим. Тонкое чувство юмора, которым наделён поэт, закономерно получает своё яркое воплощение именно в стихах социальной тематики. Чей это зять там идёт?/Тестю несёт на спине подарки./Начинается «год Быка».
 Басё разделяет буддийское отношение к красоте как к неожиданному озарению, вспышке божественного света, способной преобразить всё вокруг. Ощущение небесной лёгкости, отдохновение могут подарить фиалки, мелькнувшие в густой траве, или внезапно раздавшееся пение птиц и цикад. Едва-едва я добрёл,/Измученный, до ночлега…/И вдруг – глициний цветы!
Басё разделяет буддийское отношение к красоте как к неожиданному озарению, вспышке божественного света, способной преобразить всё вокруг. Ощущение небесной лёгкости, отдохновение могут подарить фиалки, мелькнувшие в густой траве, или внезапно раздавшееся пение птиц и цикад. Едва-едва я добрёл,/Измученный, до ночлега…/И вдруг – глициний цветы!
Храмовый комплекс Ямадэра. Образован в 860 г. Связан с именем Басё.
Буддийские мотивы, само имя Будды тоже наполняются новым чувством и оригинально прочитываются в его творчестве.
В день рождения Будды
Он родился на свет,
Маленький оленёнок. (Посещаю город Нара)
Паутинки в вышине./ Снова образ Будды вижу/На подножии пустом. (Там, где когда-то высилась статуя Будды). Воображение поэта расцвечивает новыми красками и образ отшельника-мудреца, подобного величавому одинокому дубу, не замечающему вишнёвых цветов. Оно соединяет в одной форме горячую ночную молитву и стук башмаков «ледяного монаха», идущего мимо, «тёмные статуи будд» и аромат хризантем.
Стихи Басё – стихи поэта-философа, которому открыты многие тайны мира. Основы его поэзии - мудрость, позволяющая увидеть скрытую гармонию, пережить красоту-озарение, тонкая ирония как отсвет причастности к истине. Но всё это не исключает в творчестве Басё передачи трагической глубины страдания, составляющего суть бытия. Растает в руках моих, -/Так горячи мои слёзы, -/Белый иней волос. (Прядка волос покойной матери). Грустите вы, слушая крик обезьян!/ А знаете ли, как плачет ребёнок,/ Покинутый на осеннем ветру? Всегда трагичны темы расставания, одиночества, смерти близких людей. Уходит земля из-под ног. / За лёгкий колос хватаюсь…/ Разлуки миг наступил. (Прощаясь с друзьями).
По преданию, последними стихами Басё, стали строчки, объединившие в себе многие темы, мотивы, идеи и достижения гениального поэта.
В пути я занемог.
И всё бежит, кружит мой сон
По выжженным полям.
Основные понятия японской средневековой эстетики[249]
Аварэ – категория раннесредневековой японской эстетики IX – XII вв. Означает прекрасное, трогательное, грустное. Выступает в нескольких ипостасях: красота восхищающая, красота меланхолическая, а также красота гармонии и элегантности.
Вака – обозначает японскую национальную поэзию (в отличие от китайской) во всех её формах, включая танка, в отличие от народной песни, религиозных гимнов, а также более поздних форм поэзии, возникших на базе танка – хокку и рэнга.
Ёдзё – «избыточное» эмоциональное содержание, обертоны, ассоциативный подтекст. Часто связано с аллюзией на более ранние поэтические произведения или произведения других жанров. На её основе складывается к концу XII века эстетика югэн.
Ирогономи – культ любви. Этимологически складывается из слов «иро» - «любовь», «страсть» и «конному» - «нравиться», «любить», «предпочитать». Исходное значение – выбор друга (подруги) сердца. В эпоху Хэйан становится важным фактором образа жизни. Наиболее яркое художественное воплощение это явление получило в романе Мурасаки Сикибу «Гэнжзи моногатари» (1001-1010).
Киго – «сезонные слова». Слова – сигналы, используемые в песнях для обозначения наиболее характерных явлений природы данного времени года. Например, упоминание о ветре, дожде или хризантеме создавало эффект «присутствия» осени.
Макото – истина, правдивость. Идеал древнеяпонской поэзии, стремящейся выражать подлинную сущность вещей и чувств. В новое время означает идеалы наивности, искренности, безыскусности, противостоящие созерцательности стиля «моно-но-аварэ» (печальному очарованию вещей).
Мияби – элегантность, изысканность, «куртуазность». Идеал жизни и искусства, связанный с придворной традицией.
Моно-но-аварэ- букв. «чары вещей». «Моно» - «вещь», «предмет» в широком смысле – всё, что окружает человека. Выражает особенность мировосприятия, проистекающую из убеждения в том, что вещи таят в себе особое тайное очарование, которое и должно быть объектом поэтического воплощения. В целом категория предполагает эстетизацию повседневности, свойственную элитарной культуре, и охватывает образ жизни, поведения, соединяясь с предыдущим понятием – мияби.
Окаси – эстетическая категория раннего средневековья, одна из ипостасей «аварэ». Означает милое, трогательное, забавное, интересное, но в отличие от «аварэ» - без меланхолической окраски. Нашла своё яркое отражение в эссе Сэй Сёнагон «Записки у изголовья» («Макура-но-соси», XI в.).
Утаавасэ – состязания поэтов в искусстве сложения танка – поэтические турниры. Первый турнир состоялся в середине IX в. в доме поэта Аривара Юкихира. Самым крупным состязанием был турнир эры Кампё в годы правления императора Уда(887-897). На турнирах песни слагались на заданную тему (осень, цветение вишни, состояние воды в разные сезоны и т.п.) и оценивались очень строго. Проводились также турниры цветов (хризантемы, валерианы), на которых были два объекта состязания – цветок и приложенная к нему песня танка.
Хонокадори – букв. «следуя изначальной песне». Японский вариант аллюзии, реминисценции, состоящий в использовании поэтического материала более ранних произведений. Цель – воссоздание атмосферы поэтического прошлого и расширение ассоциативного фона стихотворения за счет содержания произведения-прототипа. Предполагал обширные знания и ученость читателя.
Югэн – «таинственность и глубина», «сокровенная красота», особая атмосфера, достигаемая с помощью ёдзё (ассоциативный подтекст). Основная эстетическая категория развитого средневековья (XII-XVI вв.), трансформация «моно-но-аварэ» в условиях усиления влияния буддизма с его концепцией иллюзорности земного мира. Красота становится как бы неуловимой, теряющей свои реальные очертания. Для стиля югэн характерны окрашенность грустью, задумчивая меланхолия, образность монохромного характера. В поэзии югэн эмоциональное содержание находится за пределами словесного выражения.
Излюбленные символы и образы японской поэзии эпохи Хэйан ( IX – XII вв.)[250]
Луна – входит главной темой в лирическую поэзию периода Хэйан. Главные значения луны – свет, вечность, таинственность судьбы и жизни. Особый смысл имеет выражение «При свете полной луны», т.е.15-го числа месяца. Согласно учению буддизма, в этот день ушёл из мира Будда Гаутама. Луна символизирует также связь между влюбленными. Упоминание луны высоко в небе означает, что избранник совсем отдалился и на него нельзя положиться.
Седьмой день седьмого месяца по лунному календарю – праздник Встречи Звёзд (Танабата). Согласно древнекитайской легенде, ставшей популярной и в Японии, этот день – единственный в году, когда встречаются звёзды Альтаир (Волопас) и Вега (Ткачиха), которые всё остальное время вынуждены жить в разлуке по разные стороны Млечного Пути (Небесной реки). Звёзды встречаются на мосту, наведённом сороками через Небесную реку.
Бамбук – символ вечности, неизменности. В то же время его образ соединяется с вечными несчастьями в этом мире. Из поэтической антологии «Кокинвакасю»:
Дни коротаем
В мире – бамбуковой чаще,
Листья горестных слов
Шелестят, а на каждом коленце
Плачет – поёт соловей.
Облачная обитель – небеса, в переносном смысле – Императорский дворец.
Сосна на вершине горы Суэно Мацуяма – символ верности в любви, тогда как волны, вздымающиеся выше горы Мацуяма символизируют ветреность, изменчивость нрава, неверность.
Заросшее дикими травами жилище – символ отсутствия внимания со стороны одного из влюблённых.
Девятый день девятой луны – праздник хризантем, роса с которых в этот день считалась целебной.
Роса на листьях хаги – образ, который использовался для обозначения ребёнка, судьба которого внушает беспокойство. Часто также символизирует быстротечность всего сущего.
Драгоценная нить или ожерелье из драгоценных камней – символ жизни.
Веер – дарили при расставании как знак новой встречи, поскольку в слове «веер» («ооги» или «ауги») есть слово «встречаться» («ау»).
Рукава, слёзы на рукавах, слёзы в изголовье – образы любовной тоски и любовных тайн.
«На ветру» - образ из буддийских трактатов, использующих выражение «Жизнь, что свеча на ветру». Родственные словосочетания – «листья на ветру», «огни на ветру» и др.
Дом, охваченный пламенем, или горящий дом – обозначение земного мира в противопоставлении царству Будды, нирване.
«Пять преград» (госё или гогэ) – преграды, которые стоят перед женщинами на их пути к просветлению. В Сутре Лотоса в главе «Девадатта» говорится: «Перед женщиной пять преград: 1 – она не может стать небесным царём Брахмой; 2 – Шакрой; 3 – царём мар; 4 – святым царём, вращающим колесо; 5 – обрести тело Будды».
Дата добавления: 2021-04-05; просмотров: 255; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
