Искусство как вектор: иконы и патерики
В работе «The Light of Life» Седакова пишет о значении икон в сохранении и понимании апофатической традиции. Имея в виду прежде всего понятие идентичности, она говорит, что иконы указывают на глубоко скрытый в человеке образ – образ Бога. Седакова пишет: «Согласно некоторым православным богословам, образ Бога в человеческом существе – это его простое существование, его бытие “неничем ”»[187]. Подлинное «я» человека заключено в бытии. Сущностный образ человека, образ, о котором свидетельствует икона, бесконечен и способен к адаптации. Седакова говорит об «открытом, динамичном и неистощимом присутствии этого образа»[188].
Современный французский философ Мари‑Жозе Мондзэн использует пространственный и географический язык в исследовании иконы, еще раз подтверждая родственность идей Клоз и Седаковой. Рассуждая о византийской иконе и ее влиянии на храмовое искусство в книге «Image, Icon, Economy», Мондзэн рассматривает икону как образ империи, который простирает себя в пространстве и времени[189]. В Византии «симфония властей» и обожествление императора означали, что распространение иконописи сопутствовало и помогало расширению централизованного государственного контроля. Так что создание и восприятие иконы зависели от представления о материальном воплощении божественной власти, равно как и от представления о том, что эстетические объекты могут олицетворять власть физически отсутствующего лица. Сам акт копирования икон (подражая прототипам или адаптируя их) представлял собой распространение божественной власти, обращение к ней и ее воплощение в локальных условиях. В этом смысле иконы передают сам постоянный процесс адаптации, а не фиксированный образ. Мондзэн пишет, что иконопись «стремится к “сходству” не иначе, как путем уподобления»[190].
|
|
|
Иконы, говорит Мондзэн, – это «векторы», указывающие за пределы самих себя, даже когда они представляют божественную (или имперскую) власть в отдаленном уголке мира. Они намекают на божественное сияние, но сами при этом воплощают отсутствие. В этом смысле акты подражания имеют апофатический характер: отказа, по крайней мере в интенции, от привычного и локального, возвышения «экономии» иконы над индивидуальными (или региональными, или национальными) «экономиями». Еще один апофатический отказ, реализуемый иконой, – это представление божественного центра смещающимся за пределы нашей способности восприятия. В подражательности иконы Мондзэн подчеркивает процесс, динамическое приближение, установку на адаптацию. Икона сподвигает нас на путешествие.
Понятийный аппарат, который использует Мондзэн, отчетливо перекликается с тем, как пишет Седакова, – не только об апофатике, но и об основах своего творческого ви дения. В эссе «Похвала поэзии» – поэтическом кредо Седаковой, по словам Стефани Сандлер, – поэт рассказывает об опыте, пережитом ею в пятнадцать лет, опыте, который изменил жизнь поэта, определив ее призвание[191]. Седакова вспоминает, как приехав с подругами на зимние каникулы в деревню под Угличем, они решили погадать на Рождество, но соседки‑старухи до того перепугали их своими историями, связанными с этим обрядом, что гадать они не решились: «Зеркало мы отвернули к стене. Я забилась на печь и коченела от страха. Тут‑то это явление и явилось. И тогда я не могла понять, в чем дело, и теперь, поэтому не могу изложить его внятно. Слуховые или зрительные галлюцинации, во всяком случае, тут не участвовали. Участвовало нечто внутри. Самым вразумительным образом это можно описать так: печь оказалась в центре мира, и центр этот куда‑то мчался или по сторонам его все мчалось»[192]. После этого случая Седакова почувствовала себя отчужденной от обычного порядка вещей – состояние, о котором она не без иронии рассказывает как об избранничестве в духе пушкинского конфликта «поэт и толпа». Далее Седакова пытается описать свой опыт другими словами, которые созвучны тому, что говорят Клоз и Мондзэн о воображаемом пространстве и иконе: «Это было что‑то из области геометрии, что ли, а не драмы в лицах, и всякий раз поводом для его появления оказывался геометрический, но одетый пространством образ: равнинной дороги, или круглой сквозь свою кубатуру комнаты, или вертикалей соснового парка. Будучи полной невеждой в математике, я не знаю, может ли быть векторная геометрия, то есть с направлениями и тяготениями. Та была векторной»[193].
|
|
|
|
|
|
Интересно, что эта «векторная» образность напоминает фрагмент поучения, которое Седакова цитирует в «The Light of Life», иллюстрируя русские учения о восприятии святости такой, как она изображается на иконах: «Только святые видят наш мир таким, каков он есть. И что же они видят? Они видят нашу Землю – весь наш мир – летящим к Богу. Летящим подобно птице, чей взгляд устремлен к одной точке, крылья расправлены»[194]. Видения Седаковой напоминают геометрические формы, которые описывает Эмили Гросхольц в этом сборнике. Однако мне хотелось бы сделать акцент на самом векторе – расширении, полете вперед, к постоянно удаляющейся точке.
|
|
|
Мы можем обнаружить подобную «векторную геометрию» и в русских патериках. Они служат нам еще одной отправной точкой не только потому, что это письменные тексты , но и потому, что Седакова переводила агиографические истории из книги «Луг духовный» («Лимонарь», XII век), переложения на старославянский сочинения Иоанна Мосха «Λειμωνάριον» («Pratum Spirituale», Синайский патерик), относящегося к концу VI – началу VII века[195]. Ее переводы распространялись в религиозном самиздате. Некоторые были опубликованы в 1981 и 1982 годах в эмигрантском «Вестнике русского христианского движения»[196]. Лаконичные истории «Луга духовного» рассказывают о святых, о тех, кто хочет достигнуть святости, или о тех, кто о ней не задумывается, но все равно достигает ее. В них говорится о монахах и монахинях, но истории эти стали популярным религиозным чтением мирян. Патерики предлагают модели – или динамические образы – святой жизни, уподобления Богу. В отчетливо апофатическом ключе они указывают на то, что путь уподобления – в том, чтобы отказаться от своих собственных путей, идей и усилий. Многие из этих историй описывают тех, кто не обязательно следует всем требованиям монашеской жизни, не обязательно достигает истинной веры тяжкими трудами и страданиями, не обязательно служит образцом для подражания своей религиозной общины. Тех, кто нередко уклоняется от признанных путей достижения святости или оступается на этих путях – именно потому, что не хочет идти известной дорогой. Патерики намекают на то, что мы уподобляемся Богу – и обнаруживаем свой глубинный образ – настолько, насколько мы готовы истратить в себе.
Эта тема проходит через истории, переведенные Седаковой. Одна из них особенно показательна в этом контексте. Приведу ее полностью:
Подражатель книгам
Рассказывал один монах.
Пришел к нам в монастырь один старец, и мы читали с ним слова святых отцов, а он любил это чтение и много читал, и часто. Из этих слов учился он истинной жизни. Вот мы дошли до такого рассказа.
К одному старцу пришли разбойники и говорят:
– Мы пришли забрать все, что здесь есть.
Он сказал:
– Берите, дети, все, что видите.
Они и взяли все и ушли, но не взяли один мешочек. Старец взял его, побежал за ними и кричит:
– Дети, возьмите и это! Вы забыли его в моей келье.
И чудно им стало беззлобие старца. Они отдали ему все, что взяли, и покаялись, и подумали в уме: вот воистину Божий человек.
И когда мы это прочли, старец сказал мне:
– Знаешь, авва, большая польза была мне от этого чтения.
Я спросил:
– Какая?
И он рассказал:
– Когда я жил на Иордане, я читал эту повесть и дивился старцу сему, и молил Бога: сподоби мя по стопам их ходити, иже мя сподоби приити в образ их.
И как только я этого пожелал, через два дня явились разбойники. Только они ударили в дверь, я понял: разбойники. И подумал: «Слава Богу. Вот и время исполнить желание». Открыл дверь, встретил их тихо, зажег свечу и говорю:
– Ничего от вас я не спрячу.
Они говорят:
– Есть у тебя золото?
Говорю:
– Есть, три золотых.
Достал и отдал им. Они взяли и ушли с миром.
– И что же, вернули они тебе все, как тому отцу?
Он говорит:
– Нет. Бог не привел. Не угодно Ему было, чтобы вернули.
(2: 86–87)
История эта, как следует из названия, о подражании. Подражание вплетено в ее нарративную структуру на нескольких уровнях: пришедший старец подражает старцам из святых книг, при том что монах, который рассказывает о старце, представляет его как образец для подражания. Эта структура подразумевает, что и мы, читатели, подобно старцу, пришедшему в монастырь, должны стать подражателями – монахов и книг.
Однако история эта показывает подражание как сложный феномен. Пришедший старец рассказывает о своем восхищении старцем из святой книги, о том, как молил Бога предоставить ему случай последовать примеру этого старца, и о том, как в ответ на молитвы Бог послал к нему воров, которым он охотно отдал все, что у него было. Иными словами, старец рассказывает незамысловатую историю о том, как он строго следовал образцу, найденному им в святой книге. Однако некто, слушающий его рассказ, неверно понимает природу его подражания и, следовательно, природу его сходства с избранным им образцом. Предпоследняя реплика не принадлежит какому‑то определенному персонажу: неназванный слушатель хочет знать, закончилась ли история старца так же, как история из святой книги – получил ли старец обратно то, что у него забрали воры. Старец отвечает отрицательно и совершенно спокойно: Бог не захотел этого. Этот неизвестно кем заданный вопрос, в котором, кажется, уже содержится предчувствуемый читателем ответ, заостряет наше внимание на элементе, явно упущенном в нарративе, а именно на результате. Мы сами могли бы с тем же успехом спросить: «И что же потом ?» Этот нарратив не оправдывает наших ожиданий, лишая нас развязки, и устанавливает важное различие: можно подражать для достижения определенных результатов, а можно – ради самого подражания.
Если вы подражаете ради подражания, ваше сходство оказывается в большей степени связано с усилием, с приближением к результату, чем с самим результатом. Сама структура этой истории предполагает что‑то вроде бесконечной серии подражаний и бесконечной рекурсии моделей. Мы обнаруживаем не одну, а целых четыре нарративные рамки: само вступление, история, рассказанная «одним монахом», история, которую старец рассказывает о своей жизни, и история из «слов святых отцов», которую пересказывает старец. Явное отсутствие результата в центральной истории и многоуровневый поиск святости делают сходство более похожим на путь, чем на пункт назначения. Эта структура напоминает и предложенное Мондзэн описание иконы как «вектора, всегда активного», и «векторную геометрию» Седаковой[197]. Однако она также напоминает то, что Седакова говорит об иконах в «The Light of Life»:
Парадоксальным образом икона, которая видима, дает нам ощущение, что мы смотрим на невидимое. Как это возможно? Можно предположить, что это получается потому, что фигуры, изображенные на ней, сами погружены в созерцание невидимого. Они показаны в состоянии молитвы. Созерцая их , мы следуем за созерцанием, которое в них : нечто такое, что не может быть увидено на иконе. Это изображение молитвы, которое рождает молитву (4: 692).
Словесные иконы Седаковой
Подобно историям из патерика, которые переводила Седакова, апофатикой отмечена сама поэтика Седаковой, вектор ее поэзии. Эта поэзия указывает за пределы самой себя – на прочную основу существования в постоянном изменении мира. И таким образом, подобно патерикам, ее поэзия моделирует непрерывное усвоение древних традиций, равно как и степень возможности их усвоения. В определенном смысле стихотворения Седаковой вырабатывают навык силы отрешения, чтобы и поэту, и его читателю открылась возможность встречи со своей подлинной идентичностью, своим бытием.
Говоря о стихотворениях Седаковой как о «словесных иконах», своего рода патерике, я имею в виду группу тех ее произведений, которые в апофатическом ключе моделируют способ существования в мире. У Седаковой много стихотворений, написанных на религиозные темы и являющих примеры апофатического подхода. Рассмотрим стихотворение «Легенда девятая».
Легенда девятая
Отпевание монахини
Как темная и золотая рама
неописуемого полотна,
где ночь одна, перевитая анаграмма,
огромным именем полна –
так было, и она лежала
с лицом свободных покрывал,
и в твердом золоте любовь изображала,
что каждый ей принадлежал.
Не понимая продолженья,
переменяясь на виду,
вдруг вырезанные из темноты и пенья,
мы знали, что она в саду.
Куда когда‑нибудь живое солнце входит,
там, сад сновидческий перебирая и даря,
она вниманье счастья переводит,
как луч ручного фонаря.
(1: 80)
В этом стихотворении успение монахини оборачивается для его свидетелей чередой видений. Последовательность строф обнаруживает свой вектор по мере того, как читатель становится свидетелем сцен, встроенных одна в другую. В первой строфе ночное небо метафорически сближается с живописным изображением – возможно, иконой, потому что «огромное имя» может подразумевать святое имя, написанное на иконе; или, принимая во внимание универсальность эстетических и культурологических взглядов Седаковой, религиозным полотном в барочной традиции[198]. В любом случае речь идет о произведении искусства. Вторая строфа ведет нас в глубину «золотой рамы», и мы видим усопшую монахиню, ее праведное лицо в золотых тонах, в сиянии любви. Третья показывает общину, которая окружает свою усопшую сестру, постепенно постигая «продолженье» – то, как, предводительствуя им, сестра переходит в иное пространство, в «сад», часто символизирующий у Седаковой жизнь за пределами физической смерти, а также творение, вернувшееся к своему истинному божественному образу. Последняя строфа развивает образ «продолжения», уводя нас за пределы сцены смерти, представляя ушедшую сестру как идеал, святую, икону или канал, который превращает свет божественной милости в смиренный, домашний свет «ручного фонаря». Так же как в патериках, свет внутреннего человеческого образа обнаруживается именно через утрату; в смерти своей возлюбленной сестры и ее явлении в вечном облике община – а вместе с ней и читатель – открывают путь в вечность.
Далее в центре моего внимания будет лишь один цикл Седаковой – «Китайское путешествие». На первый взгляд этот цикл никак не кажется особенно христианским. Один из исследователей описывает его представляющим мир с буддийской точки зрения[199]. Это описание, будучи достаточно точным, тем не менее ограничивает область культурных перекличек «Китайского путешествия». Взятый как целое, а также в контексте всего поэтического корпуса Седаковой этот цикл является воплощением апофатической эстетики, включая в себя и развивая те ее принципы, которые мы отметили в «Легенде девятой». Действительно, способность к адаптивному принятию перемены или утраты чаще всего ассоциируется с «восточной» (то есть восточноазиатской) философией. В Дао дэ цзин, китайском трактате IV–III веков до н. э., автором которого принято считать Лао‑цзы, говорится о духовном пути (дао), основанном на отказе от устойчивых категорий: «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя»[200]. В таком случае, только отрешаясь от устойчивых категорий, можно установить непосредственный контакт с высшей реальностью[201]. Эта связь с восточной философией, безусловно, показывает нам широту поэтического и культурологического аспектов творчества Седаковой: она задействует разные религиозные традиции, включая даже малоизвестные ответвления христианской мысли[202]. Более того, само использование «восточных» тем и образов (например, из поэзии Ли Бо[203]) эмблематизирует адаптивный импульс апофазиса и иконы – ассимиляцию мнимой периферии как основного образа.
Седакова написала «Китайское путешествие» в 1986 году, будучи уже признанным поэтом, при том что ее стихи еще ни разу не были опубликованы на родине. Китай – часть ее личной истории. Служба ее отца, военного инженера, привела его вместе с семьей в Китай, когда Седаковой было семь лет. Проведя незабываемый год в Пекине, где Седакова пошла в школу, они вернулись в Москву. В «Китайском путешествии» воображение поэта связывает Россию и Восток, соединяет Китай и Россию в одну «родину». Далекая от евразийства, Седакова превращает Китай в миф, периферию, которая становится искомым, взыскуемым центром вроде Петушков Венедикта Ерофеева. Подобно иконе, Китай служит образом постоянно удаляющегося видения цельности. Однако этот цикл совсем не травелог: это воображаемое путешествие, которое устремлено в некую мифическую запредельность – может быть, в смерть, может быть, в вечность, но, несомненно, в возможность встречи с переменой, которая может стать и твоей собственной. Китай как родина детства становится тем вечно недосягаемым пунктом назначения, который всегда находится за границей настоящего. Однако мелкие детали наблюдаемых автором форм повседневности открывают окна на то место, куда влечет поэта его воображение. В этом пейзаже деревья, вода, холмы и животные становятся для автора и читателя образцами более широкой, просторной жизни. Природа – тоже своего рода икона, предстающая поэту, – открывает тот же способ существования, который мы обнаруживаем в апофатической традиции.
В «Китайском путешествии» восемнадцать стихотворений и эпиграф из Лао‑цзы: «Если притупить его проницательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим» (1: 326). Словами этого китайского мудреца, жившего в VI веке до н. э., Седакова вводит нас в мир, где вещи умеют «казаться ясно существующим», то есть одновременно позволяют божественному свету сиять сквозь них и утверждают свое собственное существование. Этими же словами она представляет нам процесс достижения такой ясности. В том, как описаны «притупление» и «умерение», мы узнаем апофатический процесс. Каждое следующее стихотворение являет примеры действия этого процесса. Мы движемся среди сцен природы: лодка на реке, пруд и дерево, склонившееся над водой, гора, вершина которой скрыта облаками, путник на дороге, сапфирно‑голубое небо, изгибы крыши, океан, сияющая даль, – и через эти образы пространства звучит голос поэта, который озвучивает свои самые глубокие вопросы и впечатления, часто обращая их к своему неназванному спутнику. Первое и самое короткое стихотворение – всего девять строк – позволяет нам вместе с поэтом удивиться миру, который она видит.
1.
И меня удивило:
как спокойны воды,
как знакомо небо,
как медленно плывет джонка в каменных берегах.
Родина! вскрикнуло сердце при виде ивы:
такие ивы в Китае,
смывающие свой овал с великой охотой,
ибо только наша щедрость
встретит нас за гробом.
(1: 327)
В мире, куда мы входим вместе с поэтом, ивы не просто склоняются: как монахи в патериках, они «смывают свой овал», утрачивая себя до полного исчезновения; но именно этим трудом исчезновения они устанавливают основу своего существования. Мы, читатели, тоже проходим через своего рода апофатический процесс. Мы начинаем наше путешествие совсем не с того, чего могли бы ожидать. Первой строкой и ее предвосхищающим двоеточием («И меня удивило:…») говорящий настраивает нас на то, чтобы мы сами предались удивлению. Этот подход согласуется с ключевыми текстами христианской апофатической традиции, которая рассматривает «чистое удивление» как мощный инструмент описания[204]. И действительно, выдающийся византинист Сергей Аверинцев, современник Седаковой, видел в способности «изумления» одну из особенностей ее поэзии[205].
Разумеется, первая строка может быть прочитана как прелюдия ко всему циклу, знак вступления. Едва мы вместе с говорящим отдаемся удивлению, следующие строки с их анафорическим «как» добавляют впечатление за впечатлением, настойчиво направляя внимание как лирического я, так и наше собственное, куда‑то вовне. Мы следуем за простым и монотонным синтаксисом первой строфы, как будто перенастраивающей нас со зрения на прозрение; однако вторая строфа затрудняет наше движение. Для того чтобы добраться до мнимого трюизма последних строк – «Только наша щедрость встретит нас за гробом», – мы должны преодолеть сложное предложение, в котором многочисленные и разнообразные предметы – сердце, ивы, овал – раскрываются один внутри другого в непредсказуемой последовательности. Связь между впечатлением и прозрением остается ускользающей. Мы обнаруживаем, что наше «китайское» путешествие – это путешествие «за гробом», не просто в смерть, но в вечность, в нескончаемость бытия. Однако путь, ведущий от материальных форм в бесконечность, кажется скрытым, равно как и внутренняя логика говорящего. И начинается поиск.
Второе стихотворение развивает апофатический подход и влечет нас вперед в наших поисках своими отголосками странной «щедрости», упомянутой в первом стихотворении, – отдать все, высвобождаясь, кажется, даже от логики.
2.
Пруд говорит:
были бы у меня руки и голос,
как бы я любил тебя, как лелеял.
Люди, знаешь, жадны и всегда болеют
и рвут чужую одежду
себе на повязки.
Мне же ничего не нужно:
ведь нежность – это выздоровленье.
Положил бы я тебе руки на колени,
как комнатная зверушка,
и спускался сверху
голосом как небо.
(1: 328)
Пруд Седаковой, подобно иве, с первых же слов стирает свои очертания. Равно как и само это стихотворение. «Пруд говорит» только для того, чтобы сказать, что у него ничего нет и ему «ничего не нужно». Как может пруд говорить, не имея голоса? Как и в первом стихотворении, мы начинаем с очень простого синтаксиса (существительное, глагол в настоящем времени), а потом обнаруживаем себя внутри сложного условного предложения, которое ведет интонацию вверх и завершается восклицательным знаком. Простое высказывание о том, что есть («пруд говорит»), уступает словам о том, что могло бы быть («были бы у меня руки и голос»). В следующих трех строках пруд, не имеющий голоса, говорит (с нами?): «Люди, знаешь, жадны и всегда болеют…» Пруд говорит с людьми? Как же он может разговаривать без голоса? Как же он может разговаривать с нами, тоже, кажется, не имеющими голоса – только руки (или зубастые рты), которые «рвут чужую одежду»? В середине стихотворения мы снова сталкиваемся с трюизмом, предполагающим некую устойчивость смысла, ориентир, которого мы можем держаться: «Ведь нежность – это выздоровленье». Однако вводящее этот трюизм отрицание («Мне же ничего не нужно») снижает его описательный потенциал, и мы так и не узнаем, кто выздоравливает и что общего у выздоровления с состоянием, в котором «ничего не нужно». Заключительный образ тоже приводит в замешательство: как может пруд спуститься сверху? Как он связан с «небом»?
Одно становится наконец ясно: мы теперь представляем акт снисхождения, даже самоопустошения (кенозиса), кристаллизовавшийся в глаголе «спускаться». Притчевость стихотворения наряду с кенотическими образами и то, как оно деконструирует само себя по мере приближения к финалу, вовлекают нас, читателей, в исследование неких духовных ценностей[206]. Мы можем, таким образом, связать эту идею апофатической эстетики и апофатического способа чтения с центральным моментом дискуссии, идущей вокруг поэзии Седаковой, – тем, что трудность и простота этой поэзии ощущаются читателем одновременно (хотя впечатление трудности преобладает). В трудности поэзии Седаковой усматривают знак того, что поэт «видит и (или) слышит то, что недоступно взору и слуху других» – то есть указывает читателю на то, чего он сам достичь не может[207].
Некоторые стихотворения цикла говорят об апофатических ценностях в терминах христианского богословия, другие используют систему образов, общих для многих духовных традиций: лодки, реки, тропинки, звезды, странствия. Во всех стихотворениях, однако, обнаруживается свойство неуловимости, вовлекающей читателя в поиски образа или прозрения – поиски кенотических измерений. Поскольку формы и пейзажи меняются постоянно, движение никогда не прекращается. Шестое стихотворение явно рисует духовное странствие как путь паломника: «Только увижу / путника в одежде светлой, белой – / что нам делать, куда деваться? // <…> Только увижу / чтó бывает с человеком – / шла бы я за ним, плача». Однако даже те стихотворения, в которых путешественник никуда не идет, лодка не плывет вниз по течению, камень не тонет в глубине, даже стихотворения о пейзажах и деревьях никогда не стоят на месте.
Третье стихотворение говорит о деревьях как о дорогах, по которым путешествует сердце.
3.
Падая, не падают,
окунаются в воду и не мокнут
длинные рукава деревьев.
Деревья мои старые –
пагоды, дороги!
Сколько раз мы виделись,
а каждый раз, как первый,
задыхается, бегом бежит сердце
с совершенно пустой котомкой
по стволу, по холмам и оврагам веток
в длинные, в широкие глаза храмов,
к зеркалу в алтаре,
на зеленый пол.
Не довольно мы бродили,
чтобы наконец свернуть
на единственно милый,
никому не обидный,
не видный
путь?
Шапка‑невидимка,
одежда божества, одежда из глаз,
падая, не падает, окунается в воду и не мокнет.
Деревья, слово люблю только вам подходит.
(1: 329)
«Падая, не падают…» описывает дерево и, таким образом, некую статичную точку на горизонте, при том что в этом стихотворении нет никакой статики. Взгляд схватывает дерево в движении, бесконечном устремлении к воде. Дерево ловит взгляд, как делало уже «сколько раз». Взгляд бежит по «холмам и оврагам веток», как ласкающая рука, входит в его храмы и укромья. Дерево – это дорога, дорожная карта, по которой можно путешествовать бесконечно. Это путь к Богу, или Духу, или в то иное, место, которое представляет собой Китай. Своей одеждой божества, позволяющей дереву падать, не падая, окунаться в воду, не намокая, оно напоминает неопалимую купину, куст, который горел, но не сгорал и в котором Бог открыл Моисею свое имя: «Аз есмь Сущий», – имя сердцевины бытия. И еще дерево напоминает Богородицу, в православной литургии именуемую «Купиной Неопалимою», – человеческое существо, через которое бесконечный Бог явил себя в бренном теле[208] (одна из богородичных икон так и называется; рис. 1). Таким образом, созерцаемое дерево напоминает векторную геометрию иконы. В неподвижности скрыто движение, и движение это обладает внутренней силой самоупразднения. Даже графика стихотворения передает этот динамизм: строки стихотворения сначала тянутся вправо, а потом внезапно возвращаются снова. Стихотворение приводит в движение, а потом сдерживает силу, которая одновременно и жизнь, и смерть. «Не довольно мы бродили?» – спрашивает говорящий. Но даже смерть – это всего лишь поворот на другую дорогу, даже отрешение – действие. Стихотворение движется, не двигаясь, в том «трепещущем покое», который описывает Гросхольц.
Этот динамизм также заставляет вспомнить об идеях Мондзэн. Говоря о ключевых компонентах иконы, Мондзэн особо выделяет «эпиграф», надпись на иконе, именующую образ[209]. Как объясняет исследователь, «эпиграф» апеллирует к голосу, который свидетельствует об идентичности образа и его прототипа. Этот голос осуществляет присутствие божественного взгляда, который наделяет образ сиянием. Так голос заставляет образ светиться, устанавливая его связь с горячо любимым, но отсутствующим прототипом[210]. Мы видим дерево Седаковой тоже просиявшим от любящего взгляда, чей голос звучит в этих экстатических строках. Он направляет нас вдоль телесных контуров дерева в безграничность. Мондзэн пишет, что «изобразительная линия иконы, так же как чрево Девы Марии, это сосуд, переполненный существованием Слова в силу того взгляда, что смиренно избегает определения своих границ»[211]. Образ в этом стихотворении, как и во всем цикле, никогда не принимает окончательную форму. И в то же время его сущность мерцает: «Падая, не падают…» заканчивается удивительным отождествлением дерева с признанием, словом «люблю » и, следовательно, с намерением, стремлением, еще неотчетливым образом, просто сказанным словом, которое заставляет вспыхнуть преображающий взгляд. Это слово является объяснением в любви и обращено к божественному взгляду, превращающему картину в духовное искание. Александр Жолковский пишет о том, что любовь в этом цикле осмыслена как выживающая только благодаря огромному усилию, только благодаря сопротивлению «принципу распада»[212]. Эти вспышки кажутся чудесными призывами продолжать движение по трудному пути, и таким образом апофатический путь оказывается путем любви – в соответствии с воззрениями Евагрия Понтийского[213].

Рис. 1.
Апофатический путь для Седаковой – это также путь искусства. Жолковский находит в «Китайском путешествии» множество литературных перекличек, которые только усиливают герметизм цикла[214]. В «Китайском путешествии» Седакова создает произведение искусства о самом искусстве так, что вектор, относительно которого должен двигаться читатель, постоянно продолжается за пределы цикла. Цикл представляет собой серию пейзажей, однако по мере чтения все больше усиливается ощущение того, что говорящий видит эти пейзажи не в природе, а, к примеру, в книге старинных китайский гравюр. Такой метаэстетический подход может объяснить некоторые любопытные особенности первого стихотворения. Говорящий начинает с крика сердца в удивлении оттого, что узнает знакомый пейзаж: «Родина! вскрикнуло сердце при виде ивы: / такие ивы в Китае». Но на что же мы смотрим, если не на совершенно китайскую сценку с джонкой, медленно плывущей между каменистых берегов? Если бы мы захотели прочитать эти стихотворения как полуавтобиографические, можно было бы предположить, что говорящий случайно находит гравюру, которая вызывает у него в памяти время, проведенное в Китае («как знакомо небо»). Отдельное издание этого цикла (2001) подтверждает такую возможность: на обложке воспроизведена китайская гравюра – стебли бамбука и каллиграфическая надпись слева от них, бегущая сверху вниз[215] (рис. 2). Войдя в книгу через такую дверь, мы можем дальше воспринимать стихотворения как серию гравюр. Каждая ее страница помечена в нижнем внешнем углу светло‑серой эмблемой бамбуковых листьев, иногда заходящих под текст, как будто для того, чтобы укрепить связь между визуальным и вербальным (рис. 3). В контексте взаимопревращения или соединения текста и образа под кистью каллиграфа эти эмблемы могут отсылать нас к «эпиграфу» иконы, к надписи, призывающей голос и его взгляд, что превращает каждое стихотворение и каждую запечатленную в нем гравюру в икону, развивая идею адаптивности иконического вектора.

Рис. 2.
Подобно первому стихотворению цикла, восьмое также содержит образы, словно бы перенесенные в него из традиционной китайской гравюры. В первой строке мы видим издалека «крыши, поднятые по краям, / как удивленные брови»; а двигаясь дальше, замечаем «сухие берега, серебряные желтоватые реки, / кустов неровное письмо – любовная записка»; мы видим, как «двое прохожих низко / кланяются друг другу на понтонном мосту». Образы, собранные в этих строках, рассеивают всякое сомнение в том, что перед нами – далекий воображаемый пейзаж: ласточки, реки, прохожие, кланяющиеся друг другу. Когда Седакова говорит о кусте как о форме письма, это буквально: единственные «кусты», которые мы видим, – это каллиграфические линии художника. Мы воспринимаем «Китайское путешествие» через приемы и средства живописи и каллиграфии. Тем не менее это путешествие. И мы проходим никем не виданными местами. В последних строках восьмого стихотворения говорящий замечает: «Впрочем, в Китае никто не болеет: / небо умеет / вовремя ударить / длинной иглой». Китай, таким образом, просто означает иное место, некое не‑здесь; и в конце он тоже освобождается от своего собственного содержания, чтобы просто указать за предел, по ту сторону. Читая «в Китае никто не болеет», мы снова приходим туда, где уже бывали в начале цикла: «за гроб», «к зеркалу в алтаре». Так что речь идет не о Китае и не о китайских гравюрах, но о мирах, само путешествие в которые и по которым определяет нашу сущность, и это путешествие сквозь саму поэзию. В проблесках постоянно удаляющегося мира Седакова возрождает использование парадоксально утвердительной онтологии апофазиса как путешествия‑утраты, которое приводит к небывалой полноте посредством красоты и в силу желания сердца[216].
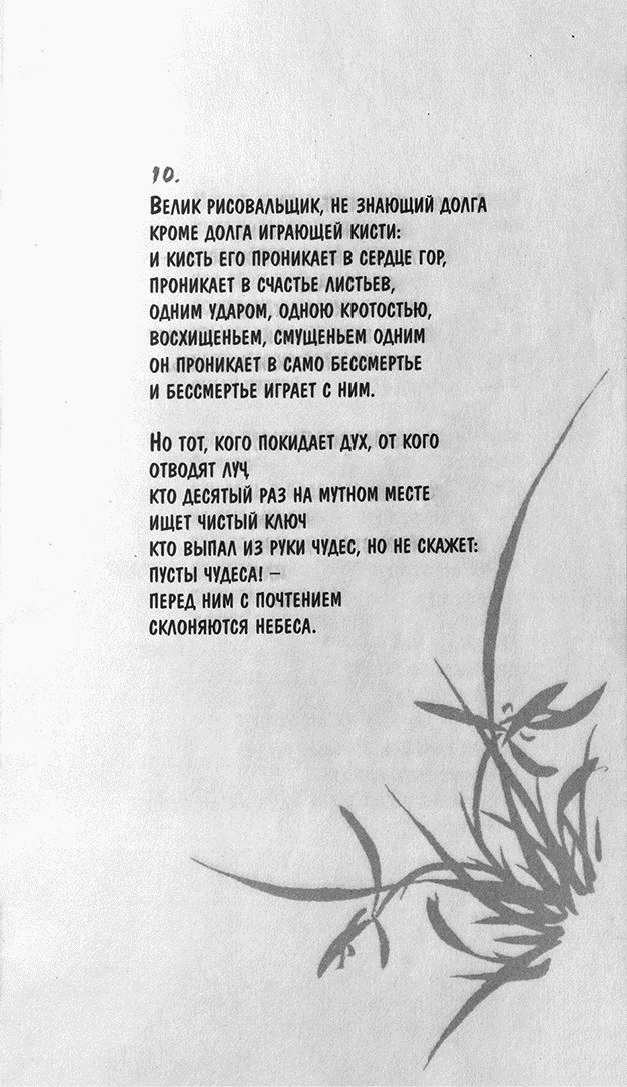
Рис. 3.
Девятое и десятое стихотворения продолжают эту бесконечную дугу созерцания, обращаясь к самому художнику, создающему все новые и новые формы. Эти стихотворения представляют творчество Седаковой как процесс и способ открытия, а не как производство законченных предметов искусства. В самом деле, творчество как таковое уступает здесь место чистому отказу и в итоге – своего рода апофатической практике без каких‑либо устойчивых средств выражения. Девятое стихотворение использует среди прочих образов образ художника, чтобы иллюстрировать максиму, прозвучавшую в первых строках: «Несчастен, / кто беседует с гостем и думает о завтрашнем деле». Следующие строки подхватывают эту тему взаимодействия с постоянными переменами мира и ответа этим переменам, созвучную даосизму. Художник появляется в центре стихотворения как тот, чью кисть направляют «воздух и луч». Художник, отвечающий переменам мира, появляется и в десятом стихотворении. «Велик рисовальщик, не знающий долга, / кроме долга играющей кисти», – читаем мы. Его кисть «проникает в само бессмертье – / и бессмертье играет с ним». Великий художник – тот, кто играет; а игра – это всегда взаимодействие. Действия художника всегда отвечают чему‑то вне его, чему‑то ему не подвластному. Отказываясь от этой власти, от этого контроля, Седакова распахивает окна на сердцевину вещей – даже на само бессмертие. «Экономия» бессмертия сияет сквозь ее творения, и они задают нашему взгляду вектор, указывая за свои пределы. Но указывают они на то, чего мы не можем видеть, на то, что отсутствует и своим отсутствием отрицает смерть. В таком поэтическом даре как бесконечном процессе мир утрачивает окончательность своих форм, чтобы адаптироваться ко всем переменам и выжить во все времена.
Однако удивительным и характерным для нее поворотом мысли Седакова лишает опоры и самого художника[217]:
Но тот, кого покидает дух, от кого
отводят луч,
кто десятый раз, на мутном месте
ищет чистый ключ,
кто выпал из руки чудес, но не скажет:
пусты чудеса! –
перед ним с почтением
склоняются небеса.
(1: 336)
Ведь художник продолжает показывать нам материальные и культурные формы – холмы, листья, добродетели, – постоянно сохраняя нашу связь с вещами мира, вещами, за которые мы можем уцепиться среди мгновенных перемен и постоянных исчезновений. Но и эти осязаемые формы тоже должны раствориться, если мы стремимся к истинному подобию, тому, что лежит за пределами реальности, к отрицанию смерти и, следовательно, к отрицанию наших конечных материальных форм. Только утратив дух, луч света, чистый ключ, нам удастся вступить на истинно апофатический путь – тот, на котором мы жертвуем даже иконическими указателями, на котором мы отказываемся от своей привычной идентичности и начинаем верить в то, что наша идентичность заключена в самом путешествии. Как пишет раннехристианский богослов Григорий Нисский, «всякое же тело, без сомнения, сложно: а сложное имеет состав из соединения разнородностей; и о составном никто не скажет, что оно не разлагаемо; а разлагаемое не может быть нетленным: потому что тление есть разложение составного»[218]. То есть все, что создано нами, может разрушиться, и потому может лишь указать на собственную созданность и на то, что не создано нами. Модель Седаковой подчинена опустошению вещного мира, включая ее саму, но все‑таки она «не скажет: / пусты чудеса!» Остаются лишь чудеса – феномены, возникающие из ничто. Только то, что создается ничем, – не пусто. Когда небеса склоняются перед тем, «кто не скажет: / пусты чудеса!», это не только знак их почтения, но коллапс всего космоса перед лицом такого уподобления неведомому. Сама вселенная расстается со своей формой и только таким образом выживает.
«Китайское путешествие» переносит нас через пейзажи и картины природы первой половины цикла в космические панорамы второй. Когда мы следуем дальше, наш вожатый прибегает к огромным величинам, чтобы подчеркнуть, что путь отказа пересекает все измерения. Люди уподобляются океанам (двенадцатое стихотворение); человеческие отношения сравниваются с притяжением «магнита звезды», влияющим на приливы (тринадцатое стихотворение); чаша желтого вина в руках Ли Бо – с луной; флейта – с горными расщелинами, сквозь которые дует ветер (четырнадцатое стихотворение); сердце, зажженное мольбами, – с ночным звездным небом (четырнадцатое стихотворение); человеческий голос, выводящий мелодию, – со спиралью Млечного Пути (пятнадцатое стихотворение). Это переключение масштабов, с одной стороны, предполагает значительность человеческого элемента, а с другой стороны подчеркивает его малость в соотношении с панорамой вселенной. Эти масштабные сравнения также приводят в действие механизм погружения в бездну, свойственный иконе, ее способность быть вектором, указывающим за пределы своих чисто эстетических форм. Взаимовключение этих феноменов разной величины напоминает нам «Легенду девятую» с ее усопшей монахиней, включенной в картину ночного неба, и садом, ставшим сновидческим для монашеской общины, – или патерик, который отсылает к одной модели для подражания, которая, в свою очередь, отсылает к другой.
Сравнения достигают кульминации в литании последнего, восемнадцатого стихотворения, которое начинается так:
Похвалим нашу землю,
похвалим луну на воде,
то, что ни с кем и со всеми,
что нигде и везде –
величиной с око ласточки,
с крошку сухого хлеба,
с лестницу на крыльях бабочки,
с лестницу, кинутую с неба.
(1: 345)
Даже когда говорящий восхваляет землю, он прозревает нечто иное за ее пределами, нечто прославившее себя в вещах мира – от узора на крыле бабочки до небесной высоты. И все‑таки, стирая различия масштабов, поэт сохраняет значимость каждой формы, силу, заключенную в ее единственности и способную притягивать наблюдателя к себе и увлекать его за свои пределы. Поэт воспевает бессонную жизнь мира: хрупкие отражения на воде, прорастающие в земле зерна – эмблемы изменчивости. Но также она воспевает в последних четырех строках то, что в мире постоянно, то, пределы чего не может обозначить ни одна форма, «что есть награда, / что есть преграда для зла, / что, как садовник у сада, – / у земли хвала». И, таким образом, «то, что ни с кем и со всеми, / что нигде и везде» – нечто, с чем мы соприкасаемся именно в конкретных, наблюдаемых формах: луне, крошках хлеба, глазах ласточки – и стихах. В конце мы восхваляем землю за то, что она вызывает эту хвалу в нас, ищущих себе иного, бесконечного пристанища. Исследователь Екатерина Кудрявцева описывает этот цикл как «коридор из зеркал, в котором ничто не исчезает бесследно» – и, следовательно, как призывание бессмертия[219].
Всеми этими словесными жестами Седакова подталкивает нас на путь к неведомому. Предпоследнее стихотворение рисует этот путь в первой строфе:
Когда мы решаемся ступить,
не зная, что нас ждет,
на вдохновенья пустой корабль,
на плохо связанный плот,
на чешуйчатое крыло, на лодку без гребцов,
воображая и самый лучший,
и худший из концов
и ничего не ища внутри:
там всему взамен
выбрасывают гадальные кости на книгу перемен.
(1: 343)
Но если она и посылает нас в неизведанные воды, то не просто так. Наши поиски, ведущие сквозь то и за пределы того, что мы видим, следуют по траектории желания сердца. И снова мы слышим отголоски Григория Нисского, который утверждает, что надежда всегда влечет душу «от видимой ею красоты <…> к красоте высшей, непрестанно приобретаемым всегда возжигая в ней вожделение сокровенного»[220]. В природе и искусстве мы чувствуем нечто, что увлекает нас в смерть и вечность одновременно, то, что заставляет нас утрачивать самих себя и закаляет нас. Мы чувствуем неведомое, «ничего внутри», но лишенное того, на что направлен апофазис. Мы успеваем увидеть другого. Поэтому самое космическое стихотворение в «Китайском путешествии» при этом самое межличностное; чем больше мы отдаляемся от себя, тем ближе мы к тому, чтобы заметить то, что находится вне нас. В тринадцатом стихотворении звучит изумление: «Неужели и мы, как все, / как все / расстанемся?» В четырнадцатом стихотворении сердце говорящего зажигается «мириадами просьб об одном и том же: / просыпайся, / погляди на меня, друг мой вдохновенный». В пятнадцатом он сетует: «Никто меня не ищет, никто не огорчится, / не попросит: останься со мною!» Шестнадцатое, наконец, наиболее отчетливо связывает апофатическую практику незнания – с любовью. Во второй его части мы читаем:
Ты знаешь, я так люблю тебя,
что от этого не отличу
вздох ветра, шум веток, жизнь дождя,
путь, похожий на свечу,
и что бормочет мрак чужой,
что ум, как спичка зажгло,
и даже бабочки сухой
несчастный стук в стекло.
(1: 342)
Любовь разжигает воображение говорящего, позволяя ему связать все самые разные вещи, – или, точнее, любовь удерживает его от того, чтобы полагаться на свои привычные формы знания. Или вслед за Жолковским можно сказать, что эта удивительная любовь преодолевает инерцию простоты, которая настойчиво действует на «необязательную причудливость»[221] поэтического воображения. В свете этих стихов приведенные выше сравнения в своей несоизмеримости говорят о любви, и прежде всего той любви, что уводит нас от самих себя к космическим масштабам ради утверждения нашего сокровенного бытия.
Как патерики свидетельствуют о возможности для человека уподобиться Богу, которого мы не можем видеть, так и стихотворения Седаковой отстаивают нашу способность вынести вид вечности во всей ее непостижимости. Одиннадцатое стихотворение рассказывает в первой строфе историю узнавания, которая напоминает нам видения святости из патериков:
С нежностью и глубиной –
ибо только нежность глубока,
только глубина обладает нежностью, –
в тысяче лиц я узнаю,
кто ее видел, на кого поглядела
из каменных вещей, как из стеклянных
нежная глубина и глубокая нежность.
(1: 337)
Седакова напоминает нам в этих строках о кенозисе, воплощением которого служит пруд из второго стихотворения, пруд, который признается: «Мне ничего не нужно: / ведь нежность – это выздоровленье». Для говорящего опыт нежности – «нежная глубина и глубокая нежность» – оставляет видимый след. Более того, нежность, как и глубина, видима. Ее видят люди, ее видят вещи из камня и стекла – и она видит их. На самом деле «Китайское путешествие» учит нас «видеть» глубину и нежность – не через то, что мы обычно видим, а через то, чем мы поступаемся. Мы поступаемся нашими обычными способами чтения и смотрения на вещи. Мы ищем путь, ведущий от впечатления к озарению. Мы в «десятый раз на мутном месте [ищем] чистый ключ». И чудеса происходят, мы видим мерцание на краю вечности, который удаляется от нас.
Помимо присущего Седаковой «изумления», Аверинцев видел в ее поэзии аскетический по своей природе импульс памятования о смерти[222]. В 1998 году в речи при вручении премии «Христианские корни Европы», учрежденной Ватиканом в память о Владимире Соловьеве, Седакова говорила о своей причастности к «новому христианскому искусству», течению в современной русской литературе, нашедшему свое выражение «в стихах Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака, Бродского… Для меня прежде всего – в Пушкине»[223]. В этом течении она усматривает «новый аскетизм», основанный не на плотском воздержании, а на «воздержании от омертвевшего и омертвляющего». Эти слова могут показаться противоречащими тому, что говорит Аверинцев о поэзии Седаковой, не говоря уже о ее явной сосредоточенности на теме смерти в «Китайском путешествии». Однако Седакова умеет различать смерть омертвляющую и смерть оживляющую. В работе «Вечная память. Литургическое богословие смерти» она настаивает на том, что человек жив тем, что «он изначально “образ славы”»[224]. То есть глубинная основа бытия личности, божественный образ продолжают существовать, пока человек помнит и прославляет этот образ. Для Седаковой памятование о смерти – выражение смерти в слове, придание ей формы – составляет победу жизни над смертью через «воздержание» от ее разрушительной силы. Этот новый аскетизм позволяет поэту, читателю, человеческому сердцу оставить старые пути, принять потерю и убрать износившиеся конструкции ради новых слов. Это может ощущаться как смерть, переход в ничто, но в этом останется место для одинокой надежды на выживание в постоянных переменах мира.
Одно из самых известных эссе Седаковой «Морализм искусства, или О зле посредственности» посвящено отношению искусства и эстетических форм к человеческой жизни[225]. Отвечая на распространенное представление об аморальности художника, она утверждает, что художника скорее следует воспринимать как аскета, того, кто впускает в себя жизнь во всей ее полноте, кто таким образом впускает в себя нечто «непредсказуемое, неуправляемое»[226]. Этот способ высказывания вполне соответствует постсоветским реалиям с их постоянной изменчивостью и ненадежностью. И тем не менее для Седаковой такие обстоятельства дают доступ к самой сердцевине жизни. «Моральный рецепт искусства, – пишет она, – <…> выражается не столько в словах, <…> но прежде всего – в самой форме произведения, в пороговости этой формы»[227]. Для Седаковой смертельнейшая опасность заключена в блаженной середине. Сила жизни увлекает нас на периферию, в Петушки, в Китай, в неведомое, по болезненной головокружительной кромке образа, где то, что мы знаем, исчезает, претворяясь в то, какими мы становимся.
Авторизованный перевод с английского Игоря Булатовского
Сара Пратт
Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 177; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
