Часть I. Функция экспрессивности и мир экспрессивности
Электронная версия книги: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://yanko.lib.ru/gum.html || Номера страниц - внизу update 20.09.18 ...не искать никакой науки кроме той, какую можно найти в себе самом или в громадной книге света... Рене Декарт Серия основана в 1997 г. В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Института научной информации по общественным наукам, Института всеобщей истории, Института философии Российской Академии наук «Die Herausgabe dieses Werkes wurde aus Mitteln von INTER NATIONES, Bonn gefördert» Издание этого сочинения было поддержано средствами INTER NATIONES, Бонн» Данное издание осуществлено при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия в рамках программы «Высшее образование»
Эрнст Кассирер
Философия
Символических
Форм
Ernst Cassirer
Philosophie der symbolischen Formen
Bd. III. Phänomenologie der Erkenntnis
Berlin, 1929
Феноменология познания
Том 3
Университетская книга Москва - Санкт-Петербург 2002
ББК 87.3
УДК 1/14 Редакционная коллегия серии:
К 28
Л.В. Скворцов (председатель), ВВ. Бычков, И.И.Блауберг
П.П. Гайденко, В.Д. Губин, Ю.Н.Давыдов, Г.И. Зверева, Л.Г. Ионин, Ю.А. Кимелев, ИВ. Кондаков, О.Ф.Кудрявцев, С.В. Лёзов. Н.Б. Маньковская В.Л. Махлин, Л.Т. Мильская, Л.А. Mocтова, Г.С. Померанц, A.M. Руткевич, И.М. Савельева, М.М. Скибицкий, П.В. Соснов, Г.М. Тавризян, А.Г. Трифонов, А.Л. Ястребицкая
|
|
|
Главный редактор и автор проекта «Книга света» С.Я. Левит
Редакционная коллегия тома:
Переводчик: CA. Ромашко
Ответственный редактор: Д.М. Носов
Художник: П.П. Ефремов
К 28
Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Том 3. Феноменология познания. М.; СПб.: Университетская книга, 2002. 398 с. — (Книга света)
ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света) ISBN5-94396-025-2
Э. Кассирер (1874-1945) - немецкий философ-неокантианец. Его главным трудом стала «Философия символических форм» (1923-1929). Это выдающееся философское произведение представляет собой ряд взаимосвязанных исторических и систематических исследований, посвященных языку, мифу, религии и научному познанию, которые продолжают и развивают основные идеи предшествующих работ Кассирера. Общим понятием для него становится уже не «познание», а «дух», отождествляемый с «духовной культурой» и «культурой» в целом в противоположность «природе». Средство, с помощью которого происходит всякое оформление духа, Кассирер находит в знаке, символе, или «символической форме». В «символической функции», полагает Кассирер, открывается сама сущность человеческого сознания — его способность существовать через синтез противоположностей.
Смысл исторического процесса Кассирер видит в «самоосвобождении человека», задачу же философии культуры — в выявлении инвариантных структур, остающихся неизменными в ходе исторического развития.
|
|
|
ISBN 5-94396-025-2
ББК 87.3
© С.Я. Левит, составление серии, 2002
© CA. Ромашко, перевод, 2002
© Университетская книга, 2002
Электронное оглавление
Электронное оглавление. 5
Предисловие. 6
Введение. 8
1. 8
2. 14
3. 17
4. 22
Примечания. 24
Часть I. Функция экспрессивности и мир экспрессивности. 25
Глава 1. Субъективность и объективный анализ. 25
Глава 2. Феномен экспрессии как основной момент перцептивного сознания. 30
Глава 3. Экспрессивная функция и проблема тела и души. 45
Примечания. 49
Часть II. Проблема репрезентации и строение мира созерцания. 51
Глава 1. Понятие и проблема репрезентации. 51
Глава 2. Вещь и свойство. 55
Глава 3. Пространство. 63
Глава 4. Созерцание времени. 71
Глава 5. Символическое запечатление. 82
Глава 6. К патологии символического сознания. 88
1. Проблема символа в истории учения об афазиях. 88
2. Изменение мира восприятия при афазии. 94
3. К патологии восприятия вещи. 99
4. Пространство, время и число. 102
5. Патологические нарушения действия. 109
Примечания. 116
Часть III. Функция значения и построение научного познания. 127
|
|
|
Глава 1. К теории понятия. 127
1. 127
2. 129
Глава 2. Понятие и предмет. 141
Глава 3. Язык и наука. Знак вещи и порядковый знак. 146
Глава 4. Предмет математики. 158
1. Формалистское и интуитивистское обоснование математики. 158
2. Построение теории множеств и «кризис оснований» математики. 161
3. Положение «знака» в теории математики. 166
4. «Идеальные элементы» и их значение для построения математики. 170
Глава 5. Основоположения естественнонаучного познания. 177
1. Эмпирические и конструктивные многообразия. 177
2. Принцип и метод физического рядообразования. 185
3. «Символ» и «схема» в современной физике. 194
Примечания. 207
Указатель имен. 217
Содержание. 220
Предисловие
Третий том «Философии символических форм» представляет собой возврат к тем исследованиям, с которых два десятилетия тому назад я начинал мою систематическую философскую работу. В центре внимания вновь оказывается проблема познания, строения и организации «теоретической картины мира». Но теперь вопрос об основной форме познания ставится в более широком и всеобщем смысле. В работе «Понятие субстанции и понятие функции» (1910) я исходил из того, что основоположения познания и его конститутивные законы самым ясным и отчетливым образом предстают там, где они достигают высшей ступени «необходимости» и «всеобщности». Поэтому поиски такого закона велись в области математики и математического естествознания, в обосновании математико-физикалистской «предметности». Определяемая таким образом форма познания по существу совпадала с формой точной науки. «Философия символических форм» выходит за рамки этой первоначальной постановки проблемы и по содержанию, и по методу. Показав, что не только в образовании научной картины мира, но уже в формировании «естественной картины мира» — картины мира восприятия и созерцания — имеют место подлинно теоретические моменты и формообразующие мотивы, она расширила тем самым основополагающее понятие «теории». Наконец, включив в себя мифологический мир, пусть не сводимый к законам эмпирического мышления, но все же никоим образом не лишенный законов, являющий собой структурную форму своеобразной и самостоятельной чеканки, она раздвигает границы «естественной» картины мира — картины опыта и наблюдения. Опираясь на то, что было нами получено в первом и втором томах этой работы, в третьем томе мы попробуем сделать систематические выводы. В этом томе мы стремимся выявить новое понятие «теории» во всей его широте и сокрытом в нем богатстве возможностей формообразования. Слой понятийного, «дискурсивного» познания теперь подпирается другими духовными слоями, обнаруженными при анализе языка и мифа; при постоянной оглядке на этот фундамент мы попытаемся определить своеобразие, членение и архитектонику опирающегося на него «здания» науки. Этим «философия символических форм» заново проблематизирует картину мира точных наук, но теперь она идет к ней другим путем и смотрит на нее в иной перспективе. Вместо того чтобы рассматри-
|
|
|
7
вать ее в наличном состоянии, она пытается уловить ее в необходимых для нее опосредованиях. От того относительного «конца», которого достигла вместе с наукой мысль, она возвращается к середине и к началу, чтобы, оглядываясь таким образом, постичь это завершение и его смысл.
Общая перспектива, обосновывающая такую постановку вопроса, подробнее изложена во Введении; здесь же мне остается коротко пояснить и обосновать заглавие, избранное для этого тома. Когда я говорю о «феноменологии познания», то присоединяюсь не к современному употреблению слова «феноменология», но возвращаюсь к исходному его значению, как оно было установлено и систематически обосновано Гегелем. Для Гегеля феноменология была фундаментальной предпосылкой философского познания, поскольку он ставил перед последним требование: охватить тотальность духовных форм, где сама эта тотальность постигалась не иначе как в переходе от одной формы к другой. Истина есть «целое», однако это целое не дано нам сразу, но должно постепенно развертываться в движении самой мысли и согласно ее собственному ритму. Именно это развитие составляет бытие и сущность науки. Начало мысли, «элемент» мысли, в котором существует и живет наука, получает свое завершение и прозрачность для самого себя лишь благодаря движению собственного становления.
«Наука, со своей стороны, требует от самосознания, чтобы оно поднялось в этот эфир — для того, чтобы оно могло жить и жило с наукой и в науке. Индивид, наоборот, имеет право требовать, чтобы наука подставила ему лестницу, по которой он мог бы добраться, по крайней мере, до этой точки зрения, чтобы наука показала ему эту точку зрения в нем самом. Его право зиждется на его абсолютной самостоятельности, которой он может располагать во всяком виде своего знания, ибо во всяком таком виде — признает ли его наука или нет, и при любом содержании — индивид есть абсолютная форма, т.е. непосредственная достоверность себя самого и, — если бы этому выражению было оказано предпочтение, — он есть тем самым безусловное бытие»1.
Яснее не скажешь — завершение, «телос» духа не уловить и не выразить, пока оно берется как нечто в себе замкнутое, отделенное и обособленное от начала и середины. Философская рефлексия именно поэтому не отрывает конец от середины и начала, но берет все три как интегрированные моменты единого и целостного движения. В этом основополагающем принципе «философия символических форм» совпадает с гегелевским подходом; но и в обосновании, и в проведении его в жизнь она должна идти другими путями. Она также хочет дать индивидууму «лестницу», что вела бы его от первоначальных образований, обнаруживаемых в мире «непосредственного» сознания, к миру «чистого познания». Ни одна из ступеней не будет излишней sub specie философского рассмотрения; каждая из них может и должна выдвигать свои притязания, которые нужно учитывать, оценивать, «осознавать», если мы хотим понять познание не только по его результатам, как простой продукт, но и как чистый процесс, по способу и форме его «Procedere».
1 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. Т. 4. М., 1959. С. 13.
8
Если коснуться того, как развивается эта тема, то третий раздел данного тома, где речь идет о строении математико-физикалистского предметного мира, примыкает к моим предшествующим исследованиям по этому поводу. Принцип, который в них направлял и определял способ анализа, целиком и полностью сохранен: познавательно-критический «примат» понятия закона по отношению к понятию вещи. Тем не менее эту мысль требовалось подкреплять, прояснять и подтверждать, соизмеряя ее с произошедшим за последние два десятилетия гигантским развитием математики и точных наук. Следовало показать, как, вопреки всем радикальным изменениям содержания и формы точных наук, не прервалась и не была отставлена чисто методическая непрерывность; более того, показать, что именно такие преобразования заново подкрепили и высветили эту непрерывность. Если я при изложении данного предмета мог опираться на прежние свои исследования2, то два первых раздела данного тома уже с самого начала поставили передо мной сложную задачу. Они не входили в ранее обозначенные и размеченные рамки, для них нужно было еще найти и определить собственную предметную область. В этих разделах речь идет в основном о формах восприятия — формах выразительности и предметности, т.е. о хорошо известных проблемах, к которым издавна подходили и со стороны психологии, и со стороны критической теории познания; эти проблемы издавна ставились феноменологией и метафизикой. Однако все эти вопросы получают новый облик и новое значение, стоит взглянуть на них в систематической связи с основным вопросом, проходящим сквозь всю «Философию символических форм». Тогда они входят в целостную перспективу, меняющую всю их интеллектуальную «ориентацию». Чтобы выявить духовный «синопсис» такого рода, мне нужно было обозреть во всем его многообразии и конкретной полноте материал феноменологии, психологии и, наконец, патологии восприятия, но с тем, чтобы именно по этому наличному материалу прояснить новую проблематику. Я прекрасно понимал, что это— лишь первая попытка и начало работы, и если я взялся за нее, то в надежде, что она будет вестись далее философами и представителями конкретных наук.
Как и в прежних моих работах, я не отделял здесь систематическое рассмотрение от исторического, но стремился проводить их в самой тесной взаимосвязи. Только такой постоянный взаимообмен может способствовать их обоюдостороннему прояснению и развитию. Однако я не мог стремиться к какой бы то ни было «полноте» исторического рассмотрения — это слишком раздвинуло бы рамки и объем данного труда. Я принимался за историческое рассмотрение и оставлял его по мере необходимости, заданной существом дела, — прояснением и систематической разработкой фундаментальных проблем. Точно так же я подходил к современной философии. Хотя я не избегал критического обсуждения и дискуссий там, где это помогало мне прояснить и углубить поставленные мною самим проблемы, такого рода дискуссии никогда не становились самоцелью. Первоначальный план этой книги предполагал специальный зак-
2 См. мою работу: Zur Einsteinischen Relativitätstheorie, Erkenntnistheoretische Betrachtungen. Berlin, 1921.
9
лючительный раздел, в котором я намеревался представить отношение «Философии символических форм» ко всей современной философии — с обстоятельным изложением и критическим обоснованием. В конечном счете я отказался от этого раздела, но это произошло лишь потому, что, по ходу доработки мне не захотелось еще более увеличивать этот том, отягощая его дискуссиями, лежащими все же в стороне от того пути, что был задан обсуждаемой в нем предметной проблематикой. Я не отказываюсь от дискуссии как таковой: мне никогда не казалось желанным и плодотворным вошедшее теперь у многих в моду изложение собственных мыслей как бы в пустое пространство, не задаваясь вопросом о связи своей работы с целым научной философии. Поэтому критическая часть, призванная завершать этот том, остается для одной из следующих публикаций (я надеюсь в скором времени издать ее под заглавием: «"Жизнь" и "Дух" — к критике философии современности»).
Что же касается философской и научной литературы, на которую опирается данная работа, то следует отметить, что рукопись этого тома была завершена уже к концу 1927 г.; издание откладывалось лишь потому, что тогда еще планировалось добавить последний «критический» раздел. Опубликованные за последние два года труды я мог учесть задним числом лишь в отдельных случаях.
Гамбург, июль 1929 г. Э. Кассирер
10
Введение
1
Когда мы обозначаем язык, миф, искусство как «символические формы», то этим выражением, кажется, уже предполагается, что все они, как духовные образования, восходят к какому-то первичному, глубинному слою действительности, просвечивающему сквозь них, словно через некую чуждую ему самому среду-медиум. Действительность тогда улавливается нами не иначе, как через своеобразие этих форм; но из этого следует, что действительность столь же скрывается этими формами, как и открывается ими. Те же самые основополагающие функции, что придают миру духа его определенность, четкость и специфику, оказываются вместе с тем многообразными преломлениями единого и единственного бытия, стоит ему быть уловленным и воспринятым «субъектом». С этой точки зрения, философия символических форм предстает как попытка найти для каждой из этих форм ее собственный коэффициент преломления. Она стремится к установлению особой природы различных преломляющих сред-медиумов; она желает понять организацию каждой из них согласно ее структурным законам. Но даже если она сознательно обращается к этому промежуточному царству — царству чистого опосредования, — то философия в целом, как учение о тотальности бытия, все же не может в нем оставаться. Вновь и вновь заявляет о себе фундаментальное стремление познающего духа: снять покровы с Саисского образа и увидеть перед собою обнаженную и неприкрытую истину. Взгляд философа, желающего уловить мир как абсолютное единство, должен проникать сквозь всякое многообразие, в том числе и многообразие символов; зримой должна стать последняя действительность, действительность самого бытия.
Метафизика всех времен вновь и вновь сталкивалась с этой фундаментальной проблемой. Она полагала бытие единым и простым, поскольку и насколько истину можно мыслить лишь единой и простой. В этом смысле  Гераклита было лозунгом философии: призы-
Гераклита было лозунгом философии: призы-
вом и побуждением искать за цветистой пестротой чувственно данного, за многообразием и разнообразием форм мышления непрестанный свет чистого познания. Как говорил Спиноза, к сущности света относится то, что он освещает и самого себя, и темноту, а потому истина и
11
действительность должны непосредственно сходиться друг с другом. Ибо мысль и действительность должны не просто в каком-то смысле «соответствовать», но должны пронизывать друг друга. Функция мышления не исчерпывается «выражением» бытия, т. е. схватыванием его и обозначением sub specie одной из придающих смысл категорий. Скорее, мысль стремится дорасти до действительности, она несет в себе веру в то, что ей по силам исчерпать содержание действительности. Здесь не должно быть и не может быть непреодолимых барьеров, ибо мысль и тот предмет, который она мыслит, суть одно. Когда Парменид первым высказал это суждение с классической четкостью и остротой, он стал основоположником всего философского «рационализма». Но выдвинутое здесь притязание никоим образом не ограничивалось кругом рационализма. Тождество «субъекта» и «объекта», переход одного в другой оставались целью познания даже там, где целиком изменилось представление о средствах достижения этой цели. Хотя меняются основные представления, это ничуть не означает того, что происходит принципиальное преобразование — задача наведения мостов между двумя царствами и способность их навести вверяются теперь не чистому мышлению, а чувственному восприятию. Центр тяжести смещается с одного теоретического построения на другое, от «понятия» к «восприятию», но для последнего остаются неизменными те же методические предпосылки и требования. Понятие как таковое, кажется, теперь уже не способно своими силами прорваться к действительности; оно вращается в кругу своих собственных порождений и образований, наименований и обозначений. Зато ощущение оказывается чем-то не просто символическим, не простым «знаком» бытия, но передает и содержит его в своей непосредственной полноте. Ведь в каком-то месте знание и действительность должны соприкасаться, если познание не осуждено навсегда оставаться в собственных стенах. Так, Беркли ставит на место парменидовского тождества бытия и мышления теоретико-познавательное и метафизическое равенство: esse = percipi. Содержание исходного уравнения по своему смыслу кажется превращенным в свою противоположность, но по своей чистой форме оно остается в неприкосновенности и не меняется. Вновь задействовано требование — найти тот первоначальный слой действительности, где сама она улавливается до всяких символических толкований и обозначений. Стоит нам освободиться от всех этих толкований, прежде всего от покрова слов, скрывающих истинную сущность вещей, и мы встанем лицом к лицу с перво-восприятиями, обнаруживая в них глубинную достоверность познания. В этой сфере уже нет места противоположности между истиной и заблуждением, действительностью и видимостью. Ведь наличные чувственные впечатления свободны от любой возможности обмана. Чувственное впечатление может наличествовать или не наличествовать, быть данным или не быть данным, но оно не может быть «истинным» или «ложным». К сфере подобных противоположностей мы приходим лишь вместе с переходом от непосредственного впечатления к опосредующему отношению, от прямого «обладания» в ощущении — к «репрезентации». Там, где содержание сознания уже не явлено само по себе, но замещает что-то другое, где оно стремится «представлять» нечто непосредственно не дан-
12
ное — лишь там возникает взаимосвязь между членами целостности сознания, что может иметь своим следствием ложное принятие одного из членов за другой, так, что мы можем их «перепутать». Этот феномен относится уже не к сфере простого ощущения, но к области суждения. А суждение, даже в своей простейшей форме, когда оно кажется лишь утверждением и подтверждением чувственно данного, отличается от последнего именно тем, что принадлежит уже не царству просто наличного бытия, но движется в мире знаков. Стоит нам ему довериться, и мы вновь обречены на то «абстрактное» мышление, которое вместо самих вещей оперирует представляющими их символами. Чем дальше заходит по этому пути «наука» о природе, тем больше она теряется в зарослях таких символов, а потому, полагает Беркли, основной задачей всякой истинной философской рефлексии является уничтожение этой иллюзии. Философия достигает того, на что никогда не способна сама наука, накрепко привязанная к повозке языковых понятий. Философия дает нам мир чистого опыта в его непосредственном наличии и так-бытии, свободном от всякой примеси чуждых элементов, от всякого затемнения и замутнения со стороны произвольных знаковых привнесений. Тем самым вся история философии в этом отношении держалась одного направления, вопреки всем внутренним противостояниям ее систем и всем спорам школ. Философия конституируется лишь в этом акте самоутверждения, акте веры в то, что сама она представляет собой истинный органон познания действительности. Предположение об adaequatio rei et intellectus остается в этом смысле ее естественным исходным пунктом. Но уже этот основополагающий акт содержит в себе свою собственную диалектическую противоположность. Чем точнее определяет философия свой предмет, тем проблематичнее он становится. Ставя перед собой цель и сознательно ее формулируя, она сразу задается вопросом о ее достижимости и внутренней «возможности» — вопросом, проистекающим из имманентной необходимости, присущей ее собственному методу. За положительным ответом рационализма и сенсуализма на вопрос о возможности познания действительности как тень следует скептицизм. Утверждаемое первыми тождество знания как такового и его объективного содержания заменяется на утверждение об их различии, становящемся все более отчетливым, пока, наконец, не дойдет до полярной противоположности. Само познавательное «уравнение», будь оно рационалистически или сенсуалистически сформулировано, не снимает различия, ибо равенство — по определению, введенному в математическую логику Больцано, — есть не что иное, как особый случай различия. Соединение, синтез, предполагаемые и высказываемые посредством знака равенства, не отменяют различия стоящих по обе его стороны членов, но даже подчеркивают их различие. С этой точки зрения, уже применение такого равенства в познании несет в себе зародыш собственного разрушения, который остается лишь развить и взрастить скептицизму. Чем сильнее рефлексия по поводу познания, тем отчетливее она видит и знает собственную форму, тем больше сама эта форма предстает как граница, необходимая и непревосходимая познанием. Абсолютный предмет, поначалу казавшийся воспринятым и уловленным в этой форме, отодвигается все дальше, в недостижимую
13
даль. Вместо того чтобы его улавливать, познанию позволено лишь глядеться в зеркало самого себя, видеть себя во всей своей обусловленности и относительности.
Только революция, совершенная кантовской постановкой вопроса, обещала дать выход из этой дилеммы. Устав от догматизма, который ничему нас не учит, и от скептицизма, который нам вообще ничего не обещает, Кант ставит критический фундаментальный вопрос: «Как возможна метафизика вообще?»1. Теперь познание спасено от опасности раствориться в скепсисе, но это его спасение и освобождение оказывается возможным лишь благодаря перемещению цели познания. На место статического отношения между познанием и предметом (его можно обозначить, используя геометрическое выражение «конгруэнтность», «покрытие» одним другого) становится динамическое отношение. Ни в целом, ни в какой-либо из своих частей познание уже не «охватывает» трансцендентный мир, а тот не позволяет в себя «проникать». Все эти пространственные образы теперь считаются именно образами. Знание не описывается ни как часть бытия, ни как его отражение. Тем не менее ничуть не убывает его соотнесенность с бытием, которая, скорее, получает обоснование с новой точки зрения. Функцией знания оказывается построение и конституирование предмета — уже не абсолютного, но обусловленного именно этой функцией — как «явленного предмета». То, что мы называем «объективным» бытием, предметом опыта, возможно лишь при наличии предпосылаемого ему рассудка и его априорных объединяющих функций. «Мы как бы говорим: мы познаем предмет, когда мы привносим в многообразие созерцания синтетическое единство». Понимание всего этого процесса в целом и по отдельности — такова теперь основная задача «аналитики рассудка». Она покажет, как проникают друг в друга основополагающие формы познания — чувственного ощущения и чистого созерцания, категорий чистого рассудка и идей чистого разума; как в их взаимосвязи и взаимодействии определяется теоретический образ действительности. Это определение не берется у предмета, но включает в себя «спонтанный» акт рассудка. К образу мира теоретического познания ведет особый способ его формирования. В основных своих чертах этот образ не «дан» нам, как законченный продукт, каким-то образом врученный нам природой вещей, но есть результат свободного формирования, которое тем не менее нигде не является произвольным, но целиком и полностью подчиняется законам. Как соединить свободу с необходимостью, чисто имманентное самоопределение мышления с объективной значимостью — этот вопрос составляет проблему всей кантовской критики разума.
Из всей этой обширной проблематики мы выберем лишь тот момент, что непосредственно соприкасается с основным вопросом, поставленным философией символических форм. Там, где докритическая метафизика полагала найденным последний ответ, там Кант обнаружил новую и, вероятно, труднейшую задачу всякого философского познания. Ему было важно не просто проследить то, как представлено в науке и в философии теоретическое смыслополагание, но также понятийно постичь его. Пока мы смотрим на это смыслополагание только по его итогам, пока мы приравниваем его к полученному результату, оно будет в известном смысле
14
исчезать в этом результате. Вместо того чтобы смотреть на продукт, нам нужно обратить взгляд на функцию теоретического познания и своеобразие его законов. Только эта функция представляет собой ключ, способный открыть нам «истину вещей». Исследование обращается отныне уже не исключительно на то, что им открывается, но и на акт, на сам способ открывания. Ключ, предназначенный для отпирания дверей познания, должен быть понят в его собственной организации, а теоретическое знание — в структуре его значения. Теперь уже нет пути назад к предполагаемому догматизмом отношению между знанием и его предметом как отношению «непосредственного» покрытия одного другим или их соответствия. Критическое оправдание и обоснование познания заключается, скорее, именно в том, что оно осознает себя опосредующим и опосредованным органоном духа, имеющим свое место и свои задачи в целостном строении мира духа.
Такое обращение познания на самого себя кажется возможным лишь тогда, когда оно измерило весь пройденный им путь и достигло высшей точки. Только «трансцендентальная философия» способна совершить такой поворот, ибо лишь она имеет дело не только с предметами, но и с нашим способом познания предметов вообще — в меру возможностей такого априорного познания. Только она стремится не просто к знанию определенных объектов, но желает быть «знанием о знании». Этим объясняется то, что Кант, достигнув высоты такого «трансцендентального» подхода, стремился постоянно на этой высоте оставаться. Там, где он спрашивает о «форме» теоретического познания, Кант полагает, что он способен адекватно уловить ее и дать ясное ее описание лишь потому, что ему виден истинный ΤΕΛΟΣ познания, его цель и его завершение. Только в соотношении с этой целью логическая структура знания предстает без случайных примесей, в своей необходимости и чистоте. Поиски смысла теоретического «логоса» где-либо помимо характерной для него завершенности, присущей ему определенности и точности казались ему поэтому понижением уровня философского исследования, который был с таким трудом достигнут. Подобная точность, чистое и совершенное самоосуществление теоретической формы были достигнуты, по Канту, математикой и математическим естествознанием. Поэтому исследование должно было обратиться прежде всего на них и на них оно должно постоянно ориентироваться. Все эмпирическое, пока оно не определяется посредством математической понятийной формы, чистыми созерцаниями пространства и времени, понятиями числа, экстенсивной и интенсивной величины, относятся тем самым не к форме познания, но остаются ее веществом, простой «материей». Не является ли такое обозначение материи чувственного опыта только относительным, не скрывает ли она в себе некие «конкретные» формации — эта проблема не ставилась, по крайней мере, в начале кантовского исследования. Ощущение выступает здесь как просто «данное», а вопрос заключается лишь в том, как эта данность может войти в априорные формы чувственности и рассудка, смысл и значимость которых не проистекают из ощущений и на них не опираются. Когда мы спрашиваем о «первоистоке» ощущений, то получаем поначалу загадочный ответ. Кажется, что этот первоисточник нельзя понять иначе, чем как нечто уходящее в непоз-
15
наваемое, объясняемое «аффицированием» нашей души со стороны «вещи в себе». Неразрешимые диалектические трудности, с которыми столкнулось такое объяснение, заявили о себе в истории кантовской философии и при развитии ее последователями Канта2. Эти трудности свидетельствуют о том, что Кант здесь не столько решал проблему, сколько от нее избавлялся. Чисто исторически такой обрыв обсуждения понятен и даже необходим: только так Кант мог освободить себе путь для всего того, что было им в дальнейшем достигнуто. Но после того как этот путь был единожды проложен, теоретическая рефлексия должна была вернуться к исходному пункту и вновь задаться вопросом о выходе из дуалистического противопоставления «простого» вещества и «чистой» формы.
Это движение мысли обнаруживается и прослеживается не только по послекантовским системам, но в значительной мере уже по внутреннему развитию самого учения Канта. Для того чтобы его увидеть, нам даже нет необходимости дожидаться «Критики способности суждения». Движение кантовской мысли ощутимо в том, как он вновь и вновь возвращается к первоначально выдвинутому дуализму вещества и формы, как им постепенно изменяется и углубляется смысл этого противопоставления. «Материя ощущений» поначалу означала для критической теории познания лишь нечто наличное, прочный субстрат, с которым работают формирующие силы духа, но который они не изменяют и в сущность которого они не способны проникнуть. Он сохраняется как непроницаемый остаток познания. Однако уже аналитика чистого рассудка делает здесь следующий шаг. Она включает в себя, помимо проблемы «объективной» дедукции категорий, проблему «субъективной» дедукции — оба эти направления дополняют и требуют друг друга. Первая применяется, в основном, к форме познания предмета в математическом естествознании, когда стремится установить аксиомы, через посредство которых «рапсодия» восприятий становится прочным единством, системой опытного познания. Субъективная дедукция обращена, скорее, к условиям и особенностям самого сознания восприятия. Ее результат состоит в том, что так называемый мир восприятий далек от того, чтобы быть бесформенной массой впечатлений, но уже включает в себя некие фундаментальные и первоначальные формы «синтеза». Без них, без синтезов аппрегензии, репродукции и рекогниции, у нас не было бы ни воспринимающего, ни мыслящего «Я», равно как не было бы и чисто мыслимого, и эмпирически воспринимаемого «предмета». В начале «Критики чистого разума» чувственность и рассудок различались как два ствола человеческого познания, растущие тем не менее из одного общего, но неизвестного нам корня. Здесь противоположность этих двух способностей (равно как и их общность) понимается, кажется, еще целиком в реалистическом смысле: чувственность и рассудок принадлежат различным слоям существования, хотя каким-то далее необъяснимым и неопределимым образом коренятся в первоначальном слое всякого бытия, предшествующего всем эмпирическим разделениям. Однако аналитика чистого рассудка рассматривает отношение между ними с абсолютно иной точки зрения и находит точку соединения чувственности и рассудка (как и точку их разделения) в совсем другом ме-
16
сте. Их единство обнаруживается теперь не в неведомом основании всех вещей, но в лоне самого познания. Если это единство вообще нам доступно, его нужно понять не столько в сущности абсолютного бытия, сколько в первоначальной функции теоретического знания. Обозначив эту функцию как «синтетическое единство апперцепции», Кант сделал ее тем самым высшей точкой, к которой прикрепляются всякое употребление рассудка, даже вся логика, а вслед за ней и трансцендентальная философия. Этот «высший пункт», этот фокус духовной деятельности является одним и тем же для всех духовных «способностей», а тем самым и для «рассудка», и для «чувственности». «Я мыслю», как выражение чистой апперцепции, должно сопровождать все мои представления: «Ведь если бы мне представилось нечто, что вообще нельзя помыслить, то это означало бы: такое представление либо невозможно, либо оно для меня не существует». Этим выдвигается всеобщее условие, значимое как для чувственного, так и для чисто интеллектуального представления. В трансцендентальной апперцепции обнаруживается «радикальная способность всякого нашего познания», с которой они равным образом соотносятся и в которой они неразрывно соединяются. Из этого следует, что невозможно изолированное «только чувственное» сознание, т. е. сознание, происходящее без определения со стороны всех теоретических функций значения и предшествующее им как некое самостоятельно данное. Трансцендентальное единство апперцепции никоим образом не ограничивается логикой научного мышления. Оно является условием именно такого мышления, условием полагания и определения его предмета, но оно также является условием «всякого возможного восприятия». Если восприятие вообще что-нибудь «означает», оно есть восприятие чего-нибудь и восприятие для «Я», а тем самым оно должно обладать определенной теоретической значимостью. Особой задачей критики познания становится теперь обнаружение именно тех черт, что задают форму сознания восприятия как таковую. Тем самым преодолевается схематичное противопоставление «суждения восприятия» и «суждения опыта», которое мы находим в «Пролегоменах» (не столько из-за логики системы, сколько из-за логики изложения). Соединение чувственных восприятий или представлений в одном сознании, как и его отнесенность к одному предмету, никогда не являются делом одной лишь чувственной рецептивности, но в основании данного соединения всегда лежит «акт спонтанности». Наряду со спонтанностью чистого рассудка, логико-научного мышления и конструирования, имеется также спонтанность чистого воображения. Оно также никоим образом не репродуктивно, но изначально продуктивно. Теперь прямой путь ведет нас от простого «аффицирования» чувств, лежавшего в истоке «Критики чистого разума», к формам чистого созерцания, к продуктивной способности воображения, а затем к тому единству действия, в котором выражается суждение чистого рассудка. Чувственность, созерцание и рассудок не являются простой последовательностью фаз познания, постигаемой как их следование друг за другом, но они соединяются вместе именно как конститутивные моменты познания.
Только теперь отношение «материи» и «формы» познания получает выражение, соответствующее новому воззрению Канта, его «коперников-
17
ской революции». Обе они уже не являются абсолютными потенциями бытия, но служат для обозначения определенных различий значения и структур значения. «Вещество» ощущения поначалу казалось теоретико-познавательным аналогом  Аристотеля. Подобно первоматерии последнего, оно рассматривалось как неопределенное до всякого определения, а вся определенность сообщалась ему формой, которая должна была прийти извне и отпечататься в этой материи. Ситуация меняется после того, как Кант полностью развивает идею своей «трансцендентальной топики», в рамках которой противоположности «вещества» и «формы» приписывается четко обозначенное место. Из первоопределений бытия, онтических сущностей, они становятся теперь чистыми рефлексивными понятиями, рассматриваемыми в разделе «Амфиболии понятий рефлексии» как согласие и оппозиция, наряду с тождеством и различием. Они уже не являются двумя полюсами бытия, противостоящими друг другу в неснимаемой реальной оппозиции, но являются членами методической оппозиции, выступающей одновременно в качестве методического коррелята. Отныне уже не будет внутренне противоречивым, но делается даже необходимым, что обозначаемое в одной перспективе как «материя» познания в другой признается чем-то оформленным или даже содержащим в себе форму. Методическая релятивизация этой противоположности имеет своим следствием то, что значение обоих противочленов изменяется в зависимости от системы координат. Применительно к проблеме восприятия это ведет к тому, что при отличении мира донаучного сознания от конструктивных определений научного познания мы можем рассматривать восприятие как относительно простое и «непосредственное». По отношению к этим конструктивным определениям оно может выступать как просто данное, как «пред-данность». Но это не лишает нас возможности и не снимает с нас обязанности признавать его чем-то целиком опосредованным и обусловленным в другом проблемном контексте. Это указывает лишь на то, что анализ теоретической «формы» познания не сводится к одному слою и в нем не помещается, но он всегда должен учитывать всю совокупность моментов, образующих познание. Ибо не только область научных, «абстрактных» понятий, но уже «обыденный» опыт пронизан теоретическими толкованиями и значениями. Желая обнаружить структуру предметного познания, трансцендентальная критика не должна ограничиваться интеллектуальной «сублимацией» опыта, надстройкой теоретической науки, но должна научиться понимать фундамент, мир «чувственного» восприятия, как специфически определенную и специфически расчлененную систему, как духовный космос sui generis.
Аристотеля. Подобно первоматерии последнего, оно рассматривалось как неопределенное до всякого определения, а вся определенность сообщалась ему формой, которая должна была прийти извне и отпечататься в этой материи. Ситуация меняется после того, как Кант полностью развивает идею своей «трансцендентальной топики», в рамках которой противоположности «вещества» и «формы» приписывается четко обозначенное место. Из первоопределений бытия, онтических сущностей, они становятся теперь чистыми рефлексивными понятиями, рассматриваемыми в разделе «Амфиболии понятий рефлексии» как согласие и оппозиция, наряду с тождеством и различием. Они уже не являются двумя полюсами бытия, противостоящими друг другу в неснимаемой реальной оппозиции, но являются членами методической оппозиции, выступающей одновременно в качестве методического коррелята. Отныне уже не будет внутренне противоречивым, но делается даже необходимым, что обозначаемое в одной перспективе как «материя» познания в другой признается чем-то оформленным или даже содержащим в себе форму. Методическая релятивизация этой противоположности имеет своим следствием то, что значение обоих противочленов изменяется в зависимости от системы координат. Применительно к проблеме восприятия это ведет к тому, что при отличении мира донаучного сознания от конструктивных определений научного познания мы можем рассматривать восприятие как относительно простое и «непосредственное». По отношению к этим конструктивным определениям оно может выступать как просто данное, как «пред-данность». Но это не лишает нас возможности и не снимает с нас обязанности признавать его чем-то целиком опосредованным и обусловленным в другом проблемном контексте. Это указывает лишь на то, что анализ теоретической «формы» познания не сводится к одному слою и в нем не помещается, но он всегда должен учитывать всю совокупность моментов, образующих познание. Ибо не только область научных, «абстрактных» понятий, но уже «обыденный» опыт пронизан теоретическими толкованиями и значениями. Желая обнаружить структуру предметного познания, трансцендентальная критика не должна ограничиваться интеллектуальной «сублимацией» опыта, надстройкой теоретической науки, но должна научиться понимать фундамент, мир «чувственного» восприятия, как специфически определенную и специфически расчлененную систему, как духовный космос sui generis.
Как мы видели, «Критика чистого разума» не упускает из внимания это требование; но обозначенный в ней столь четко круг проблем не был всесторонне развит, исходя из заложенных в ней предпосылок. Методическая задача, стоявшая перед «Критикой», с самого начала задала ей иное направление. «Субъективная» дедукция подчинена здесь «объективной»: анализ воспринимающего сознания служит подготовкой, аналогом и королларием решающего вопроса о предпосылках и принципах, на которых базируется научный опыт. Этот опыт возможен лишь вместе с необходимым соединением восприятий. Проблему составляет имен-
18
но возможность такого необходимого соединения. Смысловая структура, без которой было бы немыслимо и восприятие, рассматривается прежде всего как чистая структура закона. Эта структура предполагает, что отдельные восприятия не изолированы, что они должны образовывать не просто агрегат, но призваны связываться в системе мышления, в «контексте опыта». Вот как формулирует это Кант во втором «постулате эмпирического мышления вообще»: «То, что связывает с материальными условиями опыта (ощущения), является действительным». Однако эта связь создается в своих формальных особенностях, будучи определяемой общими законами рассудка, чьими разновидностями являются все частные законы природы. Один и тот же чисто интеллектуальный синтез обусловливает и делает возможными, по Канту, и эмпирическое созерцание, и объект математического естествознания; именно это тождество позволяет решить основной вопрос теории познания — о применимости чистых математических понятий к чувственным явлениям. Одно и то же действие дает единство и различным представлениям в логическом суждении, и простому синтезу различных представлений в созерцании. Это единство в общем виде называется чистыми понятиями рассудка. Категории, обосновывающие систему математико-физического познания, совпадают с категориями, лежащими в основе нашего «естественного понимания мира». Как кажется, нигде нельзя провести разделительную линию, нигде невозможен принципиальный разрыв — если бы таковой обнаружился, то лишилось бы корней все доказательство, на котором строится трансцендентальная дедукция категорий. Тогда уже нет ответа на вопрос о quid juris категорий, о праве на их применение к эмпирически-чувственным явлениям. Это право основывается на том, что всякий синтез — включая и тот, что делает возможным восприятие как объективное восприятие «чего-нибудь», — подчинен чистым понятиям рассудка. «Таким образом, если я, например, превращаю эмпирическое созерцание какого-нибудь дома в восприятие, схватывая многообразное [содержание] этого созерцания, то в основе у меня лежит необходимое единство пространства и внешнего чувственного созерцания вообще; я как бы рисую очертания дома сообразно этому синтетическому единству многообразного в пространстве. Но то же самое синтетическое единство, если отвлечься от формы пространства, находится в рассудке и представляет собой категорию синтеза однородного в созерцании вообще, т.е. категорию количества, с которой, следовательно, синтез схватывания, т.е. восприятие, должен всецело сообразовываться»3. В том же самом смысле рассудком определяется чистое «что» ощущения, его простое качество, а потому его можно в какой-то степени предугадывать: основоположение непрерывности, основоположение интенсивной величины подчиняют изменения этого качества определенным условиям и предписывают ему некую форму. Тем самым доказывается, что «синтез схватывания, имеющий эмпирический характер, необходимо должен сообразовываться с синтезом апперцепции, который имеет интеллектуальный характер и содержится в категории совершенно a priori»4. «...Если мы связываем с понятием треугольника представление о возможности такой вещи, то это именно потому, что пространство есть формальное априорное условие внеш-
19
него опыта и что образующий синтез, посредством которого мы строим в воображении треугольник, совершенно совпадает с тем синтезом, который мы осуществляем, схватывая явление, чтобы получить из него эмпирическое понятие»5. Соответственно мысль об изначально присущей миру восприятий интеллектуальной «форме» со всей силой повсюду проводится Кантом, но данная форма у него в основном совпадает с формой математического понятия. Эти две формы отличаются друг от друга по отчетливости, но не по сущности и не по структуре. Все теоретическое содержание и значение восприятия исчерпывается условиями математико-физического понятия предмета, понятиями числа и меры. Чтобы быть зафиксированным и сформулированным, восприятие должно пройти через эти всеобщие математические определения. На вопросы «что» и «как» можно получить точный ответ, когда их удается свести к вопросу «сколько». Все, что отличает одно восприятие от других, можно объективно и теоретически определить только с указанием его места в системе измерений на какой-то шкале величин. Критический анализ сознания восприятия и анализ базисной теоретической системы точных наук приходят к одному и тому же результату: в обоих случаях мы находим их фундамент в том же первоначальном слое интеллекта, в априорных понятиях.
Сколь бы необходимым и законным ни был этот результат в рамках кантовского подхода к проблеме, мы не можем на нем остановиться после того, как мы уже раздвинули эти рамки и попытались поставить тот же «трансцендентальный вопрос» в более широком смысле. Философия символических форм занята не исключительно и даже не в первую очередь чисто научными, точными способами понятийного постижения мира, но всеми направлениями миропонимания. Она стремится уловить последние во всем их многообразии, в совокупности и во внутренних различиях их проявления. При этом всякий раз оказывается, что понимание мира не есть его простое отображение, повторение данной системы действительности, но оно включает в себя свободную деятельность духа. Не существует истинного понимания мира, не опирающегося на какие-то фундаментальные законы, причем не только рассмотрения, но и уже духовного его формирования. Чтобы уловить законы такого формирования, нам следует прежде всего четко отличать друг от друга различные его измерения. Определенные понятия — числа, времени, пространства — образуют некие праформы синтеза, которые неизбежны, если мы вообще хотим соединять «многое» в «единое», различать и подразделять многообразное по каким-то образцам. Но такое разделение, как мы уже видели, не совершается одинаковым образом во всех областях; способ разделения зависит от особого структурного принципа, действующего и господствующего в каждой из этих областей. В особенности это касается языка и мифа с их специфическими «модальностями», придающими общую тональность всем их индивидуальным образованиям6. Вместе с этим видением «многомерности» духовного мира значительно усложняется ответ на вопрос об отношении «понятия» и «созерцания». Пока мы оставались в кругу чисто теоретико-познавательных вопросов, занимались исследованием предпосылок и значимости основополагающих понятий на-
20
уки, мы смотрели на чувственные созерцания и восприятия именно с точки зрения этих понятий и считали их предварительной ступенью на пути к понятиям. Созерцание и восприятие были тем зародышем, из которого должны были развиться теоретические формы науки; но при описании этого зародыша мы ненароком вкладывали в него те образования, что должны были впоследствии из него вырасти. Структура воспринимаемого и созерцаемого виделась sub specie одной цели — цели научной объективации, теоретического единства, полагаемого понятием «природы». Теперь в кажущейся «рецептивности» созерцания вновь обнаруживается спонтанность рассудка, в силу своих собственных законов являющегося условием чистого познания природы, законосообразности научного опыта и его предмета. Но сколь бы существенным ни было это направление к систематизации «опыта» и к универсальной системе познания природы, оно все же не является единственной смысловой интенцией, заложенной в созерцании. Ведь наряду с «формами мышления», в которых реализуется строго научное постижение мира феноменов, имеются формы иной чеканки, обладающие иной смысловой направленностью. Мы видели, как работают такие формы духовного созерцания в случае понятий мифа и языка. В сравнении с понятиями строгой науки понятия языка могут казаться пред-понятиями, предварительными образованиями мышления, тогда как понятия мифа могут вообще казаться псевдопонятиями. Это не препятствует пониманию того, что они наделены совершенно особенными характером и значением. Они также суть модусы духовного «зрения», они также дают жизнь потоку всякий раз схожих феноменов, образующих ряды и собирающихся в прочные формы. Язык живет в мире наименований, звуковых символов, с которыми соединяются определенные значения. Придавая единство и определенность этим наименованиям, язык как бы останавливает, дает относительную стабильность многообразию чувственных переживаний, схватываемых в этом потоке и удерживаемых языком. Имя является первым моментом постоянства и длительности, привносимым в многообразие; тождество имени есть предварительная ступень и антиципация тождества логического понятия. Иначе происходит формирование понятия в области мифа: возникающим здесь «объективным» миром, остающимся неизменным в бесконечном многообразии феноменов внешнего и внутреннего восприятия, является мир демонических и божественных сил, Пантеон живых и действующих существ. Однако в обоих случаях мы имеем дело с отношением, обнаруженным нами ранее при анализе теоретического познания. Как и там, нам и здесь трудно различать «вещество» и «форму» как два независимо существующих элемента, которые в дальнейшем мы можем пригнать друг к другу. Такое разделение не удается и при обращении к первоначальным слоям языка и мифа. Мы нигде не обнаруживаем «голого» ощущения, materia prima, способной в дальнейшем воспринять некую форму. Всякий раз мы улавливаем только конкретную определенность, живое многообразие мира восприятий, пронизанное какими-то модусами и формами и им подчиненное. Самый тщательный и точный анализ «первобытного мышления», лежащего в основе мифа, со всей ясностью недвусмыс-
21
ленно демонстрирует один и тот же результат: это примитивное мышление по-своему также соответствует восприятию. Мифологические образы не походят на пестрый покров, наброшенный на эмпирические представления о вещах, сокрытые этим покровом как прочное ядро опыта. Силу этим образованиям дает именно то, что они представляют собой способ созерцания и восприятия действительности, подчиненный иным условиям, чем тот модус постижения действительности, который, следуя эмпирическим законам, ведет к феномену «природы» как целого. Мифологическое восприятие ничего не знает о такой «природе», хотя ему нельзя отказать ни во внутренней логике, ни в связности пространственных и временных моментов, выражающих строго определенный мифологический «смысл». То же самое можно сказать о языке: односторонним и недостаточным было бы прослеживание только влияния языка на мышление, упускающее из виду его роль в организации мира восприятий. Сила языкового формирования заявляет о себе самым ясным образом не столько в организации и артикуляции мира понятий, сколько в самой феноменальной структуре восприятия. Гумбольдт «генетически» определял язык как вечно возобновляющуюся работу духа, делающую артикулированный звук выражением мысли. Но у него нет ни малейших сомнений в том, что эта работа мысли теснейшим образом связана с построением мира созерцания и представления. Тот же самый акт духа, которым человек ткет сеть языка, улавливает его самого в эту сеть; человек общается и живет с созерцаемыми предметами посредством языка7. Стоило нам принять такой взгляд, и мы тут же сталкиваемся с целым рядом непроясненных проблем — проблем формы, ничуть не менее важных для философии, чем проблема организации научного знания. Лишь целостный обзор этих проблем показывает нам имманентную динамику духа, выходящую за пределы каждой из «способностей» по отдельности. В этой динамике, в постоянном движении духа, как заметил Гёте, всякое зрение тут же оказывается созерцанием, всякое созерцание — полаганием смысла, всякое полагание смысла — синтезом, так что любой внимательный взгляд на мир является теоретизированием. В следующих ниже исследованиях мы будем пользоваться понятием «теория» во всей его широте, руководствуясь мыслью Гёте, высказанной в предисловии к его работе о цвете. Теория не может и не должна ограничиваться научным познанием мира, не говоря уж об одной логической вершине такого познания. Мы должны искать ее повсюду, где можем застать работу формирования, ведущую к образованию единства «смысла».
2
Философия относительно поздно подошла к тем формам, которые таят в себе миф и язык. Почему эти проблемы долгое время обходились стороной, почему философия замирала на их пороге, становится ясно, если учесть особенности философского понятия и исторические условия его возникновения. Философское понятие лишь там выступает во всей силе и чистоте, где оно покидает то видение мира, что находило свое выраже-
22
ние в понятиях языка и мифа, когда эти понятия принципиально преодолеваются. «Логика философии» конституируется именно этим актом преодоления. Чтобы достичь зрелости, философия должна вступить в спор с мирами языка и мифа, она должна им диалектически себя противопоставить. Только так философии удалось утвердиться со своими понятиями сущности и истины. Даже там, где, как у Платона, мифом еще мастерски пользуются в качестве выразительного средства, философия должна пребывать вне этой формы, возвышаться над нею. Чистый Логос должен четко и недвусмысленно от нее отличаться. Миф остается в мире становления, а тем самым — в мире видимости, тогда как истина сущего, 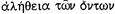 , постигается лишь чистым понятием. Философское познание должно сначала вырваться из тисков языка и мифа, оттолкнуться от этих свидетельств человеческой нужды, дабы подняться в чистый эфир мысли.
, постигается лишь чистым понятием. Философское познание должно сначала вырваться из тисков языка и мифа, оттолкнуться от этих свидетельств человеческой нужды, дабы подняться в чистый эфир мысли.
Сходным с чистой философией путем идет, чтобы понять присущие ему задачи, научное познание природы. Для того чтобы отделиться от языка и мифа, ему также нужно пройти через духовный разрыв, мыслительный krisis. Акт этого отделения был часом рождения философии, равно как исходным пунктом эмпирического исследования и математического измерения природы. В начальный период греческой философии эти две проблемы еще совпадали. Ионийские натурфилософы обозначались Аристотелем как первые «физиологи» — именно они открыли понятия «фюсис» и «логос». Даже там, где «логос» становится самостоятельным, когда пифагорейцы делают ero чисто числовым отношением, а тем самым отделяют от материи чувственного восприятия, «логос» по-прежнему привязан к «фюсис». Число есть основа и источник всякой истины, но истиной число располагает именно потому, что в нем она воплощена, что она проступает в самих чувственных вещах как их гармония, как их мера и порядок. Понятийная «сущность»,  и
и  θεια числа, дана не непосредственно, она должна как бы постепенно извлекаться — словно из некоего чуждого ей мира. Пифагорейское число, число математики и естествознания, открывается только после того, как постепенным движением мысли оно обособляется от мифологически-магического числа. Сходная с этой борьбой с мифологическими понятиями борьба происходила у научного познания природы с понятиями языка. Познание не могло довольствоваться теми подразделениями и соединениями, которые содержались в языке, но должно было заменить их различиями и единствами иного рода, иной интеллектуальной чеканки. Там, где язык удовлетворяется наименованиями, там оно ищет определения; языку достаточно многозначного имени, науке требуется однозначность понятия. С самого начала научного познания оно выдвигает эти требования и совершает тем самым резкий разрыв с картиной мира «обыденного опыта». Разделительная линия отделяет мир научных «предметов» не только от мира слов, но также от мира непосредственного восприятия. Чтобы войти в сферу таких предметов, чтобы постигать природу в ее объективном бытии и объективной определенности, мысль должна оставить позади не только область имен, но также область чувственного ощущения и созерцания. Одной из самых оригинальных и плодотворных черт греческого мышления — редко принима-
θεια числа, дана не непосредственно, она должна как бы постепенно извлекаться — словно из некоего чуждого ей мира. Пифагорейское число, число математики и естествознания, открывается только после того, как постепенным движением мысли оно обособляется от мифологически-магического числа. Сходная с этой борьбой с мифологическими понятиями борьба происходила у научного познания природы с понятиями языка. Познание не могло довольствоваться теми подразделениями и соединениями, которые содержались в языке, но должно было заменить их различиями и единствами иного рода, иной интеллектуальной чеканки. Там, где язык удовлетворяется наименованиями, там оно ищет определения; языку достаточно многозначного имени, науке требуется однозначность понятия. С самого начала научного познания оно выдвигает эти требования и совершает тем самым резкий разрыв с картиной мира «обыденного опыта». Разделительная линия отделяет мир научных «предметов» не только от мира слов, но также от мира непосредственного восприятия. Чтобы войти в сферу таких предметов, чтобы постигать природу в ее объективном бытии и объективной определенности, мысль должна оставить позади не только область имен, но также область чувственного ощущения и созерцания. Одной из самых оригинальных и плодотворных черт греческого мышления — редко принима-
23
емой во внимание и по достоинству оцениваемой — было то, что оба указанных свершения были достигнуты одним действием. Это стало возможным потому, что с помощью внешне парадоксального и даже странного уравнения чувственная действительность была истолкована как языковая действительность, как бытие имени. Там, где обыденный взгляд на мир видит самое надежное и прочное — не подлежащую сомнению реальность, там философское видение различает изменение и переход, непостоянство и произвол наименования. «Все есть имя, — говорится в поэме Парменида, — что смертные установили, полагаясь на то, что это истина: возникновение и исчезновение, бытие и небытие, перемена места и изменение блестящего цвета». Псевдологос языка отвергается здесь ради чистого мышления, подлинно философского логоса — эта борьба кладет начало научному понятию природы. Демокрит прямо следует за Парменидом: в бытии природы, в «фюсис», обнаруживается то, что Парменид относил к чисто мыслительному логическому бытию. Истина природы тоже не лежит прямо перед нашими глазами — ее нужно открыть, если нам удастся отделить мир вещей от мира слов, постоянное и необходимое от случайного и условного. К случайному и условному относятся не только обозначения языка, но и вся область чувственных ощущений. Только по «мнению» существуют сладкое и горькое, цвета и звуки; по истине же существуют только атомы и пустота. Это уравнивание чувственных качеств и знаков языка, сведение действительности этих качеств к действительности имен, не было частным и исторически случайным шагом в возникновении научного познания природы. Не случайно и то, что мы встречаемся с точно таким же уравниванием, когда научное понятие вновь открывается философией и наукой эпохи Возрождения и обосновывается, исходя из иных методических предпосылок. Теперь уже Галилей отличает «объективные» характеристики от «субъективных», «первичные» качества от «вторичных», низводя вторые до простых имен. Все приписываемые нами чувственным телам свойства, все запахи, вкусы и цвета суть лишь слова по поводу предмета нашей мысли. Эти слова обозначают не саму природу предмета, но только его воздействие на наш снабженный органами чувств организм. Имея дело с физическим бытием, мышление должно наделять его такими точными характеристиками, как величина, форма, число; его можно мыслить как единое и многое, большое и малое, наделенной фигурой и той или иной пространственной протяженностью. Но этому бытию не подходят такие характеристики, как красное или белое, горькое или сладкое, хорошо или дурно пахнущее — все эти наименования суть лишь знаки, которыми мы пользуемся для изменчивых состояний бытия, но которые являются внешними и случайными по отношению к самому бытию8.
Уже это методическое начало научного познания природы в каком-то смысле ясно показывает, каким будет его метод в конце — словно наука никогда не сможет пойти дальше этой цели или в ней усомниться. Ибо если она сделает это, пытаясь преодолеть полученное таким образом понятие объекта, то она, судя по всему, безнадежно погрузится в regressus in infinitum. За всяким истинным и объективным сущим тогда всплывает какое-то другое сущее, и в этом движении теряется
24
единство, служащее прочным «фундаментом» познания. По крайней мере для физика нет никакой нужды предаваться такому движению в бесконечную неопределенность. В какой-то точке ему требуются определенность и окончательность, и он находит их на твердой почве математики. Достигнув этого уровня в движении от мира знаков и кажимостей, он считает себя вправе остановиться. Современный физик также гонит от себя все «теоретико-познавательные» сомнения в окончательности своего понятия действительности. Он находит для действительного ясную и исчерпывающую дефиницию, когда он, вместе с Планком, определяет действительное как измеримое. Эта область измеримого существует сама по себе; она сама себя поддерживает и объясняется из себя самой. Объективность математического, прочный фундамент величины и числа не должны более расшатываться, размываться и подрываться рефлексией. Страхом перед подобным подрывом объясняется то, что естествознание сторонится пути «диалектического» мышления; естественным и соразмерным ему направлением мысли является путь от наблюдаемых явлений к принципам, а от последних — к математически выводимым из них следствиям, без дальнейшего обоснования и оправдания этих принципов. Там, где наука оставляет этот путь, она уже не может провести четкую разделительную линию между принципами и объектами. Как объективно значимые принципы выступают одновременно как в собственном смысле действительное. Наука с самого начала полагает свои определения не иначе, как вещественно воплощенными. В ней господствует методологический «материализм», никак не сводимый к одному лишь понятию материи, но касающийся и других основных физических понятий, прежде всего понятия «энергии». В истории естественнонаучного мышления вновь и вновь заявляет о себе эта тенденция — превращать функциональное в субстанциальное, относительное — в абсолютное, понятия измерения — в понятия вещей.
Однако теоретическое развитие физики последних десятилетий показывает, что и здесь начались перемены, проявляющие собой, вероятно, мотив, придающий современной физике ее методический облик. Пока в неприкосновенности сохранялась «классическая» система естествознания, система динамики Галилея и Ньютона, служащие ее фундаментом принципы казались базисными законами самой природы. Понятия пространства и времени, массы и силы, действия и противодействия, определенные Ньютоном, казались постоянной оснасткой любой физической реальности. Сегодня имманентное развитие естественнонаучного познания все больше лишает почвы это воззрение. На место единственной и жесткой системы природы приходят более открытые и подвижные системы. Глубокие изменения претерпело понятие субстанции, а физика материальных масс стала физикой поля. Все это критическое самоосмысление физического познания показывает, что оно вступило на новый путь. Стоит обратить внимание на то, что один и тот же мыслитель содержательно подготовил своими открытиями новую «электродинамическую картину мира» и был основоположником «революции способа мышления» в рамках физической теории. Генрих Герц был тем современным мыслителем, который в «Принципах механики» (1894) совершил решительный переход от «теории отражения» в
25
физическом познании к чистой «символической теории». Базисные понятия естествознания предстают теперь не как копии и отображения непосредственно данных вещей; они становятся конструктивными проектами физического мышления, теми проектами, чья теоретическая значимость определяется лишь одним условием — с необходимостью выводимые из них следствия должны совпадать с опытом наблюдения9. В этом смысле весь мир физических понятий можно определить как чистые «знаки», что и сделал Гельмгольц в своей теории познания. Если сравнить это с теоретико-познавательными основоположениями «классической» теории природы, то очевидной делается их противоположность. Когда Галилей называет чувственные качества «простыми знаками» (puri nomi), он тем самым отделяет их от объективной картины мира естественных наук. Они имеют характер конвенций, чего-то случайного и произвольного, противоречащего объективной необходимости природы. Познание должно преодолеть и отбросить все чисто знаковое, чтобы подойти к действительному, к подлинно реальному. Теперь разделительная линия между «субъективным» явлением и объективно-предметной действительностью проходит в новом месте и в ином плане. Теперь и ощущение, и математико-физическое понятие уже не притязают на то, что ими открывается бытие вещей в абсолютном смысле. Оба они имеют знаковый характер, они служат «индексами» действительности. Различие между ними состоит лишь в том, что эти указатели различны по своей ценности, по своим теоретическому значению и общезначимости. Тем самым понятие символа стало сердцевиной и фокусом всей физической теории познания. Это особо подчеркнул в своих исследованиях о предмете и структуре физики Дюгем. Для него понятие символа образует подлинную пограничную линию между просто эмпирией и строгой физической теорией. Эмпирическое познание довольствуется отдельными фактами, полученными чувственным наблюдением, их описанием и классификацией. Но ни одно такое описание конкретных чувственных данных не достигает простейшей формы физического понятия, не говоря уж о форме физического закона. Ибо законы никогда и нигде не были простыми обобщениями воспринимаемых фактов, в которых отдельные явления как бы располагаются на одной линии. Каждый закон, в сравнении с непосредственным восприятием, включает 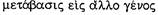 — переход к новой форме рассмотрения. Он осуществляет указанный переход, поставив на место конкретных данных наблюдения символические представления, призванные соответствовать этим данным на основе определенных теоретических предпосылок, принимаемых наблюдателем за истинное и значимое. Любое физическое суждение с необходимостью движется по этому кругу: оно никогда не является простой констатацией многообразия наблюдаемых единичных фактов, но в нем выражается отношение между абстрактными символическими понятиями. Значение этих понятий обнаруживается не в непосредственности ощущений, мы приходим к нему путем в высшей степени сложного процесса интеллектуального истолкования; именно этот процесс интерпретации составляет сущность физической теории. Между миром фактов и миром физических понятий всегда имеется зазор, hiatus. Нет никакого смысла говорить о
— переход к новой форме рассмотрения. Он осуществляет указанный переход, поставив на место конкретных данных наблюдения символические представления, призванные соответствовать этим данным на основе определенных теоретических предпосылок, принимаемых наблюдателем за истинное и значимое. Любое физическое суждение с необходимостью движется по этому кругу: оно никогда не является простой констатацией многообразия наблюдаемых единичных фактов, но в нем выражается отношение между абстрактными символическими понятиями. Значение этих понятий обнаруживается не в непосредственности ощущений, мы приходим к нему путем в высшей степени сложного процесса интеллектуального истолкования; именно этот процесс интерпретации составляет сущность физической теории. Между миром фактов и миром физических понятий всегда имеется зазор, hiatus. Нет никакого смысла говорить о
26
тождестве или сходстве содержаний этих двух миров. Скорее, мы имеем дело с несоизмеримостью доступного наблюдению «практического» факта и теоретического факта, т.е. формулы, с чьей помощью физик высказывает свое наблюдение. Между ними помещается вся та крайне сложная работа мысли, благодаря которой на место рассказа о конкретных процессах и событиях становится суждение, обладающее чисто абстрактным значением и вообще не формулируемое без применения определенных символов10. Конечно, это не означает того, что современная физика, в противоположность классической, оставила притязания на реальность физических понятий; но она иначе их определяет, она должна более сложным образом их передавать. Признание символического характера этих понятий не лишает их объективной значимости; скорее именно оно придает им эту значимость и дает им теоретическое обоснование. Здесь открывается множество новых проблем, решение которых мы пока отложим11 . Для нашего введения достаточно было поставить этот вопрос и показать его систематическое место в рамках целостности нашего исследования.
3
Тут может возникнуть возражение: этот анализ неизбежно упускает поставленную цель, поскольку она лежит в стороне от указанного нами пути. Когда мы задавали вопрос, способно ли мышление проникнуть сквозь слой чисто символического и знакового, чтобы за ним найти «непосредственную» действительность без покровов, то с самого начала было ясно, что эта цель не достижима на пути «внешнего» опыта. Познание мира вещей привязано к определенным теоретическим предпосылкам и условиям, а тем самым процесс объективации, прогрессивно осуществляемый в познании природы, всегда выступает как процесс логического опосредования. Это не подлежит серьезному сомнению, что бы ни утверждалось критическим анализом в области современной физики. Тогда еще более необходимым становится изменение направления исследования. Подлинно «непосредственное» мы должны искать не во внешних вещах, а в себе самих. Не природа как совокупность предметов в пространстве и времени, а наше собственное «Я»; не мир объектов, но мир нашего существования, переживаемая действительность подводит нас к порогу этой непосредственности. Поэтому мы должны не отдавать руководство внешнему опыту, но следовать за «внутренним» опытом, если мы хотим узреть саму действительность без всяких примешивающихся посредников. Поистине простое, последний элемент всякой действительности, никогда не обнаруживается в вещах; его можно найти лишь в нашем сознании. Разве анализ сознания не ведет нас к последнему и изначальному, не подлежащему дальнейшему разложению и в таковом не нуждающемуся? Разве в нем мы не находим ясное и несомненное первоначало всякой реальности?
Вместе с этим вопросом мы подходим к точке непосредственного соприкосновения метафизики и психологии, в которой они, по-видимому, едва различимы друг от друга. В истории философии процесс такого слияния отчетливее всего проступает у Беркли. Его «Трактат о принципах
27
человеческого знания» начинается с критики языка, затем расширяющейся до критики всего чисто понятийного, любого «абстрактного» мышления. Абстрагирование отвергается, поскольку чем больше мы ему предаемся, тем больше нам грозит заточение в круг одного лишь опосредованного. Поэтому абстрагирование никогда не станет органоном метафизики, ибо метафизическое познание хочет быть учением о непосредственном. Мы не достигаем его, пока заняты изучением природы, подведением ее явлений под законы, выражением самих этих законов на формальном языке математики. Скорее, мы придем к непосредственному, если отбросим магию понятийных формул и увидим мир внутреннего восприятия, как он дан нам до всех искусственных абстрактных построений. Чистый опыт, являющийся единственным источником и единственным ядром нашего познания действительности, следует искать в простоте первичных восприятий, незатронутых теоретическими умствованиями. Бытие перцепции есть единственная достоверная и целиком непроблематичная данность всякого познания. В сравнении с теорией познания, на которую опирается классическое естествознание, мы имеем здесь дело с полным переворотом, с переоценкой всех ценностей. Естествознание должно было свести ощущения к субъективной «видимости», даже к простым именам, чтобы утвердить реальность своих объектов. Здесь выдвинут противоположный тезис: вся реальность заключается в ощущениях, а простым именем стала материя. Именно естественнонаучное понятие материи служит для Беркли образцом слабости и ничтожности «абстрактного» образования понятий. «Материя» не дана ни в одном из единичных восприятий; ее нельзя ни увидеть, ни почувствовать; если мы вернемся к основному ее значению, то не останется ничего, кроме «общей идеи», каковая, подобно всем общим идеям, не обладает первообразом вещей, но сводится к общности наименования. В лучшем случае, понятие материи есть неопределенное и шаткое номинальное определение действительности, тогда как реальное определение можно найти только в области чувственного ощущения в его индивидуальном так-бытии со всем индивидуальным разнообразием. Критика языка вновь делается основой критики познания. Беркли различает двойную форму языка, чтобы показать специфику значимости нашего познания. Формой языка у него становится само восприятие, вся совокупность чувственных феноменов. Но в ней мы имеем дело не с конвенциональным языком слов и знаков; здесь мы стоим перед тем первоначальным языком, коим метафизическая первая сущность, Бог, говорит с человеком12. Схоластическая логика и послушно за ней последовавшая наука отвернулись от этого начала всякой истины и всякой действительности. Они заменили интуитивный язык чувств на дискурсивный язык общих понятий. Лишь сокрушив все ими построенное, мы вновь можем надеяться на то, что уловим и поймем бытие в изначальности и конкретности первых его элементов.
«Внутренний» опыт в учении Беркли призывается для борьбы с «внешним», психология — для борьбы с физикой. Эта борьба проходит сквозь всю его философию, что особенно заметно по решительной полемике с основоположениями ньютоновской математики и теории движения. В физике XIX в., если сравнить ее с этими основоположениями, произош-
28
ла любопытная смена фронта борьбы. Теория познания Беркли, содержащая в себе самую резкую полемику метафизики против математической физики, выдвигается теперь в область самой физики. Обоснование физики и ревизия ее принципов идут по пути именно этой теории познания. Логика предметного познания, развивавшаяся в теснейшей связи с классической системой физики и достигшая своей вершины в системе кантовской трансцендентальной философии, кажется, окончательно отдана во власть психологии, причем последняя строится строго сенсуалистически, как чистая «психология элементов». Этот поворот в теории познания XIX в. был осуществлен в работе «Анализ ощущений» Маха. Он выразительно показывает, что истинное методологическое основание его учения снимает все произвольные разделения, ранее разводившие по разные стороны «внутреннее» и «внешнее», психологию и физику. Он выдвинул учение о принципах, стремившееся уловить их в непосредственном единстве, что отменяло необходимость перестраивать весь наш понятийный аппарат при переходе из одной области в другую. Он нашел это целостное единство в том, что — при всем кажущемся различии по форме — миры физического и психического тем не менее сотканы из одного и того же материала. Стоит нам к нему вернуться, стоит довести анализ до конца, до последних элементов, и сразу же отпадает искусственная разделительная стена, построенная нами между «внутренним» и «внешним». Вместе с возвращением к изначальному слою чувственного ощущения и его чистому существованию мы оставляем позади все опосредованное, а тем самым всю двусмысленность и многосмысленность значений, с чьей помощью абстрактный язык понятий воспринимает бытие. Перед лицом цвета и звука, вкуса и запаха вопрос об их принадлежности внутренней или внешней действительности утрачивает всякий смысл и всякое оправдание. Состояние, в котором укоренено всякое существование, не может мыслиться принадлежащим к одному роду сущего, в одиночку в себе все содержащему. Так с чисто позитивистской точки зрения решаются все задачи метафизики: притязания метафизического толкования и объяснения мира уступают место чистому его описанию. Для Маха, как физика, психолога и теоретика познания, нет сомнений в том, что такое описание достигает своей цели, когда на место физических или психических «предметов» ставятся чистые комплексы элементов в их более или менее прочной увязанности. Однако дальнейшее развитие как физики, так и психологии никоим образом не подкрепляло эту убежденность. В физике достаточно вспомнить о решительном сопротивлении теории познания Маха ученых уровня Планка, видевшего в этой теории не столько обоснование, сколько полное уничтожение подлинно физического понятия предмета. Пожалуй, еще резче и отчетливее обозначился отход от маховского учения об элементах в результате развития психологии. Пока мы воздержимся от рассмотрения этого развития, но зададим учению Маха всего один вопрос, возникающий всякий раз, когда «материю» познания хотят определить как существующую вне и независимо от любой формы. Если любой факт, включая в том числе и, — вспомним слова Гёте, — простейшее ощущение, признается наивысшим, то все фактическое уже есть теория. Даже первое применение учения Маха возможно лишь при условии, что мы принимаем
29
фундаментальную его предпосылку, а именно, что содержание психических образований связано с простейшими элементами и целиком из них выводимо. Стоит нам поинтересоваться происхождением и обоснованием этой предпосылки Маха, и мы с удивлением обнаруживаем, что сама она никак не выводится из непосредственного психологического опыта, но следует из того, как Мах понимает ценность и смысл научного метода. Несомненно то, что опыт психических образований никоим образом не является суммой элементарных ощущений, но предстает в качестве опыта неразложимых целостностей, понимаем ли мы их как «сложные качества» или как «гештальты». Отчасти это признавал и сам Мах, по крайней мере с тех пор, как понятие и проблема «гештальта» вошли в новую психологию. Но он продолжал держаться того, что без возврата к элементам, первоначальным данным чувственного переживания, нет знания о психическом. Ведь любое знание заключается не в простом обладании целостным, но в его построении из относительно простых составляющих; знание конституируется в процессе анализа и синтеза, разделения и нового соединения. Если посмотреть на источник этих воззрений Маха, то мы видим, что тут говорит не столько психолог-эмпирик, сколько физик — здесь мы явно имеем дело с классическим учением Галилея о «композитивном» и «резолютивном» методах как двух необходимых моментах всякого познания. Но в области психологии Мах не подверг эту предпосылку столь же резкой критике, какую он требовал для нее в области физики. Он лишает элементы физики всякого права на то, чтобы считаться выражением непосредственной действительности. Они выступают у него даже как вспомогательные понятия, как продукты «экономии мысли», которые неизбежны при описании природных процессов, но которые не должны считаться данными нам содержаниями самой природы. Но при всем скепсисе по поводу реальности атомов, Мах сохраняет веру в реальность психических элементов. Здесь очевидна ограниченность и даже парадоксальность его теоретико-познавательного подхода. Ведь следовало бы предположить, что «простота» ощущения должна трактоваться сходно с «простотой» атома; более того, понятия, призванные описывать непосредственную действительность переживания, нужно применять с еще большей осторожностью, чем понятия, представляющие физический мир вещей. Но у Маха происходит обратное: он неустанно сражается с гипостазированием понятия атома и заходит в указанной борьбе так далеко, что нередко недооценивает ценность этого понятия и его выдающееся значение для любой «объективной» науки о природе. Однако гипостазированию понятия ощущения Мах нигде всерьез не возражает, хотя очевидно, что в рамках чистого опыта, в среде самих психических процессов, простое ощущение вообще не встречается как нечто реальное. Понятие простого ощущения также нет нужды лишать всякой теоретической ценности (как это делают многие современные психологи); но очевидно то, что это понятие является выражением не факта, но теоретического предположения. Оно никак не представляет собой чего-то непосредственно данного, но задается на основании уже имеющихся ранее и вполне определенных конструктивных понятий. Когда новейшая психология обрушилась с резкой критикой на эти наличные понятия, она отнесла
30
предполагаемую фактичность чувственных элементов к теоретическим предрассудкам. «Непосредственное» в ощущении «простой» материи вновь оказалось внутренне противоречивым: целостность психических образований не разлагается таким образом, что наряду с целостной формой и помимо нее оказывается еще и аморфное нечто — ее субстрат. Если бы нам удалось выделить такой субстрат, то самый акт данного выделения, такой его изоляции имел бы значение только как момент расчлененного чувственного мира; утрата этого значения означала бы утрату самой «психической» реальности.
Сколь мало «позитивистская» теория познания является «позитивной» в выражении своеобразия «психического», видно и еще в одном пункте. Мах нисколько не сомневается ни в фактичности самих простых ощущений, ни в том, что в элементарном содержании сознания можно четко разграничить сенсорные области. Это разграничение причисляется им к непосредственному содержанию «естественного понятия мира». Поскольку мир дан нам в непосредственных ощущениях, то он в самой этой данности распадается для нас на многообразие чувственных впечатлений. Помимо того что этот мир есть «что», этот мир есть еще и «как» — он несомненно дан нам в цветах и звуках, вкусах и запахах, в ощущениях тепла, напряжении мускулов и т.д. Но в действительности феномен восприятия, если брать его в изначальной чистоте и непосредственности, не дает нам такого разложения. Восприятие дано нам как неразличенное целое, как целостное переживание, которое, конечно, каким-то образом дифференцировано, однако это расчленение никак не содержит в себе обособленных чувственных элементов. Такое разграничение происходит лишь тогда, когда восприятие предстает уже не в своем простом содержании, но рассматривается с определенной интеллектуальной точки зрения и соответствующим образом оценивается. Только там, где мы спрашиваем не «что», а «почему», нам нужно различать в нем относительно независимые сенсорные области. Такое подразделение принадлежит не простому «сырому материалу» перцептивного сознания, но уже включает в себя момент рефлексии, каузального анализа. Когда мы смотрим на восприятие с точки зрения его происхождения, условий его возникновения, то оно разлагается — в зависимости от разнообразия этих условий — на различные сферы. Тогда каждому особому органу восприятия приписывается самостоятельный мир воспринимаемых содержаний. Глазу принадлежит мир цветов, уху — мир звуков, осязанию — мир гладкого и шероховатого, холодного и теплого и т.д. Нас не должно обманывать то, что этот анализ начинается не с момента возникновения науки в строгом смысле слова, но принадлежит еще донаучной картине мира — это не отменяет теоретического характера этой картины. Не только предметный мир физики, но уже мир вещей донаучного опыта пронизан рефлексией, прежде всего мотивами каузального истолкования феноменов. Уже здесь происходит едва заметное преобразование, ставящее генетическую перспективу на место чисто феноменальной: реальное или предполагаемое различие по источнику прямо входит в структуру восприятия. Эмпирическое различие условий возникновения восприятий рассматривается как их «естественный», даже как единственный, принцип их классификации. Фи-
31
лософская критика, которая не может просто принять «естественную картину мира», но задающая вопрос об «условиях ее возможности», имеет все основания усомниться в этом принципе или, по крайней мере, в его уникальности и самоочевидности. Это сомнение не означает того, что критика оспаривает значимость этой картины; скорее, она признает ее не абсолютной, а специфической и относительной, не просто передающей содержание действительности, но выступающей как определенное ее истолкование. Позитивизм и в данном случае недооценивает чистую энергию, активность и спонтанность формы, поскольку для него различие по форме оказывается различием по содержанию, то есть различием состояний и материалов эмпирически данного. Но чем с большей силой выдвигается требование чистого описания, тем сильнее и необходимость четко различать сферы «описания» и «объяснения». Дескрипция преднайденного должна исключать всякую тенденцию каузального объяснения мира; объяснение должно обосновываться и «дедуцироваться» из описания. Резкое разделение «данного» и «мыслимого» со времен Юма является результатом и требованием эмпиризма. Юм показал, что «идея» причинности не содержится в самих чувственных впечатлениях, но привносится каким-то опосредующим выводом. Однако позитивистская теория познания нередко забывает о том, что данный результат можно использовать и в противоположном направлении: к представлению чисто фактического перцептивного сознания не должно примешиваться ничего из того, что имеет своим последним источником каузальное мышление. Смешение дескриптивных и генетических точек зрения означает в таком случае преступление против духа самого эмпирического метода. Но такое смешение неизбежно там, где к феноменологии восприятия добавляют факты из области физиологии органов чувств, да еще делают их подлинным способом подразделения восприятий, их fundamentum divisionis. He избежало этой участи и учение об элементах Маха, а потому оно приобрело совсем иной методический характер, чем это казалось по первым его наброскам. Первоначальным намерением было своего рода разрыхление предмета объективирующей науки, в особенности понятия «материи». Материя уже не должна была считаться каким-то субстанциальным нечто, но пониматься как комплекс простых чувственных впечатлений и определяться как простая их совокупность. Догматический «материализм» физиков должен был корректироваться со стороны психологии и преодолеваться с ее помощью. Так, на место физически «простого» должно было стать психически «простое», на место атомов — ощущения. Но при более строгом анализе такое первенство психического по отношению к физическому, сознания по отношению к бытию оказалось лишь видимостью превосходства. Решающим является не то, как мы обозначаем содержание, материал, из которого соткана действительность, называйся она «материей» или «ощущением». Существенно то, в каком направлении движется целостная интерпретация действительности, как понимается ее «форма», какие категории предполагаются первыми и последними в таком толковании. И тут оказывается, что категориальная оснастка теории познания Маха, при всех частных модификациях, есть не что иное, как аппарат объективного и объективирующего естествознания. Мах
32
хотел найти общее основание предметов психологии и физики. Обе они должны были рассматриваться не по отдельности, но выводиться из одного и того же корня. На этом пути должно было осуществляться живое взаимодействие «внутреннего» и «внешнего» опыта, оплодотворение физики психологией. В действительности при первом же применении маховской психологии, сразу же стало заметно, почему эта цель оказалась недостижимой. Именно в своей концепции простых ощущений Мах остался физиологом и физиком. Ощущения берутся им не как чистая актуальность, не как процесс, но с самого начала понимаются как субстанция, овеществляются как универсальный «материал мира». Вещь, называемая Махом простым ощущением, должна образовывать субстрат как физического, так и психического бытия; но если принимать всерьез это его положение, то оно показывает, что тем самым он не видит формы обоих родов «действительности» и, по существу, ее отрицает. Такое отрицание становится еще заметнее, когда мы прослеживаем исторические корни того, как ставится эта проблема современным эмпиризмом. Гоббс заявлял, что восприятие составляет истинную фундаментальную проблему философии; ведь из всех феноменов само fainestai, a из всех явлений — сам факт, что нечто вообще явлено, есть самое чудесное и первоначальное13. Но при толковании этого первоначального феномена он тут же и с полным сознанием возвращается к категориям физики. Он выдвигает принцип, согласно которому психология может возвыситься до философского познания лишь тем, что она в своих основоположениях и подходах подражает физике. Ведь всякое философское познание есть познание причин, а причину какой-либо вещи мы понимаем не иначе, как видением того, как она возникла перед нашими глазами, конструируемая нами из простейших составных частей. Обосновывая этот тезис, Гоббс явно пользуется формой, позаимствованной из галилеевской науки о природе. Но теперь последняя не ограничивается какой-то частной областью знания, но проводится через всю область познаваемого — она столь же хороша для психологии, как и для физики, для права или учения о государстве — как для логики и математики. Всякое мышление для него сводится к исчислению, к сложению и вычитанию. Но тут следует четко отличать чистые понятия, являющиеся лишь метками при счете, от того, к чему они относятся, от содержания, к которому обращено исчисление, стремящееся это содержание уловить и определить. У понятия нет иной функции, кроме простого указателя действительного. Гоббс заходит здесь столь далеко, что понятие вообще не отличается им от слова, — у понятия нет никакого «реального» значения помимо и сверх «номинального». Но за этим миром простых знаков стоит мир обозначаемого, а таковым может быть только мир тел. Тут по видимости феноменологический подход, имеющий своим исходным пунктом «само являющееся», превращается в свою прямую противоположность — в тезис об абсолютной действительности «материи» как единственно познаваемой и единственно реальной. Наследники Гоббса — эмпиристы оспаривали этот материализм по теоретико-познавательным или метафизическим основаниям, но и у них он — с чисто методической точки зрения — не был преодолен. Ибо психология у них также остается натуралистической: учение о восприятии
33
должно разлагать феномен восприятия на составные части, чтобы вообще его описывать, а эти составные части мыслятся как самостоятельные вещные элементы. Мы пока не ставим вопроса о том, насколько допустимо такое понятие элемента или психического «атома»; аналогия с физикой была путеводителем, безоговорочно принятым психологией. Почти вся научная психология XVII и XVIII вв. вращалась в этом кругу: от установления «простых» элементов сознания и правил образования неких ассоциативных связей психология ждала открытия сущности психического. Лишь один мыслитель сторонился этого, да так, что его поначалу почти не замечали. Этим мыслителем был Гердер, в работе «Об ощущении и познании человеческой души» первым проложивший новый путь. Он опирался на чисто философский принцип лейбницевского понятия единства сознания как единства апперцепции. Но он обогатил его всеми теми конкретными познаниями и интуициями, которые принадлежали ему самому. Он шел не от учения о природе, не от физики или физиологии, но от вопроса о чувственном содержании языка. Его оригинальность и гениальность проявились в том, что он не пытался втиснуть язык в имеющиеся психологические категории, но стал искать для живой и конкретной реальности языка адекватные духовные категории. Тем самым в феноменологию восприятия вливается иной способ мышления и сразу же доказывает свою жизненность и плодотворность. Поскольку мысль ориентируется теперь не на естествознание, а на философию языка, то в известной мере изменяются предпосылки самого рассмотрения. В познании природы может казаться осмысленным и даже необходимым предпослать знанию целого знание частей, а реальность целого обосновывать этими частями. Но для духовного проникновения в язык и для его рассмотрения такой путь закрыт. Специфически языковый «смысл» есть неделимое единство и неразложимая целостность. Этот смысл не разобрать на отдельные составные части, чтобы собрать его затем из единичных «слов». Скорее, наоборот, отдельное слово предполагает предложение как целое, и лишь в нем оно доступно интерпретации и пониманию. Если мы с этой точки зрения посмотрим на проблему восприятия, следуя за смысловым единством языка, чтобы по его образцу определить своеобразие чувств, то мы получим совсем иную картину. Мы тут же понимаем, что изолированное «ощущение», как и изолированное слово, есть лишь абстракция. Действительное живое восприятие столь же мало «состоит» из цветов или звуков, вкусов или запахов, как предложение из слов, слово из слогов, а слог из букв. Исходя из этого, Гердер как философ языка отвергает и сносит те барьеры, которые были воздвигнуты аналитической психологией его времени между отдельными «чувственными областями». Как мог бы звук речи обозначать и представлять все эти области, если бы действительно существовала эта изначальная чуждость между ними по содержанию — между миром звуков и содержаниями прочих чувств? Не будет ли в таком случае каждая экспрессия языка непостижимым и неправомерным скачком, неким странным μετάβασις εις άλλογένος? Гердер решает эту загадку, оспаривая теоретический фундамент обычных для психологии классификаций. «Как могут сочетаться увиденное и услышанное, цвет и слово, запах и звук?» — спрашивает Гердер. От-
34
вет на этот вопрос звучит так: подобное сочетание нужно искать не в предмете, но в противоположном направлении — не в «вещах» внешнего мира, но в «Я», в субъекте восприятия. При объективном рассмотрении данные различных органов чувств могут казаться сколь угодно различными. «Но что представляют собой эти свойства предметов? Они суть чувственные ощущения в нас, а потому разве все они не стекаются в одно? Мыслящий sensirium commune, затрагиваемый с разных сторон, — в этом следует искать объяснение». Для обозначения этих единства и целостности чувственного сознания, которые должны мыслиться как предшествующие разделению на различные сенсорные сферы — миры видимого, слышимого, осязаемого, — Гердер возвращается к термину «чувство». Чувством мы улавливаем все различия и лишь потом начинаем подразделять ощущения по классам. Но тут они еще не являются застывшими данностями, мы схватываем их in statu nascendi. Здесь господствуют еще не упрочившиеся различия, но чистая динамика сознания, то кипение, то переплетение, что таит в себе возможность всех будущих образований. «В основе всех ощущений лежит чувство, придающее самым различным ощущениям такую внутреннюю, мощную, невыразимую связь, что из нее происходят разнообразнейшие явления. Мне знаком не один пример того, как у иных лиц, возможно, под влиянием детских впечатлений, со звуком вдруг связывается цвет, к одному явлению неожиданно примешивается совершенно иное темное чувство, родство или сходство которых никак не может установить медлительный разум. Ибо как нам сравнивать звук и цвет, явление и чувство? Между тем, у нас есть множество таких соединений различнейших ощущений... Если бы мы умели удерживать вереницу наших мыслей и для каждого звена этой цепочки могли бы найти связи, то какие странные и чудесные аналогии самых различных чувств явились бы нам — а ведь именно так устроена наша душа... В чувственных творениях, одновременно ощущаемых разными органами чувств, такое соединение оказывается неизбежным; разве все эти органы чувств не являются лишь способами представления, принадлежащими одной позитивной силе души? ... Мы с большим трудом учимся подразделять эту силу для практических надобностей, но на какой-то глубине все они продолжают действовать совместно. Все расчленения человеческих ощущений, проделанные Бюффоном, Кондильяком и Боннэ, суть абстракции: философ должен оставить одну нить ощущений, чтобы взяться за другую, но в природе все эти нити составляют единую ткань!»14.
Эти суждения Гердера могут показаться aperçu, простыми догадками, если соотнести их с нашей основной темой. Тем не менее с ними мы подходим к поворотной точке в развитии не только психологии, но и всей истории духа. Так начинается продолжающаяся доныне борьба, методологически преобразившая новую и новейшую психологию, — борьба между психологией, ориентирующейся на методы естествознания и во всем пытающейся им подражать, и психологией, стремящейся обосновать себя в качестве науки о духе. Гердер не был психологом-эмпириком, но он руководствовался общей интуицией жизни духа, которую он желал вывести — во всем богатстве и всей полноте конкретных проявлений — из общего корня «человечности». Этому единству, счи-
35
тал Гердер, угрожают абстракции психологов-аналитиков. Так психология вступает в период «бури и натиска», где натиск идет со стороны жизненного уловления целого на позиции «encheiresis naturae», ухватывающего только части. Гердер искал не предметного единства природы, конституируемого методами объективирующей науки, но единства человечности. Он отталкивался здесь от положений Гаманна, чьи основные воззрения можно, словами Гёте, свести к одному суждению, согласно которому все предпринимаемое человеком, будь то слово или дело, должно проистекать из общего источника, где все они соединены — «все обособленное дурно». В перспективе «объективного духа» в центре внимания находились проблемы философии языка, эстетики, философии религии, но тем самым психология и феноменология восприятия также получили мощный импульс. К тому же главный тезис Гердера вновь и вновь подтверждался и подкреплялся психологической эмпирией, показывавшей, что резкое обособление сенсорных областей никак не может быть первоначальным состоянием восприятия. Скорее, само это разъединение исчезает, чем дальше мы заходим в «примитивные» образования сознания. Для этой эмпирии было характерно и существенно то, что здесь стираются четкие пограничные линии, проводимые между ощущениями различных органов чувств. Восприятие образует относительно недифференцированное целое, из которого еще не вышли и не обособились отдельные сенсорные сферы. Современная психология развития доказала это множеством примеров из психологии животных, детской психологии, психологии «первобытных народов». Во всех них зрительные и слуховые ощущения, ощущения запаха и вкуса, еще тесно переплетаются друг с другом, в отличие от нашего «теоретического» взгляда, когда восприятие направлено на ясное установление «качеств» вещей. К тому же эта их связь не ограничивается примитивным сознанием, но сохраняется и впоследствии. В развитом сознании также имеются проявления так называемой «синэстезии», скажем, окрашенные цветом звуки и цифры, запахи и слова. И это — не аномалии, а общий характер воспринимающего сознания. «Цвет и звук, — пишет Вернер, — осознаются в чувственном переживании, где еще не существует специфически-оптическая "материя" цвета и специфически-акустическая "материя" звука; единство звука и цвета возможно потому, что по своей материи они слабо или еще вообще не дифференцировались»15. Сама психологическая эмпирия нарушила сон психологического эмпиризма, считавшего действительность понятой и познанной, если она сводилась к последним чувственным элементам, к первоначальным данным ощущений. Такие «данности» полагаются теперь гипостазированиями, а потому учение, возвещавшее о победе чистого опыта над конструкциями, а чувственности — над абстрактным понятием, само оказалось неузнанным и непреодоленным остатком идеализма понятий. Исходная «материя» действительного, которую мы, кажется, уже уловили, вновь ускользает из наших рук. Не заявила ли в этой игре как «внутреннего», так и «внешнего» опыта о себе какая-то необходимость? Не следует ли нам, после всех этих вопросов о материи, на которые мы без успеха искали ответа на разных путях, радикально изменить сам вопрос?
36
4
Однако осталась еще одна область, нами до сих пор не обследованная и обещающая внести полную ясность в рассматриваемый вопрос, разогнав все сомнения. Сомнения порождаются тем, что мы до настоящего времени имели дело с научным опытом, понимаемым то как психологическая, то как физическая эмпирия. Это кажется чуть ли не само собой разумеющимся тем, кто утратил наивное доверие к науке, на которую и обращается теперь критический взгляд. Науке никогда не перепрыгнуть собственную тень. Она конституируется определенными теоретическими основоположениями, но именно к ним она поэтому привязана, в их стены она заключена. Но разве у нас нет возможности обойтись без ее методов, а тем самым и возможности взорвать стены этого узилища? Разве вся реальность доступна научным понятиям и ими улавливается? Разве научное мышление не движется посредством одних лишь выводов, причем из них оно делает следующие выводы, а тем самым никогда не достигает подлинных и последних корней бытия? Вряд ли кто усомнится в наличии таких корней; все относительное должно покоиться на абсолютном и им обосновываться. Если абсолютное скрывается от науки и постоянно от нее ускользает, то это доказывает лишь то, что наука не обладает подлинным органом познания действительности. Мы не улавливаем действительного, когда пытаемся постичь его шаг за шагом, идя мучительными обходными путями дискурсивного мышления; скорее, нам следует прямо переместиться в центр действительного. Мышлению отказано в таком непосредственном контакте с действительностью — он по силам лишь чистому созерцанию. Чистая интуиция совершает то, чего никогда не удается совершить логико-дискурсивному мышлению, последнее и не должно на подобное претендовать, коли таковой признана его природа. Если выразить сущность логического схематизма в общей форме, то он оказывается схематизмом пространства. Все им постигаемое выстраивается по аналогии с пространственным схватыванием предмета. Мышление «обладает» в этой сфере предметом не иначе как поместив его «перед собою» на известном отдалении и созерцая его с этой дистанции. Любое приближение к предмету все же ео ipso означает отделение от него, любое соединение с ним есть противостояние. Если мы приходим вместо этого к истинному единению, где бытие и знание уже не противостоят друг другу, то должна существовать форма знания, преодолевающая такого рода сведение к пространству, такого рода дистанцию. Метафизическим в строгом смысле слова будет лишь познание, освободившееся от уз пространственной символики, улавливающее сущее уже не с помощью пространственных уподоблений и образов, но располагающееся в самом сущем и постигающее его в чистом внутреннем созерцании.
Такова концепция Бергсона, нами здесь в общих чертах описанная. Сам Бергсон в одной из ранних своих работ дал ясное представление о генезисе своих мыслей и следующим образом сформулировал стоявшую перед ним проблему. Метафизика, объясняет Бергсон, есть наука, которая притязает на то, что она может обойтись без символов: «La métaphysique est la science qui prétend se passer des symboles»16. Лишь в
37
тот миг, когда нам удается забыть обо всем только символическом, когда мы вырываемся за пределы слов и языка пространственных образов и аналогий, мы вступаем в соприкосновение с истинной действительностью. Подразделения, привносимые символикой языка и абстрактных понятий в действительное, могут казаться необходимыми и неизбежными; но они таковы не в смысле чистого познания, но в смысле практического действия. Человек не может иначе воздействовать на мир, чем рассекая, разлагая его на отдельные сферы действия и объекты действия. Но там, где наше отношение к миру связано не с внешним действием, но с внутренним созерцанием, где нам нет нужды изменять мир действием, но где мы хотим интуитивно постигать его, там мы должны обходиться без всяких абстрактных подразделений. На место дискретного, определяющего всю работу понятий, в котором мы все больше увязаем, чем дальше заходит эта работа, становится сама жизнь в ее ненарушимом единстве и постоянстве. Вместо того чтобы оставаться в мире соположенного и рядоположенного, — что относится к сущности пространственного представления, — мы погружаемся в поток становления, в чистую длительность.
Учение Бергсона является, вероятно, самым радикальным отрицанием ценности и права всякого символического формирования в истории метафизики. Самый акт формирования уже оказывается покрывалом Майи. Но этот вердикт опирается на молчаливо принятую предпосылку, без которой он тут же оказывается проблематичным. Критика символизма у Бергсона основывается на том, что любое символическое формирование является не только процессом опосредования, но также процессом овеществления. Форма вещи кажется ему прототипом всякого «опосредованного» улавливания действительности. Поэтому неизбежным оказывается следствие: он принципиально выводит за пределы этой сферы абсолют чистого «Я» и чистой длительности, чтобы это «безусловное» не насиловалось вещными категориями и в них не затвердевало. Как передать действительность «Я», данную нам не иначе как поток чистого времени, с помощью тех понятийных орудий, что были созданы для вещно-пространственного бытия? Как мы можем надеяться на то, что приблизимся к сущности жизни тем, что станем искусственно прерывать ее поток, подразделяя его на классы и роды? Эта сущность смеется над всеми нашими классификациями: вместо однородности, которая предполагается повсюду, где различие подводится под родовое единство и ему подчиняется, мы сталкиваемся, скорее, со сплошной разнородностью. Именно эта бесконечная гетерогенность отличает процесс жизни от всех его продуктов. Нам не поймать поток жизни в петли наших эмпирико-теоретических понятийных сетей — он проходит сквозь них и течет дальше. В этом смысле любая «запечатленная форма» кажется Бергсону врагом жизни; ведь форма есть, по существу, ограничение, тогда как жизнь безгранична; форма есть закрытость и остановка, тогда как движение жизни признает все такие остановки лишь относительными.
Теперь нам следует спросить: исчерпывает ли такой биологический взгляд на действительность целое ее проявлений или же сам он является частичным ее аспектом? Учение Бергсона, по крайней мере в одном пункте, совпадает с натурфилософией Шеллинга, оказавшей на это учение
38
значительное влияние17: витализм противопоставляется механицизму, «природа в субъекте» — «природе в объекте». Бергсоновское представление о невозможности постичь субъект, определяя его категориями вещного мира, по своему методу опирается на те же аргументы, которыми пользовался Шеллинг в своей первой работе «О "Я" как принципе философии». Но сама удостоверяемая интуицией субъективность остается у Бергсона заключенной в куда более узкие, чем у Шеллинга, пределы. У Шеллинга природа (рассматриваемая Бергсоном как «творческая эволюция») является не чем иным, как развитием духа. Формирующая деятельность духа, находящая выражение в высших творениях языка и мифа, религии, искусства, познания, есть продолжение и подъем формирующей деятельности природы. Духовная форма не противопоставляется органической, но является, скорее, завершением последней, зрелым плодом органической формы. У Бергсона уже нет такого надстраивания мира «духовного» над миром «природного». Для него природа самодостаточна, она существует сама по себе и должна из самой себя пониматься. И хотя Бергсон неустанно проводит резкую грань между путями метафизической интуиции и естественнонаучной эмпирии, в этом он предстает как сын натуралистически ориентированного и натуралистически ограниченного века. Ведь признаком натурализма следует считать то, что вся истинная самодеятельность, вся продуктивность и первоначальность élan vital принадлежит чистому напору жизни, тогда как работе духа остается исключительно негативное значение. Эта работа способна у него создавать только прочные плотины и дамбы, о которые разбивается поток жизни. Но не является ли сама эта картина, как и множество других образов и метафор, столь характерных для Бергсона, позаимствованной из мира пространственного бытия и пространственного движения, а тем самым непригодной для выражения динамики духа? Важнейшим моментом при определении сферы духовного оказывается то, что в ней понятие «объективности» претерпевает такую трансформацию, что его уже невозможно в каком-либо смысле приравнивать понятию вещи «наивного реализма» или даже проводить между ними аналогию. Центральным вопросом здесь становится не объективность существования, а объективность значения. Но вместе с такой сменой ориентации в новом свете предстает тот дуализм, на котором покоится вся метафизика Бергсона. Ведь если мы можем обособить первичный феномен «Я», переживание чистой длительности, представляющие собой исходный пункт метафизики Бергсона и ключ к ней, и противопоставить их всем формам эмпирико-вещной действительности, то такое обособление и противопоставление формам происходит все же в ином смысле, чем в случае объективного значения. В отношении к миру вещей чистое «Я» в известной мере способно вернуться к абсолютно одинокой внутренней жизни, чтобы в ее изначальности и подвижности постичь самого себя. Это ему удается путем забвения всех тех схем, что позаимствованы из вещного мира, — они должны быть отброшены. Но мир «объективного духа» нигде и никогда не знает подобных ограничений. Когда «Я», как духовный «субъект», входит в среду объективного духа, то это происходит не актом объективации, но актом самообнаружения и самоопределения. Формы, которым он здесь отдает себя, являются не препятствиями, но средствами его движения и само-
39
раскрытия. Только благодаря этим формам может начаться процесс «противопоставления» «Я» и мира; они составляют собой необходимое условие того, что «Я» не просто существует, но и само себя знает. Метафизика Бергсона исходит из чистого феномена жизни, достижимого лишь освобождением от всех форм знания; но сама она не была бы метафизикой, не была бы философским познанием, если бы не обещала нам в то же самое время «знание о жизни». Но его философии, желающей опираться на интуитивное созерцание, при более внимательном рассмотрении недостает именно того момента, что только и способен сделать понятным такое созерцание. Самопостижение жизни возможно лишь там, где она не остается в себе самой. Она должна себе самой придать форму; лишь с достижением этого «инобытия» формы мы получаем если не действительность, то хотя бы «созерцаемость» жизни. Полное отделение мира жизни от формы и их противопоставление означают не что иное, как обособление «действительности» от ее «созерцаемости». Но разве само это обособление не принадлежит к классу тех «искусственных» абстракций, против которых с самого начала восставала метафизика Бергсона? Разве форма с необходимостью означает сокрытие, а не проявление, не откровение? Чтобы дать направление метафизической интуиции, Бергсон нередко сравнивает ее с художественной интуицией. Как это было уже у его учителя Равэссона, искусство выступает как «метафизика в фигурах» (une métaphysique figurée), а метафизика — как «рефлексия по поводу искусства»18. Но именно художественное творчество лучше всего показывает, что всякая попытка отделить акт «внутреннего» созерцания от «внешнего» формирования неизбежно обречена на неудачу; само созерцание оказывается здесь актом формирования, подобно тому, как формирование остается созерцанием. «Экспрессия» здесь никогда не является чем-то производным и случайным, законченным следствием наличного внутреннего образца. Внутренний образ получает свое содержание лишь в работе, и только в ней он проступает наружу. То же самое можно сказать об универсальном творческом процессе, — именно благодаря ему из «непосредственного» единства жизни проистекает мир духа как мир опосредований. Метафизика, не видящая в этих опосредованиях ничего, кроме отделения, отхода, отчуждения от истинной действительности, еще находится в плену заблуждения, названного Кантом «ухищрениями человеческого разума» и описанного им с помощью знаменитого примера. Такая метафизика полагает, что actus purus, энергия чистого движения жизни явлены совершенным образом там, где это движение еще полностью предоставлено самому себе, где оно не сталкивается с сопротивлением мира форм. При этом она забывает, что именно это сопротивление является моментом и условием возможности самого движения. Формы, в которых проявляется жизнь и благодаря которым она обретает свой «объективный» облик, означают для нее не только сопротивление, но и необходимую ей поддержку. Когда они ставят потоку жизни границы, то последние таковы, что лишь с их помощью жизнь осознает свои силы, — ведь применять их она учится именно благодаря преодолению границ. Противодействие оказывается импульсом для всего движения; в пути вовне не вещи, а формы и символы помогают чистой субъективности найти саму себя.
40
Но здесь нам следует прервать обсуждение, поскольку мы входим в круг надвигающихся со всех сторон проблем. Целью введения не должно быть их решение; здесь мы хотели указать лишь на их сложность, а также на ту диалектику, что скрывается за каждой попыткой поставить вопрос о непосредственном познании. Мы видели, что ни теория познания, ни метафизика, ни умозрение, ни опыт— идет ли речь о «внешнем» или «внутреннем» опыте — не сумели целиком совладать с этой диалектикой. Противоречие хотя и отодвигалось и перемещалось по духовному космосу, но нигде оно не получало окончательного разрешения. Тогда философскому мышлению не остается ничего иного, как не смиряться с преждевременными и ошибочными решениями, но вобрать в себя само это противоречие. Для этого мышления закрыт путь в рай непосредственности; оно должно — если воспользоваться словами Клейста из статьи «О театре марионеток» — «совершить путешествие по миру и посмотреть, не откроется ли что-нибудь за ним». Требуется только, чтобы такое «путешествие» включало в себя весь globus intellectualis, чтобы определение «теоретической формы» как таковой бралось не из частных проявлений, но постоянно виделось в целостности своих возможностей. Если кончились ничем все попытки трансцендировать область формы, то ее следует не нащупывать то здесь, то там, но измерить всю ее целиком. Если мысль о бесконечном прямо нам не доступна, то она все же должна со всех сторон окружать конечное. Следующие ниже исследования имеют своей целью показать единую связь, проходящую начиная от экспрессивности восприятий и репрезентативного характера представлений, в особенности представлений пространства и времени, и вплоть до общих истолкований смысла в языке и теоретическом познании. Род этой связи можно обозначить и прояснить только путем прослеживания ее структуры, а она, при всем многообразии и даже противостоянии различных своих фаз, проясняется, когда мы видим ее управляемой и направляемой одной и той же основополагающей духовной функцией.
Примечания
1 См.: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, § 4.
2 Подробнее об этом см. во Введении к третьему тому моей работы Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissensschaft der neueren Zeit. S. 5 ff.
3ъ Кант И. Критика чистого разума. M., 1994. С. 115-116. 4 Там же. С. 116.
5 Там же. С. 173.
6 См. выше общее Введение к данной работе, т. 1, в особенности: С. 13-14, 28.
7 Humboldt W. Einleitung zum Kawi-Werk, Akad.-Ausgabe, VII, i, S.46, 60 u.o.
8 Galilei G. Il saggiatore, Opere, ed. Albieri, IV, 333; подробнее по этому поводу см.: Erkenntnisproblem, I, 590 ff.
9 См.: T. l. C. 41 и далее.
10 См.: Duhem P. La théorie physique, son objet et sa structure. Paris, 1906, p. 245 ff.,
269 ff.
11 См. ниже: гл. 6.
41
12 О понятии visual language у Беркли см.: Т. 1. С. 33.
13 См.: Hobbes T. De corpore. Cap. 25, sect. I
14 Herder I. Ueber den Ursprung der Sprache. Werke, (Ausg. Suhan). V. S. 60 ff.
15 Werner H. Einfuehrung in die Entwicklungspsychologie. Lpz, 1926, S. 68.
16 Bergson H. Introduction â la métaphysique. Revue de la Métaphysique et de la Morale. 1900.
17 Об отношении между ними см. диссертацию Adam M. Die intellektuelle Anschauung bei Schelling in ihrem Verhaeltnis zur Methode der Intuition bei Bergson. Hamburg, 1926.
18 «L'art est une métaphysique figurée, la métaphysique est une réflexion sur l'art et c'est la même intuition, diversement utilisée, qui fait le philosophe profond et le grand artiste». Bergson A. Notice sur la vie et les oeuvres de M. F. Ravaisson-Mollien. Paris, 1904 (цит. по работе M. Адам).
42
Часть I. Функция экспрессивности и мир экспрессивности
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 270; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
