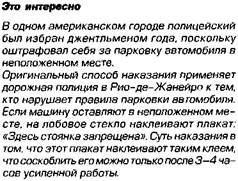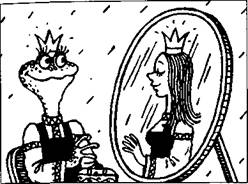БЮРОКРАТИЯ В ПРЕВРАЩЕННОМ МИРЕ Слуги и господа
В двойном мире превращенной формы вначале все меняется местами, а затем связи, существовавшие раньше, удивительным образом запутываются. Как в рассмотренном случае с «мертвыми душами» несуществующие превращаются в недееспособных, хотя получают реальную оплату. Это уже является парадоксом, так как недееспособность — в сущности, отсутствие способности к труду (а их зачислять в штат как раз нельзя). Будучи реальными потребителями (ибо они получают настоящую заработную плату), они не являются реальными производителями. Но если они не производят материальную продукцию, как они могут получать деньги в качестве рабочих? Символические работники выполняют символический труд, но получают несимволические деньги.
Наилучшим исполнителем символического труда выступают, пожалуй, бюрократы. Целый день они перебирают бумаги, совершая с ними ритуальные действия, которые чаще всего лишены реального содержания, но зато оплачиваются и открывают доступ к неограниченным социальным привилегиям. Раньше мастерами-иллюзионистами слыли шаманы, колдуны,
53 Явлинский Г. Итоги 1997 года: «Яблоко» не разделяет оптимизма правительства. — http://www.yabloko.ru/Press/98021 l.html.
54 Дашковская О. Время и кадровая политика. — http://archive.lseptember.rU/upr/2001/47/3.htm.
8Б
жрецы, составлявшие особую социальную прослойку. До недавнего времени считалось, что это чисто паразитический класс (сегодня таковым мы называем бюрократов). Но приходит время и обнаруживается, что и они выполняют какую-то важную функцию в обществе.
|
|
|
В принципе бюрократом может стать любой, даже не занимая руководящей должности, не находясь «на службе в канцелярии»: достаточно содержание работы подменить формой. Когда буква, а не дух закона становится
|
|
главным мотивом деятельности, а формальные отношения возводятся в культ, то налицо отчужденная (превращенная) форма деятельности, которая сродни идолопоклонству. Ведь и в последнем случае люди поклоняются не самому Богу как духовной субстанции, требующей нравственного подвига, а всего лишь замещающему его символическому предмету — идолу, для которого важнее формально-ритуальные процедуры.
|
|
Любое превращение средства в цель чревато бюрократизацией и отчуждением. Для чего создаются уставы, своды законов, правила внутреннего распорядка, дисциплинарные системы, кодексы служебных обязанностей и другая атрибутика формальных отношений в организации? Для упорядочения поведения людей, их передвижения в лабиринте современного производства или служебной иерархии. Они призваны рационализировать человеческую деятельность, сделать так, чтобы наши взаимодействия друг с другом не приводили к путанице, столкновению, конфликтам. Правила дорожного движения нужны для предотвращения транспортных происшествий, технологические стандарты — для соблюдения научных требований и предотвращения брака на производстве, распорядок, дисциплинарные меры, служебный устав — для пресечения девиантного поведения, нарушения очереди, внеуставных отношений и т.д.
|
|
|
Формальные правила — это наши слуги, они выступают дополнительным, но не главным элементом. Главное — производство материальных и духовных ценностей. Но когда рабочий вместо того, чтобы выпускать программирующие устройства или просто дужки для замков, бегает по инстанциям, что-то пробивая, что-то доказывая, о чем-то отчитываясь, происходит подмена главного второстепенным, содержания — формой. Чиновник, гоняя человека по кабинетам, перестает быть частью обслуживающего механизма. Кстати, наше слово «министр» происходит от латинского minister — слуга, помощник, прислужник. Слуги превращаются в господ, т.е. хозяев положения. Всячески создается видимость, что их дела — самое важное, а изготовление автомобиля, лечение больных — второстепенное.
37
Превращению слуг в господ, дополнительной деятельности в основную способствует тот социальный механизм, который мы отчасти уже рассмотрели. Управленцы — это чаще всего солидарная и сплоченная социальная группа, ее контрдействия эффективнее критики или выпадов подчиненных. В их руках ключевые посты власти, асимметричная система найма и увольнения, фактическая неподконтрольность деятельности, концентрация средств материального вознаграждения (фонд заработной платы, премии и т.д.), эффективная система дисциплинарных санкций и т.д. Всего этого лишены исполнители, их условия существования как социальной группы находятся в распоряжении «власть имущих». Благодаря такому механизму в
|
|
|
|
|
отсутствие рыночной конкуренции между предприятиями бюрократия способна свою работу делать главным для всех, превращать вспомогательные средства (документооборот, канцелярию) в цель существования организации.
Механизм превращения бюрократии, т.е. ее эволюцию в превращенную форму человеческих отношений, прекрасно описал известный американский социолог Роберт Мертон55. Господство формальных правил неизбежно приводит к тому, что роль, место и объем доверительно-личных отношений сокращаются и подменяются отношениями «через правила». Роль формально-уставных отношений, напротив, возрастает. К ним привыкают, им подчиняются и, наконец, не обращают внимания, воспринимая их как что-то само собой разумеющееся. Формальные правила, внедрение которых поначалу вызывало психологическое неприятие (реакция на новизну), со временем становятся делом привычным. Они рутинизируются, а значит, нарушаются. Для пресечения нарушений вновь нужны формальные правила и запреты. И это может продолжаться до бесконечности.
|
|
|
Эскалация формальных правил в организации — неустранимое следствие их рутипизации. Канцелярия не устает издавать новые правила и распоряжения, ей всегда хватает дел. Чем сильнее рутинизация и шире эскалация, тем важнее труд бюрократа, тем больше он «раздувает щеки», тем более безапелляционны его суждения. Никто не успевает заметить, как формальные правила приобрели самостоятельную ценность: без них невозможно обойтись, по ним привыкли жить в такой степени, что если их убрать, начнется хаос: производство замрет, выпуск автомобилей прекратится, ученые и врачи останутся не у дел. Это и есть час торжества для бюрократа. Вначале он загнал людей в клетку формальных требований, а затем доказал им, что без этой клетки они не могут существовать. Страж закона превратился в тюремщика, слуга — в господина, средства — в цель существования. В превращенном мире главным действующим лицом является не рабочий или научный сотрудник, даже не директор, а вахтер.
55 Merlon R. Bureaucratic structure and personality // Social forces. 1940. Vol. 18, № 4. P. 560-568.
88
В качестве превращенной формы труда может выступать на вид совсем далекое от нее явление общественная работа. Понятие «общественная работа» известно с давних пор. Оно относится, видимо, к тому древнейшему периоду человеческой истории, когда зарождалось государство. Так, в Китае еще в V—IV вв. до н.э. практиковалось использование подневольных людей, обязанных безвозмездно трудиться в пользу государства на «общественных работах», например на строительстве городских стен. Эти работы отличались, как правило, тяжелым характером. Здесь использовались осужденные56.
К разряду общественных работ не могли быть отнесены работы в государственном секторе, допустим, в государственных ремесленных мастерских или в хозяйствах по выращиванию быков и лошадей. Общественными работниками не являлась также прислуга в правительственных учреждениях. Общественными назы 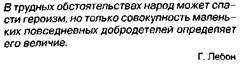 вали работы, которые не приносят дохода частному лицу, польза должна быть общественной. В Китае специальное ведомство общественных работ следило за строительством и ремонтом дорог, мостов, каналов, городских стен, храмов, гробниц и т.д. Все это требовало значительного числа работников, поэтому наряду с подневольными здесь трудились и свободные земледельцы, либо исполнявшие ежегодную трудовую повинность, либо просто должники.
вали работы, которые не приносят дохода частному лицу, польза должна быть общественной. В Китае специальное ведомство общественных работ следило за строительством и ремонтом дорог, мостов, каналов, городских стен, храмов, гробниц и т.д. Все это требовало значительного числа работников, поэтому наряду с подневольными здесь трудились и свободные земледельцы, либо исполнявшие ежегодную трудовую повинность, либо просто должники.
И прежде, и сейчас общественные работы считаются дополнительными тяготами, отвлекающими людей от их основной работы. Они рассматриваются как наказание за какую-то провинность, как непрестижная, ненужная работа. В одном из древнеассирийских писем писцы города Кальзу сообщали царю, что из-за необходимости выполнять государственные повинности, например, строительство и ремонт ирригационных сооружений, они вынуждены прервать более важное и постоянное свое занятие — наблюдение за небесными светилами и обучение юношества57. Иначе говоря, на рутинные исполнительские работы отвлекались высококвалифицированные специалисты, выполняющие важные хозяйственные функции. Так обстояло дело и в нашей стране в советское время, когда докторов и кандидатов наук посылали на уборку свеклы.
Сегодня под общественной работой мы понимаем неоплачиваемую добровольную деятельность людей в рабочее и во внерабочее время, не связанную непосредственно с должностными обязанностями. Раньше, как правило, работники участвовали в культурно-массовой работе: распространение билетов на культурные мероприятия, подготовка стенгазет, праздничных вечеров и утренников, участие в работе выборных органов, субботниках, демонстрациях, шефская работа в колхозе и т.п.
По своему социальному и экономическому наполнению общественная работа выступает остаточной формой закабаления, выполнением непрестижных видов деятельности. Только на первый взгляд это добровольная деятельность, в действительности речь идет о разновидности принудительного тру-
57 ' роблемь1 социальных отношений и форм зависимости на Древнем Востоке. М., 1984. С. 228. Там же. С. 10.
89
да. Вынужденность (скрытая внутри этого явления) общественной работы проясняется в тех санкциях — неодобрение, остракизм, порицание и т.п., — которые ждали провинившегося. Ее бесплатность — также лишь видимость. Общественная работа оплачивается не прямо, а косвенно. Это могло быть повышение в должности (недаром большая часть нынешних руководителей прошла через «горнило» общественной работы), дефицитные билеты, товары, квартиры, путевки в первую очередь, загранкомандировки, премии и т.д. Увлекшись общественной деятельностью, активисты настолько погружаются в нее, что постепенно теряют квалификацию и вкус к основной работе (по существу, она для них становится дополнительным занятием).
По всем меркам общественная работа подпадает под характеристики социальной превращенной формы труда. Об этом свидетельствует тот факт, что во многих советских коллективах искусственно придумывали себе занятия. Поток формальных мероприятий рос, как снежный ком. Придуманная для улучшения психологического климата, межличностных отношений, коллективистских связей (совместные поездки за город, походы в театр и т.д.), общественная работа потеряла первоначальный смысл. Часто она расстраивала коллектив, вызывала раздражение одних и зависть других. Активисты формировали замкнутую касту, ограничивая другим доступ к социальным благам. Заорганизованность и формализм здесь те же, что и в бюрократии.
Бюрократия и отчуждение
В забюрократизированном мире человек — ничто без какой-либо справки, диплома, удостоверения и т.п. О его деловых и моральных качествах судят не по тому, насколько он хорош в работе или честен в отношениях с окружающими. Этих качеств как бы нет, если они не зарегистрированы в дипломе или служебной характеристике, заверенных соответствующими подписями и печатями. Реальных качеств у человека может и не быть, но у него есть документ, удостоверяющий их наличие. Диплом можно купить (а сейчас в нашей стране это массовое социальное явление), и тогда к его обладателю будут относиться так, будто деловые и моральные качества у него есть реально. Хотя он может быть профаном и аморальным человеком.
И наоборот, человеку без документа, на самом деле обладающему такими качествами, не поверят, если они официально (т.е. символически, абстрактно) не документированы. Для чиновника их как бы не существует, хотя перед ним стоит реальный человек, готовый доказать реальность своих достоинств. Чиновник им не верит, он верит бумаге. Фактически он не верит самому себе как человеку, он доверяет социальному символу. Такой человек, писал молодой Маркс, «может теперь действовать лишь как потерявший себя, как обесчеловеченный человек»58.
Бюрократ — это и есть потерявший себя человек. Доверяя лишь социальным символам — документу, деньгам, он сам есть материализованный символ, ибо он — «обесчеловеченный человек». В ситуации бюрократа, или социального символа, оказывается всякий независимо от своей должности, верящий документу (абстрактным отношениям) больше, нежели другому человеку или самому себе. В нашем мире документ (характеристика с места
58 Маркс К. Конспект книги Джемса Милля «Основы политической экономии». С. 18.
90
работы, свидетельство, справка, паспорт) значит больше, чем реальный человек и реальные отношения. Абстрактные отношения, оторвавшись от живых людей, превратились в самостоятельную и господствующую над ними силу. Отрыв символа от реальности, т.е. его отчуждение, есть лишь подготовительный этап, пролог, предваряющий появление социальной превращенной формы на социальной сцене.
Сила социальных символов-посредников способна достичь колоссальных масштабов, стать тотальной, всепоглощающей реальностью. Став таковой, новая реальность полностью заменяет старую, настоящую, выворачивая наизнанку нормальные отношения людей. Реальный мир живых
людей вначале становится абстрактным, а на конечной стадии «переворачивания» — абсурдным. Все поставлено с ног на голову, иллюзорный мир  вытесняет реальный, принимает его облик и уже ничем от него не отличается. Люди начинают верить иллюзиям как реальности, не замечая подмены. В этом мире люди относятся друг к другу уже не как люди, а как символы-манекены.
вытесняет реальный, принимает его облик и уже ничем от него не отличается. Люди начинают верить иллюзиям как реальности, не замечая подмены. В этом мире люди относятся друг к другу уже не как люди, а как символы-манекены.
Между превращенной формой и отчуждением существует много общего. Отчуждение — это прежде всего зависимость человека от своих иррациональных страстей, понимаемая как психологическая патология, а не социальная. Аналогия отчуждения с психическим заболеванием вовсе не случайна. В первоначальном своем значении термин «отчуждение» обозначал состояние душевнобольного. Во Франции слово aliene, а в Испании aliendo издревле служили выражениями психотических, отчужденных личностей. В Англии термин alienistупотреблялся для обозначения специалиста, ухаживающего за душевнобольными59. Душевнобольные — это совершенно потерянные личности, их действия не воспринимаются ими как свои собственные, как принадлежащие им. Поэтому они не могут контролировать свои поступки, ибо реально они суть поступки другого лица. Они отчуждены от субъекта действия, стали для него чужими. Поэтому вполне правомерна аналогия между сумасшествием и отчуждением, которую особенно подробно изучал Э. Фромм.
В латинском языке термин alienatio имеет оба значения — психологическое и социальное (в узком смысле — юридически-правовое). Отчужденный человек — это пребывающий в беспамятстве, в бессознательном состоянии или безумии; так же называли чужеземца, иностранца. В гражданском праве отчуждение обозначало передачу имущества в собственность другого лица. Однако человек, потерявший собственность (на землю, орудия труда, дом, скот и т.п.), в социальном смысле мало что значит или не значит ничего. С его мнением не считаются, он не влияет на принятие управленческих решений, от него не зависит ход общественных дел в государстве. Более того, с потерей собственности, имущества от него не зависит и его собственная судьба: ею вправе распоряжаться чужие люди, сильные мира сего. Следствием выступает его полная (социальная, экономическая и политическая) зависимость от других.
Alienation: The Cultural Climate of Our Time. N.Y., 1964. Vol. 1. P. 67-87.
91
Для определенного (потерявшего собственность) индивида его родина становится как бы чужой, неприветливой. Он чувствует себя здесь лишенным прав иностранцем. Поэтому в Древнем Риме лишившийся собственности и чужеземец обозначались одним словом. Если собственность в том или ином обществе играет ключевую роль, то ее потеря равнозначна потере средств существования. В переносном смысле отчужденный аналогичен душевнобольному, ибо для них потерян смысл существования, они перестают осознавать себя как центр своего жизненного мира. Между социальным отчуждением и психическим сумасшествием исчезают различия: в первом случае человеку не принадлежат его собственный дом, скот, земля, во втором — его собственные поступки. То, что первоначально было своим, теперь стало чужим. Первоначальные отношения переворачиваются, они «испаряются», и вместо них появляются новые, но чуждые естественной природе вещей отношения: человек вынужден принимать свое как чужое. Это и есть превращенная форма.
Фромм проводит интересную параллель между терминами «идолопоклонство» (idolatory) и «отчуждение». Оказывается, во времена пророков Ветхого Завета они употреблялись как смысловые эквиваленты. Принципиальное различие между моно- и политеизмом заключалось именно в факте самоотчуждения. Создавая множество богов или идолов, человек приписывал каждому из них одно из своих качеств, но в гипостазированной форме. Идол представлял собственные жизненные силы человека в отчужденной форме, в форме вещи, которой он и поклонялся. Напротив, монотеизм полагает в человеке бесконечное многообразие качеств, и ни одно из них как конечное свойство нельзя оторвать от личности и превратить в фетиш.
Отголоски политеизма, считает Фромм, можно найти в современности. Так, и при фашизме, и при сталинизме — крайних формах тоталитарного общества — абсолютно отчужденный индивид поклонялся тем или иным идолам, будь то государство, нация, класс, коллектив60.
Отчужденная личность подобна очищенному от коры дереву, которая составляла его своеобразие и непохожесть и одновременно защищала его от внешних неблагоприятных воздействий. Обесчеловеченная личность стала незащищенной и похожей на всех. Она перестала быть индивидуальностью, ее индивидуальность принадлежит кому-то другому, но не ей. Лишенные индивидуальности могут восприниматься как взаимозаменимые и равные друг другу части целого. У них все общее, потому что нет ничего своего: и мысли, и поступки, и имущество. Они избавлены от ошибок, пережитков, социальных пороков и влились в идеальный коллектив.
Ценности коллектива и класса, ставшие над отдельными людьми как господствующая над ними сила, это и есть не что иное, как очищенное и идеологически препарированное индивидуальное. Административная система, централизовавшая все и вся, создала новый тип коллективности — механическую солидарность очень похожих, лишенных индивидуальности людей-винтиков, индивидов, попавшихся на хитрости разума (выражение Г.В.Ф. Гегеля): они добровольно подпали под власть коллективного ига потому, что это иго — их собственное Я, но гипостазированное, отчужденное от них и превращенное в идол.
6,1 Alienation. P. 67-87.
92
Коллективизм 1920—1930-х гг. говорил с рабочим и крестьянином простым и доступным им языком плаката, лозунга, призыва. Он призывал ненавидеть богатых, носить незамысловатую одежду, быть прямолинейно искренним в выражении своих чувств, ненавидеть угнетателей, не щадить себя ради общего блага. Все это — слепки с индивидуальных черт человека, но очень гипертрофированных, доведенных до карикатуры, до абстракции и потому, может быть, доступных пониманию всех без исключения. Индивидуальные черты (чаяния и надежды, вера в светлое будущее, суеверия, народный утопизм и многое другое), оторванные от их реальных носителей, шаржированные до неузнаваемости, были затем превращены в идол-лубок, которому поклонялись и в
|
|
который верили. Нация, коллектив, класс — это и есть обобщенные символы, заменившие реальность, абстрактные идолы-знаки, в которых воплотилось отчужденное Я индивида и которые стали господствовать над этим индивидом. Психологически окрашенное понятие «отчуждение» в начале XIX в. использовал Гегель, а в середине XIX в. Маркс для обозначения совсем иной реальности — социальной. Они и ввели в современный научный оборот серьезно переосмысленное понятие, обозначавшее социальную патологию общества. У Маркса отчуждение создает условия, при которых собственные действия человека превращаются в чуждую силу, стоящую над ним.
Введение в научный оборот категории превращенной формы дало возможность Марксу привести чисто экономические процессы во всем их многообразии к единому этическому (стало быть, и социальному) знаменателю. Так, анализируя упоминавшуюся книгу Милля, Маркс пишет, что кредит надо понимать как политэкономическое суждение относительно нравственности человека61. Действительно, в кредитных отношениях вместо бумаги посредником обмена выступает сам человек, «но не в качестве человека, а как бытие того или иного капитала и процентов». Сам же человек переместил себя вовне и превратился во внешнюю форму. «В кредитных отношениях не деньги упразднены человеком, а сам человек превратился в деньги, или деньги обрели в человеке свое тело. Человеческая индивидуальность, человеческая мораль сами стали предметом торговли и тем материалом, в котором существуют деньги. Материей, телом денежной души являются уже не деньги, не бумаги, а мое собственное личное бытие, моя плоть и кровь, моя общественная добродетель и репутация»62.
Деловые отношения в товарном обществе строятся таким образом, что кредит дается только тому, кто уже является имущим, кто еще не лишен собственности. Но имеющий собственность — это признанный обществом в качестве субъекта любого экономического действия, например сделки. Через кредит оказывается доверие имущему, и отказ в кредите автоматически выносит приговор неимущему, выступает свидетельством его бедности, неравноправности. Отказ в кредите как экономическая акция одновременно выступает моральным приговором неимущему в том, что «он не заслуживаете К. Конспект книги Джемса Милля «Основы политической экономии». С. 22. 1ам же.
93
ет ни доверия, ни признания и, стало быть, является социальным парией, дурным человеком»61.
Неимущий, т.е. отчужденный от имущества, не только лишается доверия, но вместе с этим получает унижение. Зависимость его положения выражается в том, что он вынужден просить кредит у имущего, может быть, прибегая к обману, подделке, хитрости, лжи. Но и кредитующий не брезгует никакими средствами: «Слежка, за тайнами личной жизни и т.д. человека, ищущего кредит; разглашение временных неудач этого человека для того, чтобы, вызвав внезапное потрясение его кредита, убрать с дороги соперника и т.д. Целая система банкротств, фиктивных предприятий и т.д.»64.
За фасадом совершенной кредитной системы экономических отношений проступает ее неприглядное социальное лицо. Но именно оно-то и является подлинным, хотя и скрытым ее содержанием. Ибо все экономические реалии порождает сам человек, на них он проецирует свои пороки и недостатки. Кредит, обращение капитала, обмен имеют вполне реальное человеческое измерение; они таковы, каковы люди, их создающие.
Молодой Маркс предлагает не впадать в иллюзию и не принимать видимость за суть дела. На поверхности — политэкономические категории, но это всего лишь маски, скрывающие социальное и нравственное содержание человеческих отношений. Кредит — предоставление денег или товаров в долг и с уплатой процента. Это экономическая акция, техническая сторона дела. Но когда в нее включаются реальные люди с естественными для них недостатками, например желанием обмануть другого и не обмануться самому, экономическая сделка из формы отношений становится их содержанием.
Кредит начинается с «презумпции виновности»: того, кому ссужаются деньги (особенно малознакомое лицо), заранее подозревают в возможном обмане (вернет ли деньги, не скроется ли от уплаты, неразоритсяли кмоменту возвращения денег?). На первый взгляд кредит как экономическая акция существует только в форме доверия — деньги передаются другому лицу. Но за этим скрыто моральное недоверие. Поэтому Маркс пишет, что «основой этого экономического доверия является отсутствие доверия: недоверчивое и расчетливое обдумывание — кредитовать или не кредитовать...»65.
В государственном кредитовании действуют те же закономерности, но в массовом масштабе. В индивидуальном кредитовании индивид вполне может стать объектом обмана, а в государственном само государство может превратиться в игрушку спекулянтов. Государство перестает принадлежать самому себе и уже не контролирует ситуацию. Через государственный «карман» осуществляют свои сделки российские подпольные миллионеры, теневые дельцы, разных мастей спекулянты. С помощью официальных документов, заверенных государственными печатями, они торгуют лесом, готовой продукцией, полуфабрикатами и т.д., перепродают за границу государственное оборудование, дефицитные материалы (об этом неоднократно сообщалось в прессе).
Люди — это не абстракция, говорит Маркс, а вполне конкретные, живые индивиды, строящие общественные отношения на уровне своих возможно-
63 Маркс К. Конспект книги Дж.Милля «Основы политической экономии». С. 22.
64 Там же. С. 23.
65 Там же.
94
стей, своей социальной зрелости. Они создают такую общественную связь между собой, до которой они на данном историческом этапе доросли. «Каковы индивиды, такова и сама эта общественная связь». В этом плане имеют одинаковый смысл слова: «человек отчужден от самого себя» или «общество этого отчужденного человека есть карикатура на его действительную общественную связь, на его истинную родовую жизнь...»66.
Нормальным является состояние того общества, в котором люди заняты прежде всего производством материальной продукции, и ненормальным, когда они поглощены прежде всего распределением того, что они успели произвести. Не важно, является уравнительным такое распределение или нет.
Если индивиды равнодушно относятся к рационализации производства, профессиональной постановке организации труда, не стремятся сегодня произ  вести больше и с лучшим качеством, чем вчера, но все свои страсти направляют на распределение того малого, что удалось изготовить, расталкивая и унижая друг друга, то подобное положение нельзя назвать нормальным.
вести больше и с лучшим качеством, чем вчера, но все свои страсти направляют на распределение того малого, что удалось изготовить, расталкивая и унижая друг друга, то подобное положение нельзя назвать нормальным.
Речь должна идти уже о превращенном, а не истинном обществе, т.е. о карикатуре на действительную общественную связь людей, ибо самым естественным состоянием человека выступает производительный труд, бережное отношение к земле, сырью, окружающей среде, а не страсти вокруг произведенного. Чем больше времени уходит на торги вокруг «пирога» (кому достанется больше и не достанется ли соседу больше, чем мне), тем меньше его остается на разумное производство. Значит, тем больше дефицит товаров и острее борьба вокруг их распределения.
Особенно социалистическое общество в его превращенной форме переворачивает действительную общественную связь людей: вместо приоритетного развития производства предметов потребления неимоверно разрастались производство средств производства и оборонная промышленность; там, где на первом месте по важности для национального выживания должно стоять производство материальной продукции, развитие производительных сил и производственные отношения, вперед выдвигались второстепенные распределительные отношения. Из-за этого трудовая деятельность человека, лишенная своей действительной общественной связи, выражаясь словами молодого Маркса, становилась мукой, «его собственное творение — чуждой ему силой, его богатство — его бедностью, сущностная связь, соединяющая его с другим человеком, — несущественной связью... его производство — производством его небытия, его власть над предметом оказывается властью предмета над ним...»67.
Постоянный дефицит товаров, ощущавшийся десятилетиями в нашей стране, не только парализовал социальную активность, создавал напряженность в отношениях между людьми и открывал каналы для спекуляции и хищений.
За обычными экономическими процессами, как и предупреждал Маркс, открываются нравственные категории, которые служат подлинным измере-
Конспект книги Джемса Милля «Основы политической экономии». С. 24. Маркс К. Там же. С. 24.
95
нием экономики и хозяйственной деятельности. Если закрыть глаза на это в науке, если видимость не отличать от сущности, то она (наука) превратится в паллиативную дисциплину, которая «отчужденную форму социального общения... фиксирует в качестве существенной и изначальной и в качестве соответствующей человеческому предназначению»68.
«Братание невозможностей» — так, пожалуй, можно еще назвать превращенную форму, если воспользоваться фразой Маркса, брошенной им в «Эко-номическо-философских рукописях 1844 года» по поводу социальной сущности денег. Исторически Маркс начинал анализ превращенной формы
именно с денег. Сущность денег, пишет он, заключается в том, что они представляют собой отчужденную родовую сущность человека. «То, чего я как человек не в состоянии сделать, т.е. чего не могут обеспечить все мои индивидуальные сущностные силы, то я могу сделать при помощи денег. Таким обра  зом, деньги превращают каждую из этих сущностных сил в нечто такое, чем она сама по себе не является, т.е. в ее противоположность»'"4.
зом, деньги превращают каждую из этих сущностных сил в нечто такое, чем она сама по себе не является, т.е. в ее противоположность»'"4.
Именно деньги, считал молодой Маркс, превращают верность в измену, любовь в ненависть, ненависть в любовь, а добродетель — в порок. Деньги извращают не только индивидуальные отношения людей, делая их чем-то противоположным их первоначальной сущности, но также общественные связи, которые, уже будучи извращены, т.е. став превращенной формой, господствуют над людьми в качестве самостоятельных сущностей. Храбр тот, кто имеет возможность купить храбрость, хотя от природы он труслив. Добродетельным слывет тот человек, кто за деньги приобрел (т.е. купил) общественную репутацию, уважение, престиж. Деньги «смешивают и обменивают все вещи... они представляют собой всеобщее смешение и подмену всех вещей, следовательно, мир навыворот, смешение и подмену всех природных и человеческих качеств»70.
Аномия и отчуждение
Определение превращенной формы, данное Марксом в «Экономическо-философских рукописях 1844 года», важно для нас во многих отношениях. Оно завершает начатый ранее анализ, доводит его до логического конца, до полной ясности. Превращенная форма создает двойной мир — один настоящий, другой иллюзорный. В этом «мире навыворот» иллюзорное занимает место реального и воспринимается как единственно реальное бытие. Причем подмену человек не замечает и не должен замечать. Оба мира — первоначально реальный и иллюзорный (вторично реальный, ставший таковым благодаря искажению общественных отношений) — противоположны и противоречат друг другу.
6S Маркс К. Там же. С. 24.
69 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. С. 149.
70 Маркс К. Там же. С. 150.
96
|
|
Все признаки превращенной формы — раздвоенность, подмена одного другим, противоположность и противоречие — крайне важны для правильного понимания ее природы. Если их не учитывать, то превращенную форму легко спутать с другими, похожими на нее, категориями, например отчуждением. В отчуждении какое-то качество человека, черта межиндивидуальных или общественных (коллективных) отношений отрывается от носителя (субъекта) этих качеств или черт и становится чем-то самостоятельным, а затем и господствующим над субъектом. Для Маркса было не важно, переживает как-то индивид состояние отчуждения или нет. Для него отчуждение — объективно существующее отношение коллективного бытия людей, независимое от их воли и сознания.
|
|
Однако для всей западноевропейской и североамериканской традиции отчуждение, как правило, связано с психологическим ощущением потерянности в мире, утратой смысла жизни, значимости своего Я для этого мира. Без такого переживания отчуждения нет. Поэтому зарубежные социологи измеряют отчуждение с помощью социально-психологических тестов. В марксовой концепции отчуждения такого в принципе быть не может. У Маркса отчуждение, как у Э. Дюркгейма аномия, есть подавление индивидуальной активности социальными институтами общества, объективные характеристики социальной структуры, а не субъективные чувства людей.
Аномия у Дюркгейма — это отсутствие общепринятых норм и стандартов поведения, твердых законов и социальных гарантий, своего рода смутное время. Аномия может существовать только на уровне большой социальной группы, но никак не индивида. Отчуждение у Маркса — это субъектное, но не субъективное отношение. Признаками и условиями отчуждения у него выступают разделение и специализация труда, частная собственность, эксплуатация. Современные западные социологи, напротив, чаще сводят отчуждение не к субъектным отношениям, а к субъективным. Наиболее известная концепция отчуждения принадлежит М. Симану, который выделил следующие переменные: отстраненность от власти (безвластие), бессмысленность, отсутствие норм, изоляция и самоустранение71. Все пять характеристик описывают субъективные ощущения, а не внешние условия коллективного бытия. Точно так же поступали Дж. Неттер72 и Р. Блаунер", измерявшие степень отчуждения с помощью шкалы установок. Часто, измеряя отчуждение, социологи измеряют также аномию и наоборот. Настолько близки эти понятия.
Seeman M. On the meaning of alienation //Amer. Sociol. Rev. 1959. Vol. 24, № 6. P. 783-791; Mendel! S.
72 sociological Theory: Uses and Unities. N.Y., 1974.
73 Net,erG- A measure of alienation // Amer. Sociol. Rev. 1957. Vol. 22, № 6. P. 670-677.Maimer R. Alienation and Freedom. Chicago, 1964.
97
Итак, отчуждение описывает одновременно субъективное ощущение потери смысла жизни, изолированности, подконтрольности и т.п., а также объективное отношение разрушения каких-то социальных институтов или структур. Как правило, у Маркса не прослеживается единственной трактовки проблемы, напротив, в его работах встречаются самые разные, чуть ли не отрицающие друг друга оценки. И не мудрено, ибо Маркс первым в западноевропейской мысли попытался раскрыть экономические и социальные грани отчуждения. У него отчуждение то разрастается до метафизического знака, под которым проходит развитие современной цивилизации, то сводится чуть ли не к технической операции, например отделению (отчуждению)
работников от управления.
Подобным образом нет единства у 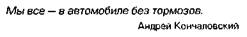 Маркса и в понимании превращенной формы. То она выражает результат технико-экономического по своей сути процесса обращения капитала, то получает вселенские масштабы раздвоения мира. Маркс понимает превращение то как всецело позитивный процесс, то как однозначно негативный. Определенной устоявшейся трактовки он не дал и, видимо, подобной цели не преследовал.
Маркса и в понимании превращенной формы. То она выражает результат технико-экономического по своей сути процесса обращения капитала, то получает вселенские масштабы раздвоения мира. Маркс понимает превращение то как всецело позитивный процесс, то как однозначно негативный. Определенной устоявшейся трактовки он не дал и, видимо, подобной цели не преследовал.
Тем не менее некоторые различия между отчуждением и превращенной формой удается обнаружить. Во-первых, превращенная форма в отличие от отчуждения никогда не бывает субъективным переживанием, хотя может существовать и на индивидуально-групповом уровне. Во-вторых, структурно она представляет комплексное явление, в котором отчуждение может выступать всего лишь его частью. В-третьих, отчуждение необязательно должно завершаться удвоением и перевертыванием мира, но превращенная форма, как правило, содержит в себе отчуждение как один из своих этапов.
ЛЮДИ-МАСКИ5 ОБЩЕСТВО-СПЕКТАКЛЬ
Анализируя превращенную форму и отчуждение, Маркс неоднократно употреблял понятия экономической маски и «маски-сознания». Маски обладают свойством нечто выражать и одновременно скрывать.
Древнегреческие актеры выходили на сцену в огромных масках, которые были видны с последних рядов амфитеатра. На масках крупными мазками прорисовывался характер персонажа, например злодея отцеубийцы, и прорезалось ротовое отверстие, через которое актер произносил свой монолог. Этот процесс получил название per sonare — говорить сквозь маску. Отсюда происходит известное нам понятие «персона», или личность.
В социальной реальности текст исполняемых нами ролей пишет не конкретный человек, а общество, точнее его полномочные агенты, в частности парламент, создающий законодательную базу государства. Каждый из нас озвучивает написанную обществом роль, внося в ее исполнение собственную интерпретацию и собственное понимание того, как следует себя вести человеку, играющему такую роль.
Наше сознание не только руководит нашим ролевым поведением, но и осуществляет огромную работу по расшифровке кодов, которыми зашифрованы общественная жизнь и сложный комплекс социальных отношений.
98
Читая ежегодные отчеты главы государства, анализируя выступления ответственных государственных мужей, человек проделывает большую умственную работу по дешифровке, решая задачу, например, о том, что означает увеличение расходов на социальную сферу на 1,2%. Это очень мало или достаточно для того, чтобы ребенок мог поступить в следующем году в государственный вуз или придется копить деньги на коммерческий? Повысят заработную плату врачам и учителям или добавка вновь разойдется по карманам чиновников?
Не имея возможности повлиять на распределение государственного бюджета, мы ощущаем силу социальной системы, стоящей над нами. Ее нельзя увидеть, свергнуть, остановить, приспособить к своим нуждам. Социальная система начинает разрастаться в огромный театр, где каждый человек — всего лишь игрок, а правила игры написаны обществом или государством. Общественные отношения начинают восприниматься человеком как отношения на сцене. Большинство населения оказывается в роли зрителей, расположенных в темном зале, с интересом глазеющих на сценическое действо, ни изменить, ни повлиять на которое оно не в силах.
Превращение участников в зрителей, активных творцов и конструкторов социальной реальности (ведь люди некогда учредили все многообразие социальных институтов) в пассивных наблюдателей — конечный акт масштабной социальной драмы, называемой отчуждением продуктов деятельности от субъектов данной деятельности. Именно благодаря этой драме стало возможным появление социальной превращенной формы.
Марксистски ориентированный культуролог и критик современной визуальной культуры, Ги Дебор, спустя полтора столетия после Маркса, развил представление об обществе как большом спектакле: «Спектакль — это не совокупность образов, но общественное отношение между людьми, опосредованное образами... Спектакль, рассматриваемый сообразно его собственной организации, есть утверждение всякой человеческой, то есть социальной, жизни как простой видимости»74. И еще: «Спектакль, взятый в своей тотальности, есть одновременно и результат, и проект существующего способа производства... Спектакль есть основное производство современного общества»75.
Метафора общества как спектакля весьма удачно вписывается в теоретическую модель превращенной формы. Здесь и проблема отчуждения — сцены от зрительного зала, артистов от зрителей, автора пьесы от актеров, праздничного действа от обыденного созерцания. Здесь и процесс манипуляции как поведением (актеров со стороны автора и режиссера), так и сознанием (актерским и зрительским), игра воображения (достраивание зрителем действий и смыслов, наблюдаемых на сцене). Здесь и само действие превращения — актеров в античных героев, зрителей — в праздничную публику. Иг-рание, или исполнение роли, — это одновременно вживание в образ, перевоплощение в иную личность, иную эпоху, а часто и члена совсем другого общества. Зритель, вживаясь в то, что изображают актеры, воспринимает театральное действие как реальное. Аберрация сознания может зайти настолько далеко, что повлияет на дальнейшую социализацию и жизненный
Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000. С. 23, 25. Там же. С. 24, 26.
99
путь зрителя. Он может уподобить свою жизнь жизни театрального героя. Эмоциональное впечатление, полученное зрителем от просмотренного спектакля, может превратиться в эмоциональный шок, круто изменив дальнейшую судьбу человека. Зритель, сочувствуя, сопереживая, страдая вместе с героями, может получить от спектакля гораздо больший эмоциональный заряд, чем от собственной жизни, от событий, реально переживаемых им, но очень будничных и рутинных.
Современное кино и телевидение, а в последнее время и интернет создают очень мощную конкуренцию реальной действительности. Визуальная реальность становится более привлекательной, интеллектуально и эмоционально насыщенной, чем реальность объективная. Некоторые фанаты телеэкрана и монитора не выдерживают соревнования, навсегда становясь рабом виртуальной действительности или пациентом психиатрической больницы. Превращенная форма заняла место реальной формы, в которую отливается или по крайней мере должна отливаться человеческая культура.
В театре вымышленная реальность становится реальнее объективной. Зрители отдают себе отчет в том, что перед ними — игра, фарс, обман, но они кажутся ему интереснее, привлекательнее и значительнее, чем социальная реальность. Они с удовольствием предаются вымыслу и желали бы продлить сладкий обман. С неохотой и разочарованием они покидают зрительный зал после окончания спектакля, с отвращением обнаруживая себя на дождливой улице или в грязной подворотне. Они не хотели бы возвращаться в эту жизнь, но она им нужна хотя бы для того, чтобы заработать деньги на очередной спектакль.
Покидая гостеприимный театр и оказавшись в негостеприимном городе, люди с сожалением понимают, что спектакль не закончился. Реальная жизнь — это тоже спектакль, где вместо профессиональных актеров роли играют чиновники и бюрократы. Для них тоже пишут пьесы, и они, придя после работы домой, с удовольствием сбрасывают постылую маску, превращаясь в заурядного обывателя. Перевоплощение закончилось, но наступит утро, и спектакль начнется опять. Люди проснутся, наденут социальные маски и отправятся исполнять свои роли. Только в отличие от профессионалов они будут делать свою работу часто очень по-дилетантски, а зрители, увидевшие их игру, покинут зал.
ОНТОЛОГИЯ АБСУРДА
Одним из важных аспектов превращенной формы выступает абсурд (от лат. absurdus — нелепый). Это философское и культурологическое понятие, характеризующее такое предельное состояние обессмысливания, до которого при определенных обстоятельствах может быть доведено любое разумное или осмысленное положение, порядок, состояние и даже реальность в целом.
Прием выворачивания смысла намеренно используется в современной драматургии, кино- и телепостановках для того, чтобы заглянуть по ту сторону обычного состояния дел, расширить горизонты привычного либо подчеркнуть, что между явлениями существуют такие связи, которые были упущены при обычной перспективе, но которые в действительности выявляют
100
сущность события. М. Стафецкая определяет абсурд как ловушку, в которую попадает сознание, как плату за ослепление доказательной мощью понятия. Для рационалистов абсурд — грань, отделяющая правильный мир сознания от беспорядочного хаоса. Абсурдное в одном измерении (Вселенной, пространстве, парадигме, способе мышления, культуре, эпохе) может не быть таковым в другом. Многие научные теории, противоречащие здравому смыслу, вначале казались абсурдными, например теория относительности А. Эйнштейна, о котором говорили, что он обладает парадоксальным, необычным мышлением. В данном случае абсурд выступает синонимом парадоксальному. В русском языке есть слово, семантически вбирающее в себя понятия
|
|
абсурда и нонсенса — «бессмыслица». Нонсенс и бессмыслица во многом имеют сходные значения: нонсенс — не простое отсутствие смысла, а скорее активная невозможность существования смысла; бессмыслица — проистекающая из этого невозможность проявления действий субъектом, этого смысла лишенным. Одна из наиболее значительных теорий бессмыслицы была разработана в кружке «чинарей» (А. Введенский, Я. Друскин, Л. Липавский, В. Олейников, Д. Хармс), существовавшем в 1920—1930-е гг.
Его представители исходили из тезиса о текучести мысли и языка и различали два вида бессмыслицы: а) бессмыслица речи, где слова вводятся в непривычный для них контекст (с использованием разрушения ассоциативных и логических связей создавался новый язык, в котором даже отдельное слово могло быть переполненной смыслами герметической метафорой); б) онтологическая бессмыслица, напоминающая пограничную ситуацию в экзистенциализме.
Возможно, первым апостолом абсурда в XIX в. являлся Ф. Ницше, создавший своеобразное «Откровение абсурда». Его нигилизм, по мнению православного мыслителя Юджина Роуза, есть тот самый корень, из которого выросло все дерево абсурда. И если Ницше представляет нам саму философию абсурда, то о ее последствиях предупреждал мир его старший современник Ф. Достоевский: Ницше был слеп к свету Христовой правды, которая одна способна противостоять абсурдному мировоззрению. Два знаменитых афоризма Ницше «Бог умер», т.е. вера в Бога умерла в наших сердцах, и «Истины нет», т.е. мы отказались от богооткровенной истины, на которой когда-то была воздвигнута европейская цивилизация, лежат в основании Апокалипсиса абсурда XX в. Личная форма Откровения абсурда выражена в словах Ивана Карамазова: «Если Бога нет, то все позволено». Две фразы — «Бог умер» и «Истины нет» — значат в точности одно и то же; это откровения об абсолютной абсурдности мира, в центре которого вместо Бога оказалось ничто. «Все боги умерли, — говорит Заратустра, — и мы хотим теперь, чтоб жил Сверхчеловек». Безумец у Ницше так говорит о богоубийстве: «Не слишком ли мы много на себя берем? Не нужно ли нам самим стать богами, просто чтоб это выглядело нам по плечу?» А Кириллов в «Бесах» Достоевского знает, что «если нет Бога, то я Бог». Атеисты и сатанисты, создавшие откровенно нигилистический тип субкультуры, берут на вооружение идеи Ницше и героев Достоевского, заявляя о своем безверии и отвержении ис-
101
тины. Они верят в Антихриста, а не в Христа. Антихрист выворачивает мир наизнанку, представляя тьму светом, зло — добром, рабство — свободой и хаос — порядком. Он воплощает философию абсурда и идею Человекобо-га, потому что поклоняется только себе и называет себя Богом. Бессознательными последователями такой субкультуры, видимо, становятся массы простых обывателей, не дающих себе труда задуматься над духовными вопросами бытия. Безразличие к духовной реальности, душевная растерянность и распущенность, увлечение сектами и псевдорелигиями — все это служит явным признаком культурного кризиса современного общества, общества, стоящего у черты абсурда или уже перешагнувшего за нее.
|
|
Среди экзистенциалистов середины XX в. наиболее полно идею абсурда выразил выдающийся французский писатель-философ А. Камю в произведении, специально посвященном этой проблеме: «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде». У Камю абсурд — это чувство, пронизывающее все поры жизни и закоулки человеческой души, своеобразная болезнь духа, к которой не примешаны ни метафизика, ни вера. Чувство абсурда не равнозначно понятию абсурда. Чувство лежит в основании и не сводится к понятию. Если я обвиню невиновного в преступлении, размышлял Камю, если заявлю добропорядочному человеку, что он вожделеет к собственной сестре, то мне ответят, что это абсурд. Мне укажут на антиномию между тем актом, который я ему приписываю, и принципами всей его жизни. «Это абсурд» означает «это невозможно», а кроме того, «это противоречиво». Если вооруженный ножом человек атакует группу автоматчиков, я считаю его действие абсурдным. Но оно является таковым только из-за диспропорции между намерением и реальностью. Доказательство от абсурда также осуществляется путем сравнения следствий данного рассуждения с логической реальностью, которую стремятся установить. Во всех случаях — от самых простых до самых сложных — абсурдность тем больше, чем сильнее разрыв между сравниваемыми вещами. Есть абсурдные браки, вызовы судьбе, злопамятства, молчания, абсурдные войны и абсурдные перемирия. В каждом случае абсурдность порождается сравнением. По существу, абсурд есть раскол. Его нет ни в одном из сравниваемых предметов — он рождается в их столкновении. Следовательно, с точки зрения интеллекта я могу сказать, что абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии. В противоположность Камю, и возражая ему, Роуз считает, что абсурд — это не внешнее, а внутреннее явление: не в мире, но в самом человеке исчезают смысл и согласие.
Чувство абсурдности, по Камю, есть разлад между человеком и его жизнью, актером и декорациями. Все когда-либо помышлявшие о самоубийстве сразу признают наличие прямой связи между этим чувством и тягой к небытию. Когда разлад между реальной жизнью и иллюзорным представлением о нем становится катастрофическим, единственный выход — самоубийство. Французский философ проследил связь между двумя социокультурными факторами, самоубийством и абсурдом, и выяснил их глубинную
102
соподчиненность. Несколькими десятилетиями ранее Э. Дюркгейм проследил взаимосвязь самоубийства и типа религиозности, а также, как Камю, выяснил их тесное родство. У Камю самоубийство является естественным исходом абсурда. В принципе для человека, который не лжет самому себе, действия регулируются тем, что он считает истинным. Вера в смысл жизни всегда предполагает шкалу ценностей, выбор, предпочтение. Вера в абсурд, по определению, учит нас противоположному. В таком случае вера в абсурдность существования должна быть руководством к действию. В привязанности человека к миру есть нечто более сильное, чем все беды мира. Тело принимает участие в решении ничуть не меньше ума, и оно отступает перед небытием. Разум, зашедший в тупик при решении каких-то своих, интеллектуальных проблем, дает команду на уничтожение тела, которое ни в чем не повинно. Это и есть абсурд, лежащий в самой основе человеческого существования. Наш разум ищет смысл жизни и, не найдя его, уничтожает не себя, а тело, которому для существования никакого смысла не надо, ему необходимы питание и комфорт. Мы привыкаем жить задолго до того, как привыкаем мыслить, пишет Камю. Тело сохраняет это опережение в беге дней, понемногу приближающем наш смертный час. Спасает от абсурда надежда на жизнь иную, которую требуется «заслужить», либо уловки тех, кто живет не для самой жизни, а ради какой-нибудь великой идеи, превосходящей и возвышающей жизнь, наделяющей ее смыслом и предающей ее. Если человеческая жизнь представляет собой абсурдную драму, или, точнее выражаясь, драму абсурда, то репликами в ней обмениваются надежда и смерть. Если прибегнуть к метафоре, то можно сказать, что наша культура — это путеводитель или огромная карта абсурда, а наш разум — гид в этом хаосе. Он сам, в силу прирожденной способности, приводит наш мозг к неразрешимым противоречиям. Основное занятие разума — отличать истинное отложного. Однако стоит мышлению заняться рефлексией, полагает Камю, как тотчас обнаруживается противоречие. Здесь не помогут никакие убеждения.
В ясности и элегантности доказательств никто на протяжении стольких веков не превзошел Аристотеля: «В итоге со всеми подобными взглядами необходимо происходит то, что всем известно, — они сами себя опровергают. Действительно, тот, кто утверждает, что все истинно, делает истинным и утверждение, противоположное его собственному, и тем самым делает свое утверждение неистинным (ибо противоположное утверждение отрицает его истинность); а тот, кто утверждает, что все ложно, делает и это свое утверждение ложным. Если же они будут делать исключение — в первом случае для противоположного утверждения, заявляя, что только оно одно не истинно, а во втором — для собственного утверждения, заявляя, что только оно одно не ложно, то приходится предполагать бесчисленное множество истинных и ложных утверждений, ибо утверждение о том, что истинное утверждение истинно, само истинно, и это может быть продолжено до бесконечности».
С этим вполне согласен Роуз, полагавший в середине XX в., что философия абсурда, с какой стороны к ней ни подойди, противоречит сама себе. Чтобы утверждать всеобщую бессмысленность, нужно вкладывать какой-то смысл в саму эту фразу, чем отрицается исходное положение; когда говорят «истины нет», подразумевают истинность этого высказывания, снова себе противореча. Философия абсурда состоит в отрицании и от начала до кон-
103
ца определяется тем, что именно подлежит отрицанию. Абсурдное возможно лишь по отношению к чему-либо неабсурдному; идея о мировой бессмыслице может прийти в голову только тому, кто веровал в смысл бытия и в ком эта вера не умерла. Философию абсурда нельзя понять в отрыве от ее христианских корней.
Христианство по существу есть высшее согласие, потому что Бог сотворил этот мир в гармонии, по образу и подобию своему. Для исповедующего абсурд все распадается на части, включая его собственную сиюминутную философию; для исповедующего христианство все собрано воедино и согласовано, включая и то, что беспорядочно само по себе. Абсурд с его хаосом оказывается элементом более общей и согласованной картины; если бы это было не так, вряд ли стоило бы о нем говорить. И это всего лишь один из тех порочных кругов, по которым мышление спускается в преисполню.
Если первое занятие суждения — искать истину, то второе — создавать великое. Однако начало всех великих действий и мыслей ничтожно. Великие деяния часто рождаются на уличном перекрестке или у входа в ресторан. Но где бы они ни родились, участь большинства великих замыслов и начинаний — забвение, нереализованность, смерть. Огромная вселенная культуры, бесконечное множество цивилизаций, стран и обществ созданы '/ человеческих замыслов. Большинство из них навсегда похоронено в пустыне забвения. И это еще один порочный круг, т.е. еще один абсурд, ведущий человека в преисполню хаоса. Третий круг — стремление разума во всем навести порядок и всему придать ясность. Понять явления, поступки, движения — значит прежде всего унифицировать их. Даже в своих наиболее развитых формах разум соединяется с бессознательным желанием ясности. В стремлении понять реальность разум удовлетворен лишь в том случае, когда ему удается свести ее к мышлению. Если бы мышление открыло в изменчивых процессах вечные отношения, устойчивые универсалии, а последние заставило подчинять одному-единственному принципу, то разум был бы счастлив. Ностальгия по Единому, стремление к Абсолюту выражают сущность человеческой драмы. Драматизм человеческого существования в том и заключается, что единство таит в себе многообразие. Разум утверждает всеединство, но этим утверждением доказывает существование различия и многообразия, которые пытался преодолеть. Так возникает еще один порочный круг. Его вполне достаточно для того, чтобы погасить наши надежды. А там, где умирает надежда, рождается абсурд.
Надежда может покинуть равно образованных и неграмотных. Первые живут разумом, но чем больше они его развивают, тем большее число парадоксов он им готовит. Вторые живут чувством и преходящей минутой. Но их тоже ожидает ловушка. Всем известно, что человек смертен. Одних эта мысль приводит к самоубийству, а других — к интенсивной творческой работе как попытке преодолеть смерть и стать бессмертным, пусть лишь в памяти потомков. Одних мысль о смерти обезоруживает, других окрыляет. Первые живут в измерении абсурда, все время думая о смерти, боясь и одновременно готовясь к ней. Бытие-к-смерти, как сказал позже М. Хайдеггер, есть основа человеческого существования. Возможно, если воспользоваться метафорой Камю, это последний круг ада, ведущий к небытию, т.е. к абсурду. Попытка преодолеть его при помощи разума иллюзорна, как и попытка обратиться к нему при помощи чувств. Чем больше мы анализируем жизнь и
104
задумываемся над ее смыслом, чем больше тренируем свой интеллект, тем более широкой и прочной становится сеть, сплетенная из логических противоречий. Чем меньше мы задумываемся над жизнью, ее смыслом и живем чувствами, предаваясь наслаждениям, тем более чувствительными мы становимся к смерти, тем сильнее боимся ее. Но это и есть абсурд. Таким образом, абсурд тотален. Абсурдный человек исчерпывает все и исчерпывается сам; абсурд есть предельное напряжение, поддерживаемое всеми его силами в полном одиночестве. Абсурд скрепляет все связи и отношения в этом мире, он приковывает одно живое существо к другому.
|
|
Человек рождается по воле случая, но уходит из мира по железной логике необходимости. И это тоже абсурд. Но если абсурдны игроки и те отношения, в которые они вступают, проживая свою жизнь, то пьесу в целом следует именовать драмой абсурда. Абсурден ее сценарий, абсурдна постановка и игра. Будь у нас выбор, мы, возможно, и не пошли бы смотреть такой спектакль. Но, однажды родившись, мы обречены досмотреть его до конца. В середине или даже в самом начале постановки зал покидают только самоубийцы. Они уже все поняли, и пьеса им не понравилась. Им хватило смелости встать и выйти. Другим ее не хватает. Страдая и мучаясь, они досиживают до конца. Возможно, это абсурд, но чувство самосохранения, которое сильнее нашего разума, этого игрока в рулетку, любителя парадоксов, спасает нас от последнего шага. Дождавшись окончания премьеры, мы вместе с толпой идем за своими вещами. Жизнь действительно представляет собой только премьеру, на которую зритель попадает не просто впервые, но единственный раз. В этом философская, биологическая и какая угодно подоплека человеческого существования. Человек живет только один раз, и перед этой истиной обесценивается любая попытка уйти со спектакля раньше времени. Ушел — значит никогда не вернулся. Это заставляет человека цепляться за жизнь, хотя она абсурдна.
Хайдеггер полагал, что человек держится этого абсурдного мира, клянет его за бренность и ищет путь среди развалин. К. Ясперс был уверен, что выход из смертельной игры нам недоступен. Ему было известно, что в конце концов разум потерпит поражение, и он подолгу останавливался на перипетиях истории духа, чтобы разоблачить банкротство любой системы, любой спасительной иллюзии, любой проповеди. В этом опустошенном мире, где доказана невозможность познания, где единственной реальностью кажется ничто, а единственно возможной установкой — безысходное отчаяние, Ясперс занят поисками нити Ариадны, ведущей к божественным тайнам. Он тем яростнее обрушивается на предрассудки разума, чем радикальнее разум объясняет мир.
Ему вторил русский философ Лев Шестов, который без конца доказывал, что даже самая замкнутая система, самый универсальный рационализм всегда спотыкается об иррациональность человеческого мышления. Иронии, иррациональности, несуразностей, глупости в мире так много, что в них, как
105
в болоте, тонет любая попытка разума окончательно навести порядок во Вселенной. Для Шестова принятие абсурда и сам абсурд единовременны. Констатировать абсурд — значит принять его, и вся логика Шестова направлена на то, чтобы выявить абсурд, освободить дорогу безмерной надежде, которая из него следует.
Своеобразным певцом, а может, аналитиком абсурда был Ф. Достоевский, романы которого не знают привычной рациональной логики, где герои совершают то, что не поддается культурной калькуляции или умышленному планированию. В его книгах нет широких проспектов и регулярных
|
|
парков, зато множество тупиков, закоулков, потаенных ходов. Общепризнано, что парадоксальная логика Достоевского, которую Эйнштейн называл «бегством от очевидного», гораздо точнее и полнее отражает реальную жизнь людей, чем логически ясные и теоретически безупречные трактаты, эссе, исследования, эксперименты.
|
|
Один из самых загадочных мыслителей Нового времени Сирен Кьеркегор на протяжении долгих лет не только искал абсурд, но и жил им. Именно он сказал парадоксальную фразу: «Подлинная немота не в молчании, а в разговоре». Он был уверен, что ни одна истина не абсолютна и не может сделать существование удовлетворительным. Всякий раз он выдумывал все новые псевдонимы и создавал всевозможные противоречия, писал одновременно «Назидательные речи» и «Дневник соблазнителя», учебник циничного спиритуализма. Он отвергал утешение, мораль, любые принципы успокоения. Абсурд, будучи метафизическим состоянием сознательного человека, не ведет к Богу. Абсурд — это грех без Бога. Пленником парадоксов и странностей задолго до него был великий Сократ, превративший иронию в главный принцип жизни.
Предметом своего пристального изучения сделали абсурд Э. Гуссерль и феноменологи, отвергавшие трансцендентное могущество разума. Гуссерль намеревался избежать «закоренелой привычки жить и мыслить в соответствии с условиями существования, которые нам хорошо известны и для нас удобны». Главный метод феноменологов эпохи предполагает воздержание от любого рассудочного суждения. Когда шумная работа нашего мышления приостанавливается, в наступившей тишине феноменологи могут услышать изначальный голос мира, каким он был до вторжения человека и его конструктивистских нововведений, называемых культурой. Сознание заключает в скобки объекты, на которые оно направлено, и они чудесным образом обособляются, оказываясь за пределами всех суждений. Именно такая ин-тенциональность характеризует сознание. Сознание не формирует познаваемый объект, оно лишь фиксирует его, будучи актом внимания. Оно после-
106
|
|
довательно высвечивает то, что лишено внутренней последовательности. В этом волшебном фонаре все образы самоценны. Абсурдный ум нацелен на перечисление того, что не в состоянии трансцендировать, и единственное его утверждение сводится к тому, что за отсутствием какого-либо объяснительного принципа мышление находит радость в описании и понимании каждого данного в опыте образа. Гуссерль как-то заявил: «Если бы мы могли ясно созерцать точные законы психических явлений, они показались бы нам столь же вечными и неизменными, как и фундаментальные законы теоретического естествознания». Во вселенной Гуссерля, полагает Камю, мир прояснился настолько, что стало бесполезным присущее человеку стремление понять его. Все эти мыслители с завидным упорством провозглашали, что нет ничего ясного, повсюду хаос, что человек способен видеть и познавать лишь окружающие его стены. Стены, прячущие от нас огромное здание абсурда.
Иначе чем Камю подходит к анализу абсурда Роуз в незавершенной книге «Царство Божие и Царство Человеческое», над которой он работал в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Его интересует прежде всего философия абсурда, но не отдельного человека, а всего человечества. Он полагает, что XX в. недаром называют веком абсурда. Поэты и драматурги, живописцы и скульпторы изображают наш мир бессвязным хаосом, а нас самих — бездушными хаотическими частицами. Политика независимо от направления и оттенка стала всего лишь ширмой, временно придающей вселенскому развалу жалкое подобие порядка. У всех в памяти самый страшный пример абсурда — фашизм, уничтоживший во имя бредовой идеи национальной чистоты миллионы людей. Один из его идеологов, Гиммлер, мог чередовать инспекцию в лагерях смерти с прослушиванием музыки И. Баха и посещением художественных выставок. И сам Гитлер был воплощенным абсурдом: невзрачный фельдфебель стал властителем мыслей и судеб десятков миллионов людей, достаточно образованных и цивилизованных. Из небытия он взмыл, по словам Роуза, к мировому господству и канул обратно в небытие, оставив за собой лишь обломки цивилизации, благодаря одному тому, что он, пустейший из людей, олицетворял пустоту своих современников. Режим Гитлера представляет собой самое совершенное политическое воплощение идеологии абсурда. Гитлеровский сюрреализм остался позади, но эпоха абсурда отнюдь не миновала. Мир просто вступил в новую фазу болезни, именуемой трагедией абсурда: неимущие начинают требовать богатства и власти; имущие прожигают жизнь в суете или гибнут от разочарования и скуки. Кажется, мир раскололся надвое: одни ведут бессмысленную и бесцельную жизнь, не сознавая этого, а другие вполне осознанно идут к безумию и самоубийству. «Мы живем в эпоху абсурда, когда несовместимые начала сосуществуют бок о бок в пределах одной человеческой души; когда ни в чем не видно смысла; когда исчез цементирующий центр и мир разваливается по частям».
107
Идеология абсурда — не просто случайный иррационализм, говорит Роуз, это — плод европейской цивилизации, сотни лет сеявшей семена затмения и предательства Христовой правды. Идеология абсурда, по существу, есть разочарованный, но нераскаявшийся гуманизм. Можно сказать, что наступила последняя фаза его диалектического развития в направлении от христианской истины, фаза, на которой гуманизм, следуя своей внутренней логике и реализуя все последствия своего первоначального предательства этой истины, обращается в собственное отрицание и становится своим кошмарным двойником — гуманизмом наизнанку. Идеология абсурда — это в первую очередь вовсе не интеллектуальное течение, не чистый атеизм, не голое утверждение, что Бога нет (хотя она может принимать и такие формы), а волевой акт, антитеизм (Де Любак видел в нем ключ к пониманию революционеров вообще), борьба против Бога и Божественного порядка вещей. Если Бог выступает родоначальником всеобщего порядка и гармонии в мире, то Сатана, считает Роуз, — родоначальником абсурда. Дьявол соблазняет людей самым притягательным для них идолом собственного Я, которого Ф. Ницше называет Сверхчеловеком, а Достоевский — Человекобогом. Ницшеанский Сверхчеловек — это наш современник, утративший чувство вины в порыве воодушевления земным лжемистицизмом, культом земных богов.
Если говорить об искусстве, то мир абсурда — это мир Ф. Кафки, Э. Ионеско, в несколько меньшей мере — некоторых авангардистских фильмов, например «Прошлый год в Мариенбаде», электронной и прочей «экспериментальной» музыки, сюрреализма во всех его проявлениях, современной живописи и скульптуры. Ионеско в своем эссе о Кафке отмечает, что если у нас больше нет путеводной нити в лабиринте жизни, значит, она нам больше не нужна. Отсюда наше ощущение вины, страха, абсурдности истории. Этот странный мир, по выражению Роуза, есть не что иное, как осязаемая «смерть Бога». Атмосферу искусства абсурда предвосхитил Ницше, а развили Кьеркегор, Сартр, Камю. Мир абсурда — это мир, где нет ни верха, ни низа, ни добра, ни зла, ни правды, ни лжи, потому что нет больше общепринятой системы отсчета, абсолютных нравственных ценностей.
Склонность к абсурду в значительной мере характеризует духовное состояние нашего современника; можно узнать много интересного, если суметь разобраться в абсурде. Но абсурд невозможно понять изнутри, пользуясь его собственными средствами; ведь понимание есть нахождение смысла, а смысл и абсурд несовместимы. Если мы хотим понять абсурд, мы должны выбрать точку зрения вовне. Нужно открыто исповедовать веру, противоположную абсурдной. Таковой, по мнению Роуза, является христианство. Христианину, располагающему согласованным учением о природе человека и потому способному различать его сокровенные мотивы, видна та принципиальная ответственность, которую предпочитает отрицать сторонник абсурда с его полным разочарования мировоззрением.
В отличие от современного искусства, часто выступающего защитником и проводником абсурда, современная наука не является его прибежищем. Напротив, она по самой своей природе враждебна идее абсурда, как всякому иррационализму. Она, как и христианство, стоит на страже вечных, непреходящих ценностей. Сродство духовных интенций науки и христианства более чем странное явление. На протяжении последней тысячи лет христианство всегда враждовало с наукой, преследовало ученых как еретиков. Ско-
108
рее оно было близко искусству, которое неустанно прославляло христианские ценности. И вдруг неожиданный поворот в XX в. Христианство отвернулось от своего верного сторонника, став другом своему заклятому врагу. Хотя Роуз и не говорит об этом, но в такой исторической странности — глубочайший парадокс современности. Он не случаен потому, что искусство эпохи модернизма и постмодерна в качестве отправной точки берет идею абсурда, иррационализма, которая никогда ранее и никогда в будущем не будет принята ни христианством, ни наукой.
Абсурдное искусство, где усматриваются отчаянная тревога и правдивое свидетельство о нашем безбожном мире, выступает объективным зеркалом нашего мира. Оно объективно потому, что своим абсурдом отображает абсурдность мира, но в то же время оно субъективно потому, что, взяв на себя функцию свидетельства греховного падения постмодерного мира, его бездуховности и анти-теизма, не дистанцируется от него, но берет на вооружение абсурд как художественный принцип изображения. Писать об абсурде, используя логику и приемы абсурда, что может быть абсурднее?! Только правда, полагает Роуз, ведет за пределы абсурда, а именно ее и нет ни в современном искусстве, ни в мире; ее-то отвергают со всей решительностью и те, кто осознанно проповедует абсурд, и те, кто бессознательно влачит абсурдную жизнь. Герой абсурдного искусства заключен в себе самом, как в темнице, оторван от других людей, неспособен на человеческие чувства и отношения; в нем нет любви, в нем только ненависть, насилие, ужас и тоска.
Природа человека, в том числе современного, устроена таким образом, что ему не нравится абсурдность мироздания. Они признает ее, но не желает с ней мириться. Поэтому современное искусство и философия, признающие абсурдность бытия и использующие для его познания столь же абсурдные средства, ставят своей целью не преумножение всеобщего зла, а, напротив, преодоление абсурда. Как сказал Ионеско, обличать абсурд — значит утверждать возможность неабсурда, прибавляя, что он постоянно ищет просвета, откровения. Атмосфера ожидания, наблюдаемая в лучших произведениях абсурдного искусства, есть не что иное, как образ переживаний современника, одинокого и разочарованного, но все-таки не потерявшего надежды. Но это означает, считает Роуз, что небытие, предполагаемый центр абсурдного мира, уже не сама суть болезни, а всего лишь ее грозный симптом. Суть же — это вера в нечто, чего ждут, но точно не знают, что именно; это таинственное нечто, которое способно снова дать жизни некий смысл. Современное искусство, отказавшись от Бога как абсолютной истины, остановилось в промежутке между путем истинного обожествления, на котором художник смиряет и распинает себя, чтобы воскреснуть и возвыситься к Богу в вечности, и ложным путем самообожествления, ведущим к сиюминутному возвышению, а затем — в бездну.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 438; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!