Гитлер — провокатор Второй мировой войны
Реализацию своих целей Гитлер не мыслил без новой мировой войны, хотя до поры до времени ему удавалось добиваться аннексий дипломатическим путем. Фюрер внушал западным державам, что его претензии ограничиваются землями с преимущественно немецким населением и их удовлетворение сделает его искренним поборником сохранения европейского мира. 26 сентября 1938 года в речи в берлинском Дворце спорта Гитлер утверждал, что требование о присоединении к Германии Судетской области — «это мое последнее территориальное требование». В этом заявлении не было ни грана правды. После аннексии Судет последовала оккупация Чехии, а затем требование о передаче Рейху Данцига, закончившееся Второй мировой войной.
В более узком кругу Гитлер был гораздо откровеннее. На совещании с руководством вермахта 23 мая 1939 года Гитлер прямо заявил: «Национальное объединение немцев, за немногими исключениями, осуществлено. Дальнейшие успехи без кровопролития достигнуты быть не могут...
Польша всегда будет стоять на стороне наших врагов. Несмотря на соглашение о дружбе, в Польше всегда существовало намерение использовать против нас любую возможность.
Данциг — не тот объект, из-за которого все затеяно. Речь для нас идет о расширении жизненного пространства на Востоке и о продовольственном обеспечении, а также о решении проблемы Прибалтики. Обеспечение продовольствием возможно только оттуда, где плотность населения мала. Наряду с повышением плодородия почв это обеспечение значительно усилится и за счет немецкого основательного хозяйствования. В Европе других возможностей не видно.
|
|
|
Колонии не стоит принимать в дар. Это — не решение продовольственной проблемы. Их легко отрезать от Рейха посредством блокады.
Если судьба толкает нас на столкновение с Западом, хорошо было бы обладать большим жизненным пространством на Востоке. Во время войны мы можем рассчитывать на рекордные урожаи еще меньше, чем в мирное время...
Экономические отношения с Россией возможны, только если улучшатся отношения политические... Не исключено, что Россия покажет себя не заинтересованной в разгроме Польши. Если Россия и впредь будет действовать против нас, наши отношения с Японией могут стать более тесными.
Союз Франция — Англия — Россия против Германии — Италии — Японии побудил бы меня нанести по Англии и Франции несколько уничтожающих ударов.
В возможность мирного улаживания конфликта с Англией я не верю. Необходимо подготовиться к столкновению. Англия видит в нашем развитии создание фундамента той гегемонии, которая обессилит ее. Поэтому Англия — наш враг и столкновение с нею — борьба не на жизнь, а на смерть.
|
|
|
Как будет выглядеть это столкновение? Англия не способна расправиться с Германией несколькими мощными ударами и сокрушить нас. Главное для Англии — скорее перенести войну поближе к Рурской области. Французскую кровь она щадить не будет. Овладение Рурской областью решает вопрос о длительности нашего сопротивления.
Голландские и бельгийские авиационные базы должны быть захвачены военной силой. На заявления о нейтралитете полагаться не следует. Если Франция и Англия при войне Германии против Польши доведут дело до своего столкновения с нами, они будут поддерживать нейтралитет Бельгии и Голландии, чтобы заставить их идти вместе с собой.
Бельгия и Голландия, хотя и протестуя, уступят этому давлению. Поэтому мы должны, если при польской войне Англия захочет вмешаться, молниеносно напасть на Голландию. Следует стремиться занять новую оборонительную линию на голландской территории до Зюйдерзее. Война с Англией и Францией будет войной не на жизнь, а на смерть.
Намерение дешево откупиться опасно; такой возможности нет. Надо сжечь за собой все мосты, ведь дело пойдет не о праве или произволе, а о том, быть или не быть 80 миллионам человек.
|
|
|
Вопрос: короткая или долгая война?
И военные, и государственные руководители всегда стремятся к войне короткой. Но государственные руководители должны настроить себя и на войну продолжительностью 10—15 лет... Каждое государство будет держаться сколько сможет, если только сразу же не наступит его резкого ослабления (например, из-за потери Рурской области). У Англии тоже есть подобные слабые места. Англия знает, что неудачный исход войны означает конец ее мирового могущества...
Необходимо стремиться к тому, чтобы в самом начале нанести противнику уничтожающий удар. При этом вопрос о праве или произволе, равно как и ссылки на договора никакой роли не играют...
Наряду с внезапным нападением следует готовить длительную войну с уничтожением английских возможностей на континенте...
Проблема Польши неотделима от столкновения с Западом. Внутренняя прочность Польши в борьбе с большевизмом сомнительна. Поэтому и Польша тоже — сомнительный барьер от России. Военное счастье на Западе, которое может повлечь быстрое окончание войны, стоит под вопросом, так же как и поведение Польши. Перед нажимом России польский режим не устоит. В победе Германии над Западом Польша видит опасность для себя и попытается нас этой победы лишить.
|
|
|
Поэтому вопрос о том, чтобы пощадить Польшу, отпадает, и остается решение при первом же подходящем случае на нее напасть. О повторении Чехии нечего и думать. Дело дойдет до борьбы. Задача — изолировать Польшу. Удача изоляции Польши имеет решающее значение... Нельзя допустить одновременного столкновения с Западом (Францией и Англией).
Если же уверенности в том, что в процессе германо-польского конфликта война с Западом будет исключена, нет, борьба должна вестись в первую очередь против Англии и Франции.
Столкновение с Польшей, начинаемое нападением на нее, может привести к успеху только в том случае, если Запад останется вне игры. Если это невозможно, тогда лучше напасть на Запад и при этом одновременно ликвидировать Польшу».
Чтобы гарантировать победу над Польшей и исключить возможность антигерманского блока Англии, Франции и СССР, Гитлер, как известно, пошел на заключение с СССР пакта о ненападении и разделе Восточной Европы на советскую и германскую сферы влияния. Как вспоминал бывший германский министр вооружений Альберт Шпеер, в начале августа 1939 года, «как бы беседуя сам с собой, Гитлер неожиданно сказал: «Возможно, что скоро произойдут великие события! Даже если мне понадобится для этого послать туда самою Геринга... В случае необходимости я и сам поеду. Я ставлю все на эту карту»... Через три недели, 21 августа 1939 года, мы услышали, что наш министр иностранных дел будет нести переговоры в Москве. Во время ужина Гитлеру подали записку. Он быстро пробежал ее глазами, лицо его побагровело. Устремив на какое-то мгновение глаза в пространство, он стукнул рукой по столу с такой силой, что зазвенели бокалы. «Теперь они у меня в руках! Теперь они мои!» — вскричал Гитлер срывающимся голосом... Когда с едой было покончено, Гитлер пригласил гостей к себе. «Мы заключаем с Россией договор о ненападении. Вот читайте! Это телеграмма от Сталина». В телеграмме, адресованной на имя рейхсканцлера Гитлера, сообщалось о достигнутом соглашении».
В этой телеграмме, отправленной из Москвы вечером 23 августа, Риббентроп сообщал, что трехчасовая встреча со Сталиным проходила «положительно в нашем духе» и что последним препятствием к достижению соглашения является требование русских признать порты Винда-ва (Вентспилс) и Либава (Лиепая) сферой их интересов. Гитлер немедленно дал согласие на требуемую уступку и уже не сомневался, что договор будет подписан.
Ранее, пытаясь склонить западные державы к компромиссу в данцигском вопросе, Гитлер 11 августа 1939 года заявил комиссару Лиги Наций по Данцигу швейцарцу Карлу Якобу Буркхардту: «Все, что я предпринимаю, направлено против России; если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, то я буду вынужден договориться с русскими для удара по Западу, а затем после его разгрома я направлю все свои объединенные силы против Советского Союза. Мне нужна Украина, чтобы нас снова не уморили голодом, как в последней войне». На самом деле гораздо больше надежд в тот момент фюрер возлагал на достижение соглашения со Сталиным о разделе Польши.
И 22 августа 1939 года, когда вопрос о советско-германском пакте был уже предрешен, Гитлер, выступая перед высшим командным составом вермахта, продекламировал цели будущей войны: «Образование Великой Германии было с практической точки зрения великим свершением (имеется в виду мирное присоединение к Рейху Австрии и Чехии. — Б. С.), но в военном отношении оно внушало опасения, ибо было достигнуто с помощью блефа со стороны политического руководства. Необходимо испробовать военную силу. И если возможно, для генерального сведения счетов, а не для решения отдельных задач.
Отношения с Польшей стали невыносимыми. Моя политика в отношении Польши, проводившаяся до сих пор, противоречила воззрениям нашего народа. Принятию моих предложений Польшей (Данциг, «коридор») препятствовало вмешательство Англии. Польша сменила свой тон по отношению к нам. Состояние напряженности на длительный срок нетерпимо. Инициатива не должна перейти в другие руки. Сейчас момент благоприятнее, чем через два-три года... Нельзя же вечно стоять друг против друга с винтовкой на боевом взводе. Предложенное нами компромиссное решение потребовало бы от нас изменения нашего мировоззрения, жестов доброй воли. С нами снова заговорили бы на языке Версаля. Возникла опасность потери престижа. Вероятность того, что Запад не выступит против нас, еще велика. Мы должны с безоглядной решимостью пойти на риск... Мы стоим перед лицом суровой альтернативы: либо нанести удар, либо рано или поздно нас уничтожат...
У Запада есть только две возможности бороться против нас: блокада, но она будет неэффективна ввиду нашей автаркии, а также потому, что мы имеем дополнительные источники сырья и продовольствия на Востоке, и нападение с «линии Мажино», которое я считаю неэффективным.
Имелась бы еще возможность нарушения нейтралитета Голландии, Бельгии и Швейцарии. У меня нет никаких сомнений, что все эти страны, а также Скандинавия защищали бы свой нейтралитет всеми средствами. Англия и Франция нейтралитета этих стран не нарушат. Значит, фактически Англия Польше помочь не сможет. Остается еще нападение на Италию. Военное вмешательство исключено. На длительную войну никто не рассчитывает. Если бы господин Браухич сказал мне, что мне потребуется четыре года, чтобы захватить Польшу, я бы ему ответил: так дело не пойдет! Когда кто-то говорит, что Англия хочет продолжительной войны, это бред!
Мы будем сдерживать Запад до тех пор, пока не захватим Польшу. Мы должны сознавать наши огромные производственные возможности. Они гораздо больше, чем в 1914-1918 годы.
Противник все еще надеялся, что после завоевания нами Польши Россия выступит как наш враг. Но противники не учли моей способности принимать нестандартные решения. Наши противники — мелкие черви. Я видел их в Мюнхене...
Англия и Франция приняли на себя обязательство, но ни та, ни другая выполнить его не в состоянии. В Англии никакого фактического вооружения нет, одна пропаганда... Существенного усиления английского флота раньше 1941-го или 1942 года ожидать не приходится...
Во Франции нехватка людей из-за падения рождаемости. В области вооружения сделано мало. Артиллерия устарела. Франция не хочет влезать в эту авантюру...
Я был убежден, что Россия никогда не пойдет на английское предложение. Россия не заинтересована в сохранении Польши, а потом, Сталин знает, что режиму его в случае войны настанет конец, независимо от того, выйдут его солдаты из войны победителями или побежденными. Решающее значение имела замена Литвинова. Поворот в отношении России я провел постепенно. В связи с торговым договором мы вступили в политический разговор. Предложение пакта о ненападении. Затем от России поступило универсальное предложение (пакт плюс секретные протоколы. — Б. С.). Четыре дня назад я предпринял особый шаг, который привел к тому, что вчера Россия ответила, что она готова на заключение пакта. Установлена личная связь со Сталиным. Фон Риббентроп послезавтра заключит договор. Итак, Польша находится в том состоянии, в каком я хотел ее видеть.
Нам нечего бояться блокады. Восток поставляет нам пшеницу, скот, уголь, свинец, цинк... Боюсь только одного: как бы в последний момент какая-нибудь свинья не подсунула мне свой план посредничества... После того как я осуществил политические приготовления, путь солдатам открыт...
На первом плане — уничтожение Польши. Цель — устранение живой силы, а не достижение определенной линии. Если разразится война на Западе, уничтожение Польши останется на первом плане. С учетом времени года — быстрое решение.
Я дам пропагандистский повод для развязывания войны — все равно, достоверен он или нет. У победителя потом не спрашивают, сказал он правду или нет. В начале и в ходе войны важно не право, а победа.
Закрыть сердце для жалости. Жестокость. 80 миллионов человек должны получить свое право. Их существование должно быть обеспечено. Прав тот, кто сильнее».
Фюрер верил в превосходство германского оружия. И надеялся, что противников удастся бить поодиночке. И еще Гитлер полагал, что выбрал самый подходящий момент для нападения, когда его противники ни морально, ни материально к большой войне не готовы.
Гитлер — полководец
Надежда на то, что Англия и Франция не смогут быстро предпринять активных действий против Германии во время вторжения в Польшу, и расчет на советское содействие в оккупации этой страны побудили Гитлера изменить первоначальные намерения. Он решил сперва разделаться с Польшей и лишь затем перейти в наступление на Западе. Это обеспечило быстрый разгром Польши, но, возможно, затянуло на полгода крах Франции. Трудно предположить, создала бы реализация «французской альтернативы» более благоприятные для Германии условия ведения войны. В этом случае победа над Францией, скорее всего, была бы достигнута еще осенью 1939 года. Однако далеко не факт, что при таком развитии событий удалось бы уничтожить британский экспедиционный корпус. Очень вероятно, что тогда англичане вообще не успели бы высадиться на континенте. А если бы высадились, то оказались бы ближе к портам, чем в июне 1940 года, а значит, им было бы легче эвакуироваться обратно на Британские острова. В любом случае германское наступление на Западе еще в сентябре 1939 года не могло привести к поражению Англии. Равным образом и более позднее наступление в конце октября или в ноябре, как первоначально планировал Гитлер после краха Польши, которое оказалось невозможным из-за неблагоприятных погодных условий, не могло сокрушить главного противника Германии. Люфтваффе в тот момент было еще очень слабым по сравнению с летом 1940 года и не имело реальной возможности помешать эвакуации английского экспедиционного корпуса, а затем обеспечить высадку немецкой армии на Британские острова. Германский военный флот осенью 1939 года был немного сильнее, чем летом 1940 года, поскольку еще не понес тяжелых потерь в ходе норвежской операции. Однако и тогда он был на порядок слабее британского, чтобы всерьез надеяться обеспечить с его помощью реализацию плана «Морской лев» — высадку нескольких десятков дивизий на Британские острова. У немцев не хватало и транспортных судов для столь масштабной десантной операции. Кстати сказать, даже при условии разгрома Франции еще осенью 1939 года погодные условия не позволили бы осуществить высадку на Британские острова ранее мая 1940 года. Думаю, что при таком развитии событий Гитлер в конечном счете обратил бы свои взоры на Восток. Каким бы тогда оказался сценарий дальнейшего хода войны?
Оставшись один на один с победившей Францию Германией, Польша, скорее всего, попыталась бы все-таки найти взаимопонимание с Советским Союзом. Не исключено, что тогда поляки пошли бы на союз со Сталиным, как это сделал румынский король в 1944 году, свергнув маршала И. Антонеску. И Сталин, скорее всего, пошел бы на такой союз, чтобы не оставаться с победоносным Рейхом один на один. Замечу, что в этом случае геополитическое положение Советского Союза было бы даже более благоприятным, чем в июне 1941 года. Вряд ли к тому времени Сталин успел бы осуществить агрессию против Финляндии и оккупацию румынских Бессарабии и Северной Буковины, равно как и оккупацию Прибалтийских стран. В этом случае СССР мог бы рассчитывать на нейтралитет Финляндии и Румынии, а страны Балтии, возможно, даже заключили бы с ним оборонительный союз против Германии.
Кстати сказать, при таких обстоятельствах далеко не факт, что Гитлер решился бы атаковать Польшу и Советский Союз еще весной—летом 1940 года. Вполне возможно, что он предпочел бы подождать развертывания новых дивизий вермахта, особенно танковых, и усиления люфтваффе — и отложил бы войну на Востоке до 1941 года. Тогда бы примерно повторился реальный сценарий плана «Барбаросса», за тем исключением, что на стороне вермахта, вероятно, не было бы финских и румынских дивизий, а вместе с Красной Армией сражались бы польские дивизии. Вероятно, советские и польские войска все равно бы потерпели поражение, но оно не было бы столь всеобъемлющим, как реальная катастрофа 1941 года. И тогда, вполне возможно, перелом на Восточном фронте в пользу Красной Армии был бы достигнут уже в 1942-м, а не в 1943 году.
Но мог реализоваться и другой сценарий: Гитлер рискнул бы напасть на Польшу и СССР еще весной или в начале лета 1940 года. В этом случае вермахт конечно же был бы слабее, чем год спустя, и располагал бы значительно меньшим числом танков и самолетов. Правда, в таком случае Гитлер, вероятно, не стал бы оккупировать Норвегию и Балканы и туда не пришлось бы отвлекать значительную часть германских вооруженных сил, которые можно было бы использовать в Восточном походе. А что же Красная Армия? Весной 1940 года она еще не имела на вооружении танков Т-34 и KB, а также самолетов новых конструкций, по своим тактико-техническим характеристикам способных противостоять германским истребителям Me-109. Но надо признать, что и в 1941 году наши бойцы и командиры не смогли использовать новейшую технику должным образом, так как еще не научились уверенно управлять ею. Поэтому наличие новых танков и самолетов у советской стороны почти никак не повлияло на ход боевых действий в 1941 году. Соответственно их отсутствие в 1940-м также не могло существенным образом осложнить положение Красной Армии. В значительной мере отсутствие новейших видов боевой техники было бы компенсировано наличием союзных польских дивизий, а также тем немаловажным обстоятельством, что на стороне Германии не было бы румынских и финских дивизий. Так что решение Гитлера отказаться от первого удара по Франции и расправиться, по классическим канонам стратегии, сначала со слабейшим противником — Польшей, никак нельзя признать ошибочным.
Даже если бы каким-нибудь чудом план «Барбаросса» удалось полностью осуществить, это все равно не привело бы Гитлера к конечной победе во Второй мировой войне. Предположим — только предположим, ибо шансов на реальное воплощение такого сценария не было никаких, — что немецкие войска в ходе кампании 1941 года и еще до начала распутицы, то есть до середины октября, достигли бы вожделенной линии А — А: Архангельск — Астрахань, что было заявлено конечной целью операции «Барбаросса». Подчеркну, что это было бы просто чудом, поскольку требовало таких темпов продвижения вермахта, которые не были достигнуты ни разу не только в ходе французской и польской кампаний, но даже при самых успешных боевых действиях в России в 1941 году. На самом деле для этого требовался полный крах сталинского режима, что никак нельзя было предвидеть заранее. Так вот, вообразим себе, что формальная цель плана «Барбаросса» достигнута и германские войска, значительно продвинувшись к востоку от Москвы, сталкиваются только с разрозненным сопротивлением остатков Красной Армии, не способных к наступательным операциям, и действиями партизан. Подобный сценарий реализован в фантастическом романе Роберта Харриса «Фатерланд», более известном по одноименному голливудскому фильму. Но ведь даже победа в России сама по себе не гарантировала Германии выигрыш войны в целом. Ведь оставалась еще Британская империя, а за ней — Соединенные Штаты.
Только в случае поражения СССР, возможно, исход войны пришлось бы решать применением американской атомной бомбы не против Японии, а против Германии. Британские острова Гитлер бы все равно захватить не смог из-за отсутствия достаточных сил авиации и флота. Да и поражение СССР и в случае разгрома Франции еще в 1939 году выглядит маловероятным. Ведь при таком развитии событий Британской империи пришлось бы, в борьбе за свое существование, помогать Советскому Союзу всеми имеющимися средствами. Да и США вряд ли бы остались в стороне и, вполне возможно, вступили бы в войну на год раньше, еще в 1940 году.
Гитлер был прав, что Англия в 1939 году была не готова к затяжной войне. Но фюрер не учел того, что практически неисчерпаемые ресурсы Америки очень быстро будут брошены на чашу весов Британской империи.
1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Выступая в рейхстаге в этот день, Гитлер заявил: «Не хочу ничего иного, кроме как быть первым солдатом Германского Рейха. Вот почему я снова надел тот мундир (времен Первой мировой войны), который издавна был для меня самым святым и дорогим. Я сниму его только после победы, ибо поражения я не переживу». Но теперь он вступал в войну не простым солдатом, а Верховным главнокомандующим.
В первые дни войны Гитлер выдвинул лозунг: «Победа будет за нами». И потом не раз повторял его как магическое заклинание. Однако сам он далеко не был уверен в победе, о чем не раз говорил на совещаниях с министрами и генералами. Так, 23 ноября 1939 года, после победы над Польшей и в период интенсивной подготовки вторжения во Францию, Гитлер заявил: «Пусть всех нас вдохновляет дух великих мужей нашей истории! Судьба требует от нас не большего, чем от них. И пока я жив, я буду думать о победе моего народа. Я не остановлюсь ни перед чем, я уничтожу каждого, кто против меня... Я хочу уничтожить врага. За мной — весь германский народ... Только тот, кто борется с судьбой, может рассчитывать на помощь Провидения. За последние годы я не раз переживал это. И в нынешнем ходе событий я тоже вижу его волю.
Если мы победоносно выстоим в борьбе.— а мы выдержим ее! — наше время войдет в историю нашего народа. Я выстою или паду в этой борьбе. Поражения моего народа я не переживу. Никакой капитуляции вне страны, никакой революции — внутри ее».
Все надежды на успех Гитлер связывал с тем, что каждого из противников удастся разгромить быстро, в ходе всего одной военной кампании. Тогда на помощь очередной жертве не успеют прийти ее реальные и потенциальные союзники. Уже 27 сентября 1939 года, когда сопротивление польской армии фактически прекратилось, Гитлер заявил своим генералам, что еще до конца осени намерен начать большое наступление на Западе, даже если такое решение противоречит соображениям чисто военного характера. Как вспоминал А. Йодль в Нюрнбергской тюрьме, «командующий сухопутными войсками был не согласен с этим. Он хотел перейти к обороне на границе и у Западного вала приостановить течение войны. Он пытался прикрыть это свое желание военными причинами, и прежде всего — недостаточной готовностью армии к задачам такого гигантского масштаба... Все генералы воспротивились планам Гитлера. Но им это не помогло».
На том же совещании 27 сентября 1939 года Гитлер цинично оправдывал необходимость нарушения нейтралитета Бельгии, Голландии и других стран: «Если учитывать только требования разума, то продолжать войну не следует. Аргументы — за это. Опасно заранее считать эту надежду действительностью. Диктует не разум, а интересы страны и вопросы престижа. Их трудно оценить. Привыкнуть к мысли, что война продолжается!.. Какой будет обстановка через шесть месяцев, предусмотреть невозможно. Договоры также не являются твердой основой для оценки обстановки! Интересы государства выше договоров. Вечно действует лишь успех, сила...
Великие державы видят в нас большую опасность, силу, способную изменить европейский статус-кво. Война, которую мы вели до сих пор, усилила страх и уважение к нам. Любви к Германии нет. Это надо учитывать.
Нет уверенности, будет ли воля к нейтралитету через шесть, восемь или десять месяцев так же сильна, как теперь, под впечатлением немецких побед. Англия попыталась работать против нас. Поэтому нет уверенности в том, как будут развиваться события. Со временем наступит ухудшение. «Время» будет работать в общем против нас, если мы его сейчас же полностью не используем. Экономический потенциал противной стороны сильнее. Противник в состоянии закупать и перевозить. В военном отношении время работает также не на нас... Любые исторические победы бледнеют, если не обновляются... Наша военная промышленность не полностью покрывает потребности вооруженных сил. В будущем соотношение материальных возможностей будет изменяться не в нашу пользу. Постепенно противник усилит свою оборонную мощь».
Вопреки распространенному впоследствии мнению, фюрер с самого начала прекрасно понимал, что время работает не на Германию. Он не сомневался, что рано или поздно среди противников Германии окажутся Россия и США. А ведь уже ресурсы Англии и Франции с их огромными колониальными империями и мощными флотами далеко превосходили ресурсы Рейха. Поэтому единственный шанс на победу Гитлер видел в осуществлении стратегии блицкрига. Она не даст германскому народу устать от войны. Но еще важнее то, что при блицкриге можно победить быстро, не оставив противникам времени использовать весь свой потенциал. Гитлер играл ва-банк. Сейчас или никогда! Если не использовать шанс последнего прыжка к мировому господству, потенциальные противники через несколько лет смогут разглядеть действительную опасность национал-социализма и объединенными усилиями остановят германскую экспансию.
Тогда же Гитлер требовал: «Не ждать, пока противник придет сюда, а нанести удар в западном направлении, если мирное урегулирование будет невозможно. Чем быстрее, тем лучше. Не ждать, пока противник упредит, а самим немедленно перейти в наступление... Самые решительные методы и средства. Однажды утерянное время в дальнейшем невосполнимо».
По свидетельству А. Шпеера, уже тогда фюрер допускал возможность поражения Германии: «В первые недели войны я услышал, не знаю, в какой связи, как Гитлер говорил гипотетически о «конце Германии». Гитлер сознавал весь риск затеянного им предприятия под названием «Вторая мировая война», но, как азартный игрок, шел ва-банк, все поставив на карту блицкрига. Собственно, альтернативы достижения мирового господства у него не было. Как зафиксировал Шпеер в тюремном дневнике 21 декабря 1946 года, «уже перед самым началом войны в конце августа 1939 года, после решения напасть на Польшу, Гитлер сказал ночью на террасе в Оберзальцберге, что Германия вместе с ним рухнет в пропасть, если война не будет выиграна. Он добавил, что на этот раз будет пролито много крови». А германской кровью фюрер дорожил гораздо больше, чем кровью «расово неполноценных» народов и стремился потери вермахта сделать минимальными, чтобы сохранить его как эффективный инструмент ведения войны и не допустить падения боевого духа германского народа.
Не случайно 6 октября 1939 года, выступая в рейхстаге по завершении польского похода, Гитлер подчеркивал свое стремление к минимизации германских потерь, утверждая, что только благодаря такому стремлению остатки польской армии смогли до 1 октября удерживать укрепления Варшавы, Модлина и косы Хель. Также и в речи в Мюнхене 8 ноября 1942 года, в разгар кровопролитного сражения за Сталинград, он утверждал, что медленное продвижение немецких войск к Волге объясняется желанием избежать здесь мясорубки, подобной Вердену, равно как длительная осада Севастополя призвана была предотвратить большие потери в немецких войсках.
Только в последние месяцы войны, когда поражение Германии было уже очевидно для всех, мотив жертвенности стал преобладать в гитлеровских речах. Так, 7 октября 1944 года фюрер обратился с посланием к членам Гитлерюгенда, добровольно отправившимся на фронт: «Моя молодежь! Я с радостью и гордостью узнал о вашем желании уйти на фронт добровольцами всем классом 1928 года рождения. И в этот решающий для Рейха час, когда над нами нависла угроза ненавистного врага, вы дали нам всем вдохновляющий пример боевого духа и безоглядной преданности делу победы, каких бы жертв это от вас ни потребовало... Нам известны планы врагов, направленные на безжалостное уничтожение Германии. Именно по этой причине мы будем сражаться еще более преданно во имя Рейха, в котором вы сможете с честью трудиться и жить... Жертвы, принесенные нашим героическим юным поколением, найдут свое воплощение в победе, которая обеспечит нашему народу, национал-социалистическому Рейху гордое и свободное развитие».
Но первой военной осенью Гитлеру еще казалось, что победы можно достичь малой кровью. 9 октября 1939 года он издал приказ о наступлении на Западе: «Дальнейшее выжидание приведет не к отказу Бельгии и Голландии от благоприятного для наших западных противников нейтралитета, а в значительной мере усилит военную мощь наших врагов, лишит нейтральные страны веры в окончательную победу Германии и не будет способствовать привлечению Италии на нашу сторону в качестве военного союзника... В связи с этим для продолжения военных действий приказываю...
А. Подготовить наступательную операцию на северном фланге Западного фронта на территории Люксембурга, Бельгии и Голландии. Наступление должно быть начато максимальными силами и в возможно кратчайшие сроки.
Б. Целью операции должен стать разгром максимального количества оперативных соединений французской армии и воюющих на ее стороне союзников и одновременный захват как можно большей территории Голландии, Бельгии и Северной Франции в качестве плацдарма для развертывания воздушных и морских действий против Англии и обеспечения жизненно важной Рурской области».
Но планы Гитлера скорректировала погода. Как отмечал впоследствии Йодль, «сильнее Гитлера оказался только бог природы. Похолодание так и не наступило. Пришлось ожидать сухой весны. Дата 10 мая 1940 года была выбрана правильно. Гитлер наметил направление прорыва через Мобеж на Аббевиль. Планы Генерального штаба по охвату противника он сломал путем поначалу осторожного, а потом все более настойчивого и бесцеремонного вмешательства в оперативное руководство». Гитлер поддержал план Манштейна нанести главный удар в Южной Бельгии, в том числе в считавшихся непроходимыми для танков Арденнах, тогда как руководство сухопутной армии собиралось, как и в Первой мировой войне, нанести главный удар в Северной и Центральной Бельгии. В итоге была доказана правота Гитлера и Манштейна. Германские танки смогли преодолеть Арденнский массив и нанесли удар там, где французское командование его не ожидало.
Гитлер также был инициатором и непосредственным руководителем норвежской операции, проходившей при тесном взаимодействии сухопутной армии, флота и люфтваффе. Ему удалось преодолеть скептицизм военных, и, несмотря на большие потери флота, операция завершилась полным успехом.
Вопреки распространенному мнению, нельзя считать ошибкой Гитлера и нападение на Россию. Еще 23 ноября 1939 года, выступая перед руководством вермахта, фюрер утверждал: «Сейчас фронт на Востоке удерживается всего несколькими дивизиями... Россия в данный момент не опасна. Она ослаблена многими внутренними обстоятельствами. К тому же с Россией у нас есть договор. Договора соблюдаются столь долго, сколь долго это является целесообразным... Сейчас у России далеко идущие цели, прежде всего — укрепление своей позиции на Балтийском море (неделю спустя Красная Армия вторглась в Финляндию. — Б. С.). Мы сможем выступить против России только тогда, когда у нас освободятся руки на Балтике. Далее, Россия желает усиления своего влияния на Балканах и направляет свои устремления к Персидскому заливу, а это отвечает и интересам нашей политики... В данный момент интернационализм отошел для нее на задний план. Если Россия от него откажется, она перейдет к панславизму. Заглядывать в будущее трудно. Но фактом является то, что в настоящее время боеспособность русских вооруженных сил незначительна. На ближайшие год или два нынешнее состояние сохранится... Время работает на нашего противника. Сейчас сложилось такое соотношение сил, которое для нас улучшиться не может, а может только ухудшиться». Уже в тот момент Советский Союз рассматривался Гитлером как опасный потенциальный противник Германии.
После победы над Францией Гитлер уверовал в собственный полководческий гений. Как утверждает Шпеер, Гитлер не раз говорил, что Германия проиграла Первую мировую войну прежде всего из-за отсутствия в стране политического единства, а также еще и потому, что «во главе войск стоял малоспособный главнокомандующий Вильгельм II... Затем Гитлер с удовольствием констатировал, что сейчас в Германии царит единство, отдельные земли и провинции ничего не значат, а на высших командных должностях стоят самые талантливые офицеры, независимо от их происхождения. Все дворянские привилегии ликвидированы. Политика, вооруженные силы и нация представляют собой единое целое. Во главе государства стоит он. С помощью его силы воли и энергии можно будет преодолеть все грядущие трудности.
Весь успех западной кампании Гитлер приписывал себе. Военные планы были его планы. «Я постоянно перечитывал, — уверял Гитлер при случае, — книгу полковника де Голля о возможностях современного метода ведения войны моторизованными войсками и учился по этой книге».
После того как летом 1940 года люфтваффе проиграло «Битву за Британию» и высадку на Британские острова пришлось отложить на неопределенный срок, все силы были брошены на подготовку войны против России. 9 января 1941 года Гитлер предупредил руководителей вермахта: «Высадка в Англии возможна только тогда, когда будет завоевано полное господство в воздухе и в самой Англии наступит определенный паралич. Иначе это преступление». Тогда же он заявил: «Сталин, властитель России, — умная голова, он не станет открыто выступать против Германии, но надо рассчитывать на то, что в тяжелых для Германии ситуациях он во всевозрастающей мере будет создавать нам трудности. Он хочет вступить во владение наследством обедневшей Европы, ему также нужны успехи, его воодушевляет натиск на Запад. Ему также совершенно ясно, что после нашей победы положение России станет очень трудным.
Англичан поддерживает возможность русского вступления в войну. Будь эта последняя континентальная- надежда разрушена, они бы прекратили борьбу... Если англичане продержатся, если они сумеют сформировать 40—50 дивизий и им помогут США и Россия, для Германии возникнет очень тяжелое положение. Этого произойти не должно. До сих пор я действовал по принципу: чтобы сделать следующий шаг, надо разбить важнейшие вражеские позиции. Вот почему надо разбить Россию. Тогда либо англичане сдадутся, либо Германия продолжит войну против Британской империи при самых благоприятных условиях. Разгром России позволил бы и японцам все свои силы развернуть против США, а это удержало бы США от вступления в войну».
А накануне самоубийства фюрер, по воспоминаниям главы Гитлерюгенда Артура Аксмана, так объяснял мотивы нападения на Россию: «Вдруг из своей комнаты вышел Гитлер. Он был в сером пиджаке, на лацкане которого были золотой знак партии и Железный крест 1-го класса, в черных брюках навыпуск, в мягких ночных туфлях... Шел он медленно, волоча ногу и словно бы не глядя ни на кого...
Гитлер движением руки пригласил меня сесть и сел сам. Сначала мы молчали. У меня в голове роилось много вопросов, но я никак не мог собраться и начать разговор.
Мы говорили о войне с Россией, и Гитлер доказывал, что ни одно из решений, принятых им во время войны, не было серьезнее решения напасть на Россию, хотя он мучительно обдумывал опыт Наполеона.
У нас не было выбора, пояснял мне Гитлер, мы должны были выбросить Россию из европейского баланса сил. Само ее существование было угрозой для нас. К тому же мы боялись, что Сталин проявит инициативу раньше, причем в катастрофических для нас условиях. Мы не сумели оценить силу русских и все еще мерили их на старый лад.
Мы были одни в помещении, никто не проходил во время разговора. Слышалось лишь приглушенное жужжание вентиляторов, да иногда доносилась, как нам казалось, далекая стрельба. После небольшой паузы Гитлер сообщил мне, что он завтра уходит из жизни.
«Я буду с вами», — ответил я ему. «Нет, — решительно сказал он, — ваше место среди живых...» Затем он с трудом поднялся, попрощался и, согнувшись, ушел в свою комнату. Больше я его никогда не видел».
Гитлер хорошо понимал трудности, связанные с войной против России. На совещании со своими генералами 30 марта 1941 года он отметил, что величина российской территории сама по себе представляет трудноразрешимую проблему, что у Красной Армии больше всех в мире танков, что у нее очень сильная в количественном отношении авиация, а также что союзники Германии не оставляют никаких иллюзий насчет собственной боеспособности.
А 15 апреля 1945 года, за две недели до конца, фюрер так обосновал в беседе с Борманом свое решение 1940 года напасть на Советский Союз: «Нам не оставалось никакого иного выбора... Нашим единственным шансом победить Россию было упредить ее нападение, ибо оборонительная война против Советского Союза являлась для нас не подлежащей обсуждению. Мы никоим образом не имели права предоставить Красной Армии территориальные преимущества, дать ей воспользоваться нашими автострадами для натиска красных танков, нашими железными дорогами — для переброски ее войск и техники... Уже с этого момента (подписания советско-германского пакта о ненападении. — Б. С.) я знал, что Сталин рано или поздно отпадет и перейдет в лагерь союзников. Должен ли я был выжидать и дальше, чтобы получше вооружиться?.. Мы дорого заплатили бы за отсрочку на неопределенное время. Нам пришлось бы уступить большевистским попыткам оказать вымогательское давление в отношении Финляндии, Румынии, Болгарии и Турции. Об этом не могло быть и речи».
Показательно, что перед смертью Гитлер не стал повторять им же санкционированную официальную пропагандистскую ложь об операции «Барбаросса» как о «превентивной войне», а честно признался, что напал на Россию как на опасного геополитического соперника, который когда-нибудь в будущем (но отнюдь не в 1941 году) может напасть на Германию, особенно если для Рейха сложится критическая ситуация, — скажем, в результате вступления в войну США и высадки западных союзников на Европейский континент.
31 июля 1940 года Гитлер впервые поделился с командованием германской армии конкретными планами нападения на СССР: «Надежда Англии — Россия и Америка. Если рухнут надежды на Россию, Америка также отпадет от Англии... Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду. Тогда господствовать в Европе и на Балканах будет Германия. В соответствии с этим рассуждением Россия должна быть ликвидирована. Срок — весна 1941 года».
Но против войны с Россией возражали руководители вермахта: Геринг, Мильх, Редер... Начальник Генерального штаба сухопутных сил Франц Гальдер предупреждал, что план «Барбаросса» — рискованный с военной точки зрения. Кейтель, когда узнал о твердом намерении фюрера вторгнуться в Россию (а это произошло 31 июля 1940 года; с Йодлем же Гитлер обсуждал эту тему еще в конце июня), выразил крайнюю обеспокоенность этой идеей. В Нюрнбергской тюрьме фельдмаршал вспоминал: «Оказалось, Гитлер уже поручил главнокомандующему сухопутными войсками сосредоточить большое число дивизий в генерал-губернаторстве (в оккупированной немцами части Польши, не включенной в состав Рейха. — Б. С), а также произвести расчет времени, необходимого для развертывания войск против сконцентрированных в Прибалтике и в Буковине значительных русских контингентов, внушавших фюреру сильное подозрение насчет советских планов.
Я сразу же привел контрдовод: 40—50 дивизий и крупные силы нашей авиации заняты в Норвегии, Франции и Италии, и мы не можем высвободить их оттуда, следовательно, нам будет не хватать их для войны с Востоком. Без них же мы окажемся для этой войны слишком слабы. Гитлер немедленно возразил: это не причина, чтобы не предотвратить грозящую опасность: он уже приказал Браухичу удвоить число танковых дивизий. В заключение фюрер добавил: я создал сильную армию не для того, чтобы она оставалась не использованной для войны. Сама собой война не окончится, англичан он весной 1941 года сухопутными войсками атаковать уже не сможет и высадка в Англии в том году неосуществима...
На следующий день я попросил у фюрера короткой аудиенции, намереваясь задать ему вопрос насчет причин, заставляющих его оценить положение с Россией как угрожающее. Он, если обобщить, сказал, что никогда не упускал из вида неизбежность столкновения между обоими диаметрально противоположными мировоззрениями, что в возможность уклониться от этого столкновения не верит, а потому лучше, чтобы эту трудную задачу он взял на себя, а не оставил своему преемнику. В целом же, как он считает, имеются все признаки того, что Россия готовится к войне с нами, поскольку она вышла далеко за рамки, касающиеся Прибалтики и Бессарабии, пользуясь тем, что наши войска связаны на Западе. Пока он намерен осуществить лишь меры предосторожности, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, а решение примет не ранее, чем его подозрения подтвердятся.
На мое возражение, что наши силы уже заняты на других театрах войны, Гитлер ответил: он хочет переговорить с Браухичем о перераспределении сил и средств, а также о замене частей во Франции...
Несколько дней спустя я после обсуждения обстановки передал написанную от руки памятную записку фюреру; он пообещал по ознакомлении с нею переговорить со мной. Напрасно прождав несколько дней, я напомнил ему и был приглашен на послеобеденное время. Разговор свелся к... нотации Гитлера, заявившего, что мои соображения его никоим образом не убедили, а моя оценка стратегической обстановки — неправильна. Неверна и моя ссылка на прошлогодний договор с Россией: Сталин так же, как и он сам, не станет больше соблюдать его, если положение изменится и предпосылки для соблюдения договора исчезнут. Ведь Сталин заключил этот договор для того, чтобы при разделе Польши обеспечить свою долю, а во-вторых, чтобы побудить нас к войне на Западе, рассчитывая, что мы там крепко вгрыземся в землю и понесем тяжелые, кровавые жертвы. Этот выигрыш времени и израсходование нами своей силы Сталин хочет использовать против нас, чтобы тем легче поставить Германию на колени.
Я был весьма обескуражен суровой критикой и тем тоном, каким все это мне выговаривалось, и сказал: в таком случае лучше заменить другим начальником, способность которого к стратегическим оценкам он считает выше моей. Поэтому я чувствую себя не на высоте своего положения и прошу использовать меня на фронте. Гитлер самым резким тоном отказался сделать это. Только он один вправе заявить мне, что мое суждение неправильно, и он категорически запрещает генералам подавать в отставку, когда их ставят на место. Прошлой осенью ему пришлось сказать то же самое Браухичу. Мы оба встали, и я молча вышел, памятная записка осталась у него в руке. Она наверняка исчезла в его бронированном сейфе; вполне возможно, что она была сожжена; вполне может быть и то, что черновик ее сохранился в бумагах штаба оперативного руководства вермахта; во всяком случае, Йодль и Варлимонт утверждают, что читали его».
Этот меморандум Кейтеля после войны так и не был найден. Скорее всего, Гитлер сжег его в последние дни своей жизни вместе с другими бумагами личного архива. Из того, что рассказал Кейтель в Нюрнберге своему адвокату доктору Отто Нельте, следует, что в этом меморандуме фельдмаршал проводил три главные мысли. Германский военно-экономический потенциал слишком слаб. Распыление сил между Западом, Норвегией и Северной Африкой пагубно скажется на ходе будущей Восточной кампании. Германия не сможет в течение длительного времени вести войну на два фронта. Кроме того, если Советский Союз станет противником Германии, это значительно облегчит положение Англии. И надо самым серьезным образом опасаться вступления в войну Америки.
Аргументы Кейтеля и других генералов и адмиралов — противников нападения на СССР уже в 1941 году звучали весомо. И Гитлер это прекрасно сознавал. Но он также нисколько не сомневался, что Сталин рано или поздно ударит в спину Рейху, ведущему борьбу с Британской империей. Фюрер не предполагал, что советское нападение последует именно в 1941 году, и в этом смысле план «Барбаросса» не был планом превентивной войны в узком понимании. Он может расцениваться лишь как превентивный в самом широком смысле слова — против любых возможных будущих враждебных действий потенциального противника. Но таковой может считаться вообще любая наступательная война. Понятие превентивности в широком значении делает бессмысленным само понятие «агрессия» и потому в международном праве не применяется.
Гитлер же полагал, что Сталин все равно нападет на него. И неважно, случится ли это в 1942, 1943 или 1945 году. Все равно для Германии к любой из этих дат в стратегическом плане ничего не изменится. Высадка на Британских островах невозможна ни в 1941 году, ни вообще в обозримом будущем. Люфтваффе и германский флот значительно слабее британского флота и авиации, особенно с учетом того, что Англии все больше помогает Америка. Преодолеть это отставание за год или два нереально. Кроме того, для высадки нужны только 30—40 дивизий из более чем 200, которыми располагал вермахт в 1941 году. Главную роль в операции «Морской лев» будут играть флот и авиация. А до тех пор пока операция против Англии не станет возможной, сухопутная армия Германии будет пребывать в бездействии, которое пагубно сказывается как на моральном состоянии, так и на уровне боевой подготовки. Поэтому лучше использовать наступившую паузу для приведения в действие сухопутных войск, нанести удар по России в наиболее благоприятных для германской стороны условиях. Иначе потенциал России, которой наверняка будет помогать Америка, может увеличиться в большей степени, чем за это же время возрастет военно-экономический потенциал Германии.
Кейтель был прав, что в столкновении один на один Германия имела бы значительное превосходство над Россией. Но он также не ошибался и в том, что Германии придется держать основную часть авиации и флота, а также немалое число сухопутных соединений на Западе и в Северной Африке, а без их участия возможность сокрушения России в ходе одной кампании выглядит весьма проблематичной. Понимал это и Гитлер. Его единственная надежда заключалась в том, что под влиянием военных поражений и гибели почти всей кадровой армии режим Сталина либо капитулирует, либо рухнет — и полномасштабное сопротивление на Востоке прекратится. Тогда вермахту пришлось бы бороться лишь с партизанами и небольшим числом опиравшихся на Урал регулярных соединений. И борьба пошла бы примерно так же, как в Китае между японской армией и войсками Чан Кайши. По сути, японцам противостояли лишь партизанские отряды, а немногие китайские регулярные части располагали крайне ограниченным количеством вооружения и боеприпасов, поставленных союзниками. Они в состоянии были сковывать определенное количество японских войск, но не могли отвоевать потерянных территорий и вообще не могли предпринимать широкомасштабных наступательных операций. Примерно на такой исход операции «Барбаросса» и рассчитывал Гитлер. Но даже если бы этот расчет оправдался, решающего значения для исхода Второй мировой войны он бы не сыграл. Ведь завоевание советской территории вплоть до линии Архангельск — Астрахань не могло иметь сколько-нибудь решающего значения для развития люфтваффе и германского флота, равно как и для реализации германского ядерного проекта. Урановых месторождений на этой территории не было. Следовательно, и кардинального изменения в противостоянии Рейха с Англией и Америкой все равно бы не произошло. Британские острова по-прежнему остались бы недосягаемой целью, а из-за колоссальной разности военно-экономических потенциалов время продолжало бы работать в пользу западных союзников, а не Рейха. Англо-американская авиация по мере своего усиления наращивала бы свои атаки против германской промышленности и транспортной инфраструктуры. А атомную бомбу американцы все равно сделали бы гораздо раньше немцев. Вероятно, и в этом случае война закончилась бы победой западных союзников, но в более поздние сроки и со значительно большими потерями английских и американских армий при высадке на Европейский континент. И тогда наверняка первые атомные бомбы, решающие для исхода войны, были бы сброшены не на Хиросиму и Нагасаки, а на Берлин, Мюнхен, Нюрнберг...
Самое же интересное, что и Гитлер, и Кейтель, и практически все немецкие генералы ошибались, когда полагали, что Советский Союз точно не нападет на Германию в 1941 году. И потому ни в первоначальных разработках, ни в самом плане «Барбаросса» не было предусмотрено каких-либо оборонительных мер на случай внезапного советского нападения. Допускалось только, что в тот момент, когда приготовления к немецкому вторжению станут очевидны, Красная Армия может попытаться упредить вермахт и ударить по Румынии. В связи с этим немцы осуществили на румынской территории ряд оборонительных мероприятий, и вторжение оттуда на советскую территорию планировалось не в первый день операции «Барбаросса», а немного позднее, когда станет ясно, попытается ли Красная Армия войти в Румынию или нет.
На самом же деле Сталин собирался напасть на Германию еще в 1940 году, когда вермахт предпримет большое наступление на Западе и, как надеялся советский диктатор, надолго увязнет на «линии Мажино». Поэтому уже в конце февраля 1940 года, когда еще продолжалась советско-финская война и существовала реальная опасность прибытия на помощь финнам англо-французского экспедиционного корпуса, Сталин одобрил директивы Красной Армии и флоту, в которых главным вероятным противником были названы Германия и ее союзники. Также еще до заключения мира с Финляндией, 5 марта 1940 года, Политбюро приняло решение о расстреле 14,7 тысячи пленных польских офицеров и около 11 тысяч польских гражданских пленных из числа представителей имущих классов и интеллигенции. Все они были расстреляны на протяжении апреля и первой половины мая. Эта, казалось бы, абсурдная акция получает свое объяснение только в свете предположения, что Сталин уже летом 1940 года собирался напасть на Германию. Он рассчитывал, что Гитлер увязнет в затяжной борьбе на Западе и Красная Армия сможет внезапно ударить немцам в спину, пользуясь тем, что на советско-польской границе осталось всего 12 слабых, второочередных пехотных дивизий. Сразу же после заключения мира с Финляндией 13 марта 1940 года основная часть дивизий и вся авиация с финского фронта стали перебрасываться на Запад. Здесь советские войска к июлю 1940 года имели против Германии и Румынии 84 стрелковые и 13 кавалерийских дивизий, подкрепленных 17 танковыми бригадами, в каждой из которых было по 200 и более танков. Сталин надеялся, что с 12 немецкими дивизиями такая армада, пусть даже не слишком здорово показавшая себя в финской кампании, как-нибудь справится. И не случайно срок демобилизации тех, кто был призван на финскую войну, отложили до 1 июля 1940 года. Вероятно, советское нападение планировалось на конец июня или начало июля. В ночь на 7 мая 1940 года Сталин говорил в своем близком кругу: «Воевать с Америкой мы не будем... Воевать мы будем с Германией! Англия и Америка будут нашими союзниками!» Однако слишком быстрый крах французского Сопротивления заставил советского вождя отложить нападение на Германию на 1941 год, когда будут сформированы новые механизированные корпуса и резко возрастет боевая мощь советской авиации, которая должна будет получить новые машины. Пока же войска, предназначавшиеся для вторжения в Германию, во второй половине июня и в начале июля оккупировали Литву, Латвию, Эстонию, Бессарабию и Буковину. С новых плацдармов Красная Армия могла угрожать Восточной Пруссии, южному побережью потерпевшей поражение, но не сломленной Финляндии и румынским нефтяным промыслам.
Основная часть предназначенных для вторжения немецких дивизий начала перебрасываться к советским границам только с февраля 1941 года, причем почти все танковые дивизии и вся авиация перебрасывались на Восток в последние две недели перед нападением на СССР. Сталин расценивал перемещение германских соединений на Восток как оборонительное мероприятие против возможного советского наступления. Он был уверен, что Гитлер не нападет на СССР до завершения войны с Англией, и сам готовился к нападению на Германию. В стратегическом плане развертывания Красной Армии, принятом в марте 1941 года, срок начала наступления против Германии был назначен на 12 июня. Однако выдержать его не удалось, так как войска и материальные запасы своевременно не прибыли. 15 мая в Генштабе Красной Армии был разработан план превентивного удара по Германии, который предполагалось нанести, судя по срокам проведения подготовительных мероприятий, в первой половине июля. Основным направлением наступления было выбрано юго-западное, где в районе Краков — Катовице 152 советские дивизии, по мысли разработчиков плана генералов Василевского и Ватутина, должны были нанести поражение 100 немецким дивизиям. На самом деле здесь вермахт располагал только 30 дивизиями, и советский удар пришелся бы в пустоту. Наступающая группировка Красной Армии неминуемо попала бы под фланговый удар самой мощной группы армий «Центр» и была бы разгромлена.
Советские войска должны были к 1 июля 1941 года закончить выдвижение к германской границе. Также 4 июня Политбюро приняло решение к 1 июля сформировать польскую дивизию Красной Армии из «благонадежных» польских военнопленных и советских граждан с польскими фамилиями. Точно так же перед нападением на Финляндию в СССР был сформирован финский корпус Красной Армии, а в германской армии накануне нападения на Советский Союз создавались украинские разведывательно-диверсионные батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» и эстонский разведывательно-диверсионный батальон «Эрна». Так что Гитлер, осуществляя план «Барбаросса», упредил советский удар против Германии, готовившийся на июль 1941 года.
Кейтель вспоминал перед казнью, что после нападения Германии на СССР выяснилось, что количество советских войск и вооружений оказалось значительно большим, чем насчитывала германская армия вторжения. И в этом он был прав. Как показывают объективные подсчеты, к 22 июня 1941 года в советских западных округах насчитывалось, с учетом призванных из запаса, 4,1 миллиона бойцов и командиров против 2,5 миллиона у вермахта (еще 800 тысяч немецких солдат и офицеров вступили в дело в июле и в августе). Советская сторона имела на западе к 22 июня 1941 года 12,8 тысячи танков и 8154 боевых самолета против 3350 танков и 1860 (а с учетом авиации в Северной Норвегии — до 2000) самолетов у вермахта. Надо учесть, что численность немецких танков дается с учетом танков двух дивизий резерва Верховного главнокомандования, переброшенных на Восток только осенью 1941-го. Я сознательно привожу цифры по соотношению сил без учета германских союзников, поскольку далеко не факт, что в случае внезапного советского вторжения в Германию и Польшу румыны, венгры, словаки и финны обязательно выступили бы на стороне гитлеровского Рейха.
Кейтель утверждал: «После нашего превентивного нападения на СССР я вынужден был признать, что Гитлер в оценке предстоящего русского наступления все же оказался прав. Однако, исходя из моих впечатлений от пребывания в Советском Союзе в качестве гостя Красной Армии на военных маневрах 1932 года, я оценивал русский военный потенциал иначе, чем Гитлер. Он постоянно исходил из того, что Россия находится в периоде создания собственной военной промышленности и еще отнюдь не завершила эту задачу, а также из того, что Сталин уничтожил в 1937 году весь первый эшелон высших военачальников, а способных умов среди пришедших на их место пока нет. Он был одержим идеей: столкновение так или иначе, но обязательно произойдет, и было бы ошибкой ждать, когда противник изготовится и нападет на нас. Одна лишь оценка советской военной промышленности и ее мощностей (даже без Донбасса) была тяжким заблуждением Гитлера; русское танкостроение настолько опередило наше, что мы так никогда и не смогли наверстать это отставание.
Однако я должен четко констатировать, что за исключением разработок Генштаба сухопутных войск в штабе оперативного руководства вермахта OKВ никакой подготовки к войне на Востоке до декабря 1940 года не велось, кроме улучшения, в соответствии с приказами, железнодорожной сети и расширения перевалочных возможностей для переброски войск к восточной границе на бывшей польской территории».
Строго говоря, факты, перечисленные Кейтелем, давали представление о подготовительных мероприятиях к вторжению. Однако меры такого рода могли иметь и оборонительный характер, и сами по себе они еще не делали вторжение неизбежным.
Гитлер попытался втянуть Сталина в более тесный союз с Германией и побудить его предпринять активные действия против Англии. В этом случае СССР перестал бы быть потенциальным британским союзником, и нападение на него можно было отложить до завершения войны с Англией. 13 ноября 1940 года в Берлине в здании рейхсканцелярии состоялась последняя встреча Гитлера с главой советского правительства Молотовым. Фюрер заявил: «Чтобы германо-русское сотрудничество принесло в будущем положительные результаты, советское правительство должно понять, что Германия вовлечена в борьбу не на жизнь, а на смерть, которая должна быть доведена до успешного конца. Предпосылки для победы Германия хочет обеспечить себе любыми средствами. Если СССР будет находиться в таком же положении, Германия продемонстрирует такое же понимание русских потребностей». Гитлер требовал признать германскую гегемонию в Европе, а Сталину предлагал в качестве объекта для экспансии Иран и страны Персидского залива, что неминуемо поссорило бы СССР и Великобританию.
Решение о нападении на Советский Союз было принято Гитлером после молотовского визита. Кейтель свидетельствует: «Я спросил Гитлера о результатах переговоров с Молотовым — он назвал их неудовлетворительными. Тем не менее решение о подготовке войны против СССР он все еще принимать не хотел, ибо намеревался подождать реакцию на эти переговоры из Москвы от Сталина... Мне, однако, было ясно: мы взяли курс на войну с Россией, и я не знаю, принял ли Гитлер во время переговоров все меры, чтобы не допустить ее. Ведь это было возможно только при его отказе от отстаивания германских интересов в Румынии, Болгарии и Прибалтике. Вероятно, он и на сей раз был прав, ибо, как только Сталин через год-два оказался бы готовым к нападению на нас, тут же наверняка последовали бы дальнейшие требования со стороны России; ведь для осуществления своих целей в Болгарии, на Дарданеллах и в финском вопросе он оказался достаточно силен уже к 1940 году. Сталин хотел выиграть время, после того как разгром Франции всего за шесть недель сорвал его график. Я не стал бы выдвигать такой гипотезы, если бы наше превентивное нападение в 1941 году не доказало уровень русских агрессивных намерений».
Когда из Москвы после возвращения туда Молотова поступил совершенно неудовлетворительный ответ от Сталина на германские предложения о присоединении СССР к Тройственному пакту, Гитлер больше не колебался. 26 ноября посол в Москве Ф.В. фон Шуленбург сообщил, что накануне Молотов пригласил его к себе и изложил условия, на которых СССР готов присоединиться к Тройственному пакту. Глава советского внешнеполитического ведомства, несомненно, говорил по поручению Сталина. Советский вождь хотел, чтобы Финляндия, Болгария и Румыния были отнесены к исключительной сфере советского влияния, а также настаивал на создании советских сухопутной и военно-морской баз в районе Босфора и Дарданелл. Ответом Гитлера стала директива № 21 от 18 декабря 1940 года о начале реализации плана «Барбаросса». Он не хотел так много уступать своему потенциальному противнику, столкновение с которым считал неизбежным. Укрепившись на Балканах и поставив под контроль румынскую нефть, Сталин значительно ухудшил бы стратегическое положение Германии. В то же время выполнение сталинских требований не делало СССР непримиримым врагом Англии и не исключало будущего советско-британского союза.
Целью операции «Барбаросса» провозглашалось уничтожение основной массы русской армии в Западной России и достижение в результате преследования линии Архангельск — Волга, с которой можно будет разрушить ударами авиации Уральский промышленный район.
План этой операции был уже не штабным этюдом или планом на всякий случай, а планом агрессии, ориентированной на определенный срок исполнения и предусматривающий широкомасштабное развертывание войск. Вот какую оценку дал ему Кейтель: «В начале декабря Гитлер принял окончательное решение готовить войну против Советского Союза с таким расчетом, чтобы иметь возможность начиная с марта 1941 года в любой момент дать приказ о планомерном сосредоточении войск на восточной границе, — это было равнозначно началу нападения в начале мая. Предпосылкой являлось беспрепятственное функционирование железнодорожного транспорта на полную мощность... Таким образом, в соответствии с отданными приказами свобода принятия решений сохранялась до середины мая. Как мне было ясно, только совершенно непредвиденные события еще могли бы изменить решение начать войну».
Йодль на Нюрнбергском процессе утверждал, что Гитлер опасался советского нападения на Германию летом 1941 года или зимой 1941/42 года. Однако никакими документами это не подтверждается. Летняя же дата 1941 -го опровергается тем обстоятельством, что в плане «Барбаросса» не было предусмотрено никаких мероприятий на случай широкомасштабного советского нападения. На процессе Йодль утверждал, что советовал Гитлеру: «Если нет никакого другого средства и если действительно нет никаких политических средств отвратить эту опасность (со стороны России. — Б. С.), то я вижу тогда только одну возможность, а именно нападение с превентивной целью...»
Столкновение двух тоталитарных диктатур неотвратимо приближалось, хотя из-за балканской кампании время германского вторжения было перенесено с середины мая на 22 июня. Не подозревая о намерениях противника, обе стороны практически одновременно двигались к барьеру. Но из-за менее четкой работы советских железных дорог, а возможно просто волею судьбы, Гитлер выстрелил первым. Но это все равно не принесло ему победы.
У Гитлера был единственный шанс добиться победы в России: выступить в роли освободителя ее народов от сталинской диктатуры, восстановить независимость Украины, государств Прибалтики и кавказских народов и сформировать антикоммунистическое российское правительство. Однако Гитлер не собирался сохранять Россию в качестве независимого государства, по крайней мере в европейской части страны. А Белоруссию, Украину и Прибалтику фюрер рассматривал лишь как жизненное пространство для германского народа. На этих территориях он не собирался создавать государства, пусть даже зависимые от Германии. А такая политика не позволяла сформировать массовые армии коллаборационистов и, наоборот, обеспечивала пополнение Красной Армии и антигерманских партизанских отрядов. Вот только один пример. Вскоре после занятия германскими войсками Львова капитан Теодор Оберлендер, занимавшийся формированием «восточных легионов», сумел добиться аудиенции у Гитлера. Он пытался убедить фюрера согласиться пообещать украинцам создание украинского государства. Гитлер прервал его доклад об Украине и сказал: «Вы в этом ничего не понимаете. Россия — это наша Африка, русские — это наши негры». Оберлендер позднее так суммировал свои впечатления от беседы: «С этим мнением Гитлера война проиграна»».
А 16 июля 1941 года на совещании с Кейтелем, Розенбергом, Ламмерсом, Гиммлером, Герингом и Борманом Гитлер сформулировал цели германской политики в России: «Мы не должны раскрывать свои цели перед миром. Это вовсе не требуется. Главное, чтобы мы сами знали, чего мы хотим... Итак, снова будем подчеркивать, что мы были вынуждены занять район, навести в нем порядок и принять меры безопасности. Мы были вынуждены в интересах населения заботиться о спокойствии, пропитании, путях сообщения и т. п. Отсюда и происходит наше регулирование. Таким образом, не должно быть выявлено, что речь идет об окончательном урегулировании (еврейского вопроса. — Б. С). Все необходимые меры — расстрелы, выселение и т. п. — мы, несмотря на это, осуществляем и можем осуществлять.
Мы, однако, отнюдь не желаем превращать преждевременно кого-либо в своих врагов. Поэтому пока мы будем действовать так, как если бы мы намеревались осуществлять мандат (оккупационных сил. — Б. С). Но нам самим при этом должно быть абсолютно ясно, что мы из этих областей никогда уже не уйдем.
Исходя из этого, речь идет о следующем:
1. Ничего не строить для окончательного урегулирования, но исподволь подготовить все для этого.
2. Мы подчеркиваем, что несем свободу.
Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами. Точно так же австрийская Галиция должна стать областью Германского Рейха...
В основном дело сводится к тому, чтобы получить огромный пирог, с тем чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли им, в-третьих, использовали его.
Русские в настоящее время отдали приказ о партизанской войне в нашем тылу. Это имеет и свои преимущества: партизанская война дает нам возможность истреблять всех, кто против нас...
Создание военной силы западнее Урала (независимой от Германии. — Б. С.) никогда снова не должно встать в повестку дня, даже если нам придется воевать для этого сто лет. Все мои последователи должны знать: Рейх будет в безопасности только в том случае, если западнее Урала не будет чужих войск. Защиту этого пространства от возможных опасностей берет на себя Германия. Железным законом должно быть: «Никому, кроме немцев, не дозволяется носить оружие!»
Это особенно важно. Даже если бы нам для достижения краткосрочных целей казалось бы необходимым привлечь вооруженную помощь со стороны каких-либо чужих, подчиненных народов, это было бы ошибкой. В один прекрасный день это неизбежно обернулось бы против нас самих. Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казак и не украинец.
Новоприобретенные восточные районы мы должны превратить в райский сад. Они для нас жизненно важны. Колонии по сравнению с ними играют совершенно подчиненную роль».
Беда в том, что коренному населению в этом новоявленном раю в лучшем случае отводилась роль слуг, а значительная его часть, и прежде всего евреи, подлежали полному истреблению или депортации за Урал.
Первые недели русской кампании прошли весьма гладко. На центральном направлении темпы продвижения вермахта оказались даже выше планируемых. Кадровые соединения Красной Армии понесли тяжелые потери. Но советское сопротивление не прекратилось и постепенно усиливалось. И уже через два месяца после начала войны обнаружился кризис германской стратегии. Стало ясно, что до зимы всех намеченных целей достичь не удастся. Встал вопрос о выборе приоритетов.
21 августа 1941 года Гитлер издал директиву, которую Гальдер назвал «решающей для всей Восточной кампании». Она гласила: «Важнейшей задачей до наступления зимы является не захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке Донец и блокирование путей подвоза русскими нефти с Кавказа. На севере такой задачей является окружение Ленинграда и соединение с финскими войсками. На редкость благоприятная оперативная обстановка, сложившаяся в результате выхода наших войск на линию Гомель — Почеп, должна быть незамедлительно использована для проведения операции смежными флангами групп армий «Юг» и «Центр» по сходящимся направлениям. Цель этой операции не только вытеснение за Днепр 5-й русской армии частным наступлением 6-й немецкой армии, но и полное уничтожение противника, прежде чем его войска сумеют отойти на рубеж Десна, Конотоп, Сула. Тем самым войскам группы армий «Юг» будет обеспечена возможность выйти в район восточнее среднего течения Днепра и своим левым флангом совместно с войсками, действующими в центре, продолжать наступление в направлении Ростов, Харьков». Эта директива знаменовала собой временный отказ от наступления на Москву и поворот основных сил вермахта на юг с целью овладения промышленным потенциалом, топливно-сырьевыми ресурсами и продовольствием Украины. Одновременно группа армий «Север» должна была установить блокаду Ленинграда и не допустить тем самым активных действий советского флота на Балтике, мешающих транспортировке из Швеции жизненно важной для экономики Германии железной руды. Среди генералов и историков до сих пор продолжаются споры, имела ли директива от 21 августа роковое значение для Восточного похода вермахта и мог бы Гитлер выиграть войну, если бы тогда начал наступление не на Киев, а на Москву. Ниже я подробнее остановлюсь на этом вопросе.
Поздней осенью Гитлеру стало ясно, что блицкриг в России не удался. А это, по его мнению, исключало достижение полной победы Германии в мировой войне. Уже 19 ноября 1941 года фюрер заявил Гальдеру, что Германии не удастся добиться полной победы над Россией и ее союзниками и война закончится компромиссным перемирием: «В целом можно ожидать, что обе враждующие группы стран, не будучи в состоянии уничтожить одна другую, придут к компромиссному соглашению». 1 декабря командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Феодор фон Бок доносил главкому сухопутных сил фельдмаршалу Вальтеру фон Браухичу, что войска не в состоянии вести планомерные наступательные действия. Последний бросок группы армий «Центр» к Москве закончился неудачей. А советское контрнаступление похоронило последние надежды Гитлера на достижение скорой победы.
Как утверждал Йодль на допросе 15 мая 1945 года, «с того момента, как зимой 1941/42 года разразилась катастрофа... ни о какой победе не могло быть и речи». Но и реального сценария для Германии свести войну хотя бы вничью в тот момент не существовало.
Тупиковая ситуация в России побудила Гитлера форсировать мобилизацию промышленности. 21 марта 1942 года он отдал распоряжение: «Все процессы в экономике Германии должны быть направлены на удовлетворение насущных потребностей военной промышленности». А 28 марта 1942 года на совещании с руководством вермахта Гитлер заявил: «Исход войны решается на Востоке... Ни при каких обстоятельствах не отказываться от наступления на юге. Русские должны бросить все свои силы вдогонку нашим войскам. Районы нефтедобычи жизненно необходимы русским». Промышленность должна была обеспечить новое наступление вооружением, боевой техникой и боеприпасами, а также необходимым зимним обмундированием, от недостатка которого так страдал вермахт в первую русскую кампанию.
После битвы под Сталинградом у Германии оставалась лишь призрачная надежда на исход вничью. Генерал Йодль писал после войны в Нюрнбергской тюрьме, что, когда вслед за Сталинградом в конце 1942 года «Роммелю, разбитому у ворот Египта, пришлось отойти к Триполи, когда союзники высадились во французской Северной Африке, Гитлер ясно осознал, что бог войны отвернулся от Германии и перешел в другой лагерь».
Трудно сказать, действительно ли фюрер верил в «чудо-оружие» (ракеты «Фау-1» и «Фау-2», реактивные истребители, новейшие подлодки, способные к длительному автономному плаванию) как последнее средство достижения если не победы, то хотя бы результата вничью. Создается впечатление, что «чудо-оружие» для Гитлера в большей мере было пропагандистским средством, чтобы побудить и германский народ, и собственное окружение сражаться до конца в заведомо безнадежных обстоятельствах. Во всяком случае, то, что Рейх не выйдет победителем из войны, Гитлер осознал задолго до того, когда в марте 1945-го на замечание одного генерала, что победы одержать не удастся, мрачно заметил: «Это я и сам знаю». Единственный вид «чудо-оружия», который действительно мог бы повлиять на ход войны, проект по созданию ядерной бомбы, сражающейся Германии, особенно в условиях массированных англо-американских бомбардировок, оказался не под силу и был окончательно оставлен летом 1943 года. Накопленные к тому времени запасы урана — 1200 тонн — А. Шпеер вынужден был пустить на изготовление сердечников для бронебойных снарядов вместо дефицитного вольфрама, импорт которого из Португалии был временно прекращен. Но, по утверждению Шпеера, еще осенью 1942 года, когда Вернер Гейзенберг и другие руководители атомного проекта сообщили, что годную для боевого применения атомную бомбу Германия сможет создать не ранее чем через три-четыре года, Гитлер по инициативе Шпеера распорядился постепенно свернуть ядерную программу, поскольку за этот срок исход войны в любом случае будет определен и без ядерного оружия, а скорее всего, она уже просто закончится.
Шпеер утверждал, что после Сталинграда и Эль-Аламейна «люди из ближайшего окружения Гитлера с тревогой наблюдали за его поведением. Он становился все более замкнутым и перед принятием решений уединялся в наглухо изолированном помещении. Его ум утратил прежнюю гибкость и не в состоянии был рождать новые идеи. Говоря образно, он мог идти только по проторенной дороге — у него не было сил сойти с нее.
Основной причиной его упрямства было безнадежное положение, в котором он оказался из-за несокрушимой мощи противников. В январе 1943 года они договорились требовать только безоговорочной капитуляции Германии. Гитлер, был, пожалуй, единственным, кто полностью осознал всю серьезность их заявлений и не строил никаких иллюзий, в то время как Геринг, Геббельс и кое-кто еще из его соратников подчас в разговорах не скрывали намерений использовать политические разногласия между Англией, США и Советским Союзом. Другие ожидали, что он сам прибегнет к политическим средствам и таким образом попытается смягчить последствия своих провалов. Разве раньше, в период между оккупацией Австрии и заключением пакта о ненападении с Советским Союзом, он с кажущейся легкостью не выходил из затруднительных положений с помощью всяких хитроумных уловок? Теперь же на оперативных совещаниях он все чаще повторял: «Не стройте иллюзий. Назад пути нет. Мы можем двигаться только вперед. Все мосты за нами сожжены». Этими словами Гитлер отказывал своим министрам в праве на любые мирные инициативы».
А чего тут удивляться? Гитлер был реалист и прекрасно понимал, что после его агрессии никто из лидеров западных держав не рискнет вернуться к политике «умиротворения», тем более после того, как германское наступление было остановлено на всех фронтах и вермахт повернул вспять. К тому же Гитлеру пришлось бы иметь в качестве потенциальных партнеров по переговорам уже не Чемберлена и Даладье, а Черчилля и Рузвельта, а эти люди, как понимал фюрер, меньше чем на безоговорочную капитуляцию не согласятся. И точно так же у Гитлера не было никаких иллюзий насчет позиции Сталина, так как с германским вторжением был похоронен пакт о ненападении.
Единственным реальным шансом на окончание войны вничью Гитлер считал разногласия между союзниками. 31 августа 1944 года он заявил в «Вольфшанце»: «Для политического решения время еще не созрело. Я не раз доказывал в своей жизни, что могу добиваться политических успехов. И никому не должен объяснять, что я не упущу такой возможности еще раз. Но разумеется, было бы наивным во времена тяжелых военных поражений надеяться на благоприятный политический момент. Такие моменты могут возникнуть, когда придут военные успехи... Настанет момент, когда разногласия между союзниками будут столь велики, что дело дойдет до разрыва. Коалиции во всемирной истории всегда когда-нибудь рушились, надо только выждать момент, как бы тяжело ни было. Моя задача, особенно после 1941 года, заключается в том, чтобы при любых обстоятельствах не терять голову и, когда где-то что-то рушится, находить выход из положения и средства подправлять историю». Но при этом Гитлер сознавал, что самому проявлять инициативу в переговорах как с западными противниками, так и со Сталиным — дело заведомо безнадежное. Лидеры антигитлеровской коалиции сочтут подобные шаги лишь еще одним доказательством слабости Германии. Надежда была на то, что союзники смертельно перессорятся друг с другом из-за непримиримых геополитических противоречий, а потом сами начнут порознь искать сепаратных соглашений с Рейхом. Все, что здесь может сделать германская сторона, так это подбросить дровишек в костер межсоюзнических противоречий. И одну такую акцию Гитлер действительно провел — публично разоблачил Катынское преступление Сталина, расстрелявшего пленных польских офицеров. Однако даже столь сильный козырь не внес перелома в ход партии и не осложнил сколько-нибудь серьезно отношения между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем (хотя двое последних нисколько не сомневались, что Катынь — советских рук дело). И Гитлер понимал, что только чудо, только рука Провидения может поссорить его врагов. Задачей фюрера начиная с 1943 года стало, в отличие от первоначальной стратегии блицкрига, затянуть войну как можно дольше, а Западу и Советам дать больше шансов разругаться друг с другом.
И фюрер мечтал, чтобы ссора между союзниками произошла еще до высадки англо-американских войск во Франции, после которой Германию уже мало что мог-' ло спасти от разгрома. 3 ноября 1943 года Гитлер заявил на одном из совещаний: «Жестокая и связанная с большими потерями борьба против большевизма за последние два с половиной года потребовала участия больших военных сил и исключительных усилий... Опасность на Востоке осталась, но еще большая опасность вырисовывается на Западе: опасность англосаксонского вторжения!.. Если врагу удастся... вторгнуться на широком фронте в наши порядки, то последствия этого проявятся уже в самое ближайшее время». Также и генерал Варлимонт вспоминал, что Гитлер говорил ему в конце 1943 года: война будет проиграна, если вторжение союзников на континент увенчается успехом. А 1 января 1944 года фюрер пророчески заявил: «1944 год будет иметь тяжелые последствия для всех немцев. Жестокая война в этом году приблизится к критической точке». И он не ошибся. После высадки в Нормандии наступил крах Восточного фронта — и потери вермахта в России резко возросли. Воевать на два фронта Германия уже не могла, и немецкое сопротивление не продлилось и года.
Гитлер вполне способен был трезво и объективно оценивать военную обстановку, вникая в мельчайшие детали боевых действий. Генерал Ф. Зенгер-Эттерлин, как ревностный католик, не питавший к Гитлеру никаких симпатий, так описал свое награждение Рыцарским крестом с дубовыми листьями 18 апреля 1944 года: «Гитлер оставил гнетущее впечатление, и я невольно подумал о том, как отреагируют присутствовавшие на церемонии молодые офицеры и унтер-офицеры. Этого человека, дьявольскому упрямству и нигилистической воле которого был подчинен германский народ, многие из этих молодых людей все еще считали полубогом, которому можно полностью доверять, чье рукопожатие вселяет новые силы. На нем был желтый военный мундир с желтым галстуком и белым воротничком и черные брюки — не очень-то подходящий наряд! Невзрачная фигура и короткая шея придавали ему вид еще менее благородный, чем обычно. Большие голубые глаза, оказывавшие, очевидно, на многих гипнотическое воздействие, казались водянистыми, — вероятно, из-за постоянного применения стимулирующих препаратов. Рукопожатие было вялым, левая рука буквально свисала сбоку и подрагивала... В отличие от знаменитых воплей во время выступлений или вспышек гнева голос его звучал спокойно и приглушенно, что даже вызывало жалость, так как не могло скрыть его подавленности и слабости.
Еще более примечательными, чем внешний вид Гитлера, были слова, с которыми он обратился к этому небольшому кругу случайно собранных фронтовиков, когда сел с ними за круглый стол. Его общий обзор сложившейся обстановки был безупречен с точки зрения объективности. Он описал катастрофическое положение на Восточном фронте, где одно поражение следовало за другим. Гитлер сообщил нам, что битва на Атлантике вступила в критическую фазу, так как противник применил радар. Он едва упомянул наши успехи на итальянском фронте, которые вовсю использовала геббельсовская пропаганда. С другой стороны, он не скрывал беспокойства по поводу угрозы вторжения Запада и перспективы открытия второго фронта, который свяжет его силы. Единственным утешением этим солдатам должно было служить невнятное заявление о том, что все трудности должны быть преодолены с помощью «веры». Зенгера удивило и то, что на этот раз Гитлер ни слова не сказал о «чудо-оружии», сказками о котором пропаганда пичкала немецких граждан. Профессиональных военных в офицерских чинах было практически невозможно убедить в реальности этих проектов.
К июлю 1944 года военная промышленность Германии достигла максимального развития. Если в 1941 году индекс производства вооружений (без самолетов и вооружений ВМФ) по сравнению с 1939 годом снизился и составил всего 98 процентов, то в июле 1944 года он достиг уже 322 процентов. При этом трудоемкость увеличилась всего на 30 процентов. Министр вооружений Шпеер признавал: «Эти успехи были достигнуты отнюдь не за счет таланта моих сотрудников, хотя они своими организаторскими способностями внесли в них немалый вклад. Но решающую роль сыграла поддержка Гитлера во всех моих начинаниях. Я имел возможность в решающий момент бросить на чашу весов авторитет и безграничную власть фюрера». Но наряду с авторитарными методами мобилизации экономики Гитлер позволял использовать Шпееру, как тот пишет в своих мемуарах, «методы управления экономикой, свойственные демократическим государствам. Они основывались на полном доверии крупным промышленникам, и те, как правило, старались его оправдать. Таким образом поощрялась инициатива и пробуждалось чувство ответственности...»
Гитлер и в условиях военного времени стремился сочетать в экономике частную собственность с государственным авторитаризмом, считая такой способ организации военного производства оптимальным. Провести же мобилизацию промышленности для военных нужд заранее, еще до начала войны, фюрер не мог по ряду объективных причин. Такая мобилизация в условиях экономики, основанной на частной собственности, требовала много времени и не могла укрыться от глаз иностранных наблюдателей, поскольку в тот момент Германия не была изолированным от мира государством. А вся политика Гитлера как раз и строилась в расчете на то, чтобы как можно дольше и эффективнее использовать «курс на умиротворение», проводимый западными державами. Если бы в Германии началась мобилизация промышленности, даже такие неисправимые оптимисты, как Чемберлен и Даладье, догадались бы, что Гитлер готовится к мировой войне, а отнюдь не только к захвату Судет и Данцига. В условиях частной собственности даже в тоталитарном гитлеровском государстве нельзя было просто приказать промышленникам и финансистам в одночасье начать выпускать пушки вместо масла. Напомню, что Франция так и не успела мобилизовать свою промышленность, а Англии и США потребовалось несколько лет, чтобы использовать все возможности своего военного производства. Вот в Советском Союзе, где экономика была автаркической (где практически отсутствовали масштабные экспорт и импорт, равно как и частная собственность), мобилизация промышленности была проведена еще до войны, и уже к 1939 году экономика функционировала практически по нормам военного времени.
Отказываться от частной собственности в экономике Гитлер не собирался, но стремился подчинить частный капитал интересам государства. 26 июня 1944 года, выступая перед промышленниками в Берхтесгадене, Гитлер торжественно заявил: «Создатель не только творит, но и берет сотворенное им под свою опеку. В этом истоки и суть того явления, которое мы обозначаем как «частный капитал», «частное владение» или «частная собственность». Вопреки утверждениям коммунистов процесс развития человечества завершится не претворением в жизнь их идеала всеобщего равенства, т. е. коммунизмом, но, напротив, именно потому, что одни добьются чего-то в жизни, а другие нет, первые в конце концов неизбежно возьмут под свою опеку последних... Единственно возможной предпосылкой для продвижения человечества на пути к своему процветанию является всемерное поощрение частной инициативы. И если эта война завершится нашей победой, для германской экономики настанет эпоха расцвета частного предпринимательства. Не верьте, что я собираюсь создавать какие-либо органы государственного управления экономикой... Как только наступит мир, я тут же предоставлю полную свободу действий выдающимся деятелям германской экономики и буду внимательно прислушиваться к их советам... Лишь благодаря вам мне вообще удается решать порожденные войной проблемы. В знак моей бесконечной благодарности я обещаю, что никогда не забуду ваших заслуг и что не найдется ни одного немца, который обвинит меня в невыполнении взятых на себя обязательств. Это означает: если я обещаю вам, что после войны наступит невиданный период расцвета германской экономики, то следует очень серьезно отнестись к моим словам. Они непременно сбудутся...
Нет сомнения, что если мы проиграем войну, то придется навсегда забыть об экономике, основанной на частной собственности. Ведь истребление германского народа, естественно, повлечет за собой полный крах германской экономики. И не только потому, что противнику не нужны конкуренты, — это слишком поверхностная оценка ситуации. Нет, речь идет о наших принципиальных разногласиях с ними. От исхода войны зависит, какая из двух точек зрения победит: или мы будем отброшены на несколько тысяч лет назад и вернемся фактически в первобытное состояние — ведь государство тогда будет регулировать всю производственную деятельность, — или же человечество будет и дальше развиваться естественным путем через поощрение частной инициативы... В случае поражения вам, господа, незачем будет заниматься перестройкой экономики на мирный лад. Ибо каждому из нас придется решать для себя проблему ухода в мир иной: сделает ли он это своими руками, даст себя повесить, предпочтет умереть от голода или же согласится отправиться на каторжные работы в Сибирь — ни о чем другом не придется размышлять».
В тот момент, после успешной высадки союзников в Нормандии и начала генерального советского наступления в Белоруссии, Гитлер вряд ли сомневался, что война с Германией проиграна. Так что речи о грядущем расцвете германской экономики в условиях господства частной собственности после победы, вероятно, преследовали две цели. Во-первых, побудить германский бизнес держаться до конца, согласившись с усиливающимся государственным регулированием, и не прибегать к акциям саботажа в расчете на благосклонность западных союзников. Во-вторых, Гитлер пытался обрисовать для истории некий экономический идеал национал-социализма. В условиях, когда Германия будет господствовать в мире, ее экономика должна давать преимущества носителям частной инициативы — тем, кто может добиться чего-то в жизни и выдается над толпой.
Но создать убедительную картину национал-социалистического рая Гитлеру помешал реализм. Осознание безнадежности положения прорвалось в словах о необходимости подумать о способах наименее безболезненного ухода из жизни. Очевидно, уже в июне 1944-го Гитлер думал о самоубийстве.
Как утверждает А. Шпеер в своих мемуарах, 5 сентября 1944 года он направил Гитлеру и Йодлю меморандум, где заявил, что прекращение поставок хромовой руды из Турции приведет к полной остановке германской военной промышленности не позднее 1 января 1946 года. Гитлер «довольно спокойно выслушал мои аргументы... Вероятно, в тогдашней ситуации даже столь мрачный прогноз не произвел на него особого впечатления. Становился все более очевидным неотвратимый развал как Западного, так и Восточного фронта, и в этих условиях даже Гитлер в глубине души сознавал, что до 1 января 1946 года нам никак не продержаться».
В то время люфтваффе все реже поднималось в воздух из-за систематического уничтожения союзной авиацией заводов по производству синтетического горючего. Кроме того, были потеряны основные нефтяные месторождения в Плоешти. Сухопутная армия Германии утратила мобильность. Грузовики тянули волы или брали на буксир танки. Во время бомбардировок была разрушена транспортная инфраструктура, и Рур оказался почти в полной изоляции от остальной территории Рейха. Нарушилось бесперебойное снабжение населения топливом, электричеством и продовольствием. Большинству немцев стала очевидной неизбежность скорого конца.
Последнюю надежду на более или менее благополучное для Германии окончание войны Гитлер связывал с наступлением в Арденнах. Он говорил Шпееру: «Если это наступление не даст ожидаемых результатов, войну можно считать проигранной... Но мы своего добьемся!.. Достаточно будет осуществить один-единственный прорыв на Западном фронте! Вот увидите! Американцы в панике бросятся бежать. Мы прорвемся на центральном участке и захватим Антверпен. А без этого порта они не смогут снабжать свои войска по морю. Все английские армии окажутся в огромном «котле». Мы возьмем сотни тысяч пленных. Как прежде в России!»
Почему именно на Западном фронте Гитлер решил предпринять последнее крупное германское наступление во Второй мировой войне? Потому что сравнительно небольшая глубина театра военных действий оставляла здесь хоть какие-то шансы на достижение стратегического успеха. Главное же — для западного общественного мнения потеря нескольких сотен тысяч солдат и офицеров стала бы значимым событием и вызвала бы давление на правительство с требованиями заключения компромиссного мира. На Восточном же фронте, как Гитлер уже убедился в 1941—1942 годах, потери даже в миллионы пленных не побуждали Сталина прекратить войну. Общественное мнение в СССР вообще отсутствовало, и население безропотно переносило любые потери. А необъятная глубина Восточного театра военных действий не позволяла надеяться на достижение сколько-нибудь значительного успеха, тем более теми ограниченными силами, какие остались у Германии к концу 1944 года.
После неудачи арденнского наступления и выхода Красной Армии к Одеру, казалось, ничто более не может спасти Германию от скорого краха. Однако, вопреки очевидным стратегическим соображениям, Сталин отказался от немедленного наступления на Берлин еще в феврале 1945-го, для чего были все возможности. «Дядя Джо» не доверял своим западным союзникам и опасался, что они могут в последний момент договориться с немцами если не о сепаратном мире, то, по крайней мере, о капитуляции немецких войск в Восточной Пруссии, Померании и даже Курляндии и вводе в эти районы англо-американских сил. Только этими соображениями можно объяснить то, что, перед тем как начать наступление на Берлин, Красная Армия предприняла бессмысленные со стратегической точки зрения наступательные операции против померанской, восточнопрусской и курляндской группировок неприятеля, а, также в Австрии и Венгрии.
Внезапная остановка советского наступления на Берлин породила у Гитлера надежду на сепаратный мир с Советами. 5 марта 1945 года Геббельс записал в дневнике: «Фюрер думает найти возможность договориться с Советским Союзом, а затем с жесточайшей энергией продолжать войну с Англией. Ибо Англия всегда была нарушителем спокойствия в Европе. Если бы она была окончательно изгнана из Европы, то мы жили бы, по крайней мере, известный период времени в условиях спокойствия. Советские зверства, конечно, ужасны и сильно воздействуют на концепцию фюрера. Но ведь и монголы, как и Советы сегодня, бесчинствовали в свое время в Европе, не оказав при этом влияния на политическое разрешение тогдашних противоречий. Нашествия с Востока приходят и откатываются, а Европа должна с ними справляться». Однако никто ни на Востоке, ни на Западе договариваться с Гитлером не собирался. Тем более что уже в марте немецкий Западный фронт после окружения в Руре главных сил группы армий «Б» практически рухнул, и центральные районы Германии с запада прикрывали лишь очень незначительные силы.
В последние месяцы войны германское командование пыталось заставить войска сражаться столь же суровыми мерами, как и командование Красной Армии. Особенно неблагоприятной была ситуация на Западном фронте, где немецкие солдаты, зная, что Англия и США соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, сдавались в плен гораздо охотнее, чем на Востоке. В конце 1944 года фельдмаршал Кейтель издал приказ, где потребовал: «Немедленно открывать огонь из всех видов оружия по каждому солдату, явно переходящему на сторону противника. При возникновении подозрения о том, что солдат перебежал к противнику, необходимо тотчас же на месте организовать судебное разбирательство. Следствие проводить немедленно и добросовестно. Если в результате расследования будет установлен факт перехода к противнику, то судебное разбирательство следует закончить приговором к смертной казни и приговор утверждать. Семья приговоренных к смерти перебежчиков отвечает за преступления осужденного имуществом, свободой или жизнью. Меру ответственности в каждом отдельном случае определяет рейхсфюрер СС и начальник германской полиции... При отсутствии неопровержимых фактов перехода на сторону противника следствие надлежит закончить соответствующим актом... О смертном приговоре или наказании семьи в каждом отдельном случае необходимо немедленно поставить в известность части дивизии или соответствующего ей соединения». Также и германские заградотряды должны были всеми средствами посылать солдат обратно в бой, не останавливаясь перед расстрелами, но при этом непременно требовалось созвать предварительно военный суд. Здесь было принципиальное различие с советской практикой бессудных расстрелов бойцов и командиров. Для германских солдат и офицеров могли иметь авторитет только репрессии, освященные судебным приговором. Для красноармейцев же, привыкших жить в страхе, военно-политическое руководство считало наиболее действенным средством заставить сражаться массовые бессудные казни на месте и правых, и виноватых. Подобным же образом после объявления осадного положения в Москве в октябре 1941 года грабителей предписывалось расстреливать на месте. В Берлине весной 1945-го с приближением фронта прошли погромы пекарен, но их зачинщиков казнили только по приговору суда и с обязательным утверждением гаулейтера Берлина Геббельса.
В последние месяцы войны немцы ввели ускоренные военно-полевые суды, вследствие развития массового дезертирства, но это уже никак не могло повлиять на ход и исход войны. 14 марта 1945 года Йозеф Геббельс записал в дневнике: «Фюрер говорил мне, что теперь под руководством генерала Хюбнера начали действовать летучие военно-полевые суды. Первым был приговорен к смерти и двумя часами позже расстрелян генерал, повинный в том, что он не взорвал ремагенский мост. По крайней мере, хоть какой-то проблеск. Только такими мерами еще можно спасти Рейх. Расстрелян и генерал-полковник Фромм (участник заговора против Гитлера, после неудачи покушения на фюрера арестовавший и расстрелявший Штауффенберга и некоторых других заговорщиков, что, однако, не спасло его самого от расстрела. — Б. С.). Я настойчиво прошу фюрера и дальше действовать в том же духе, чтобы заставить наконец наших высших офицеров подчиняться приказам. Один гeнерал, который не захотел заставить принять решительные меры одного национал-социалистического руководящего офицера (после 20 июля 1944 года такие офицеры стали своего рода комиссарами при генералах сухопутных войск. — Б. С.), тоже будет предан теперь суду военного трибунала и, вероятно, приговорен к смерти».
Как Сталин осенью 1941 года под Москвой порой самолично решал вопрос о наступлении отдельных подразделений, так и Гитлер весной 1945 года под Берлином порой занимался вопросом боевого применения отдельных рот. Геббельс 3 марта 1945 года отметил в дневнике: «Зепп Дитрих жалуется, что фюрер дает слишком мало свободы своим военным соратникам, и это уже-де привело к тому, что теперь фюрер решает вопрос даже о введении в действие отдельной роты. Но Дитрих не вправе судить об этом. Фюрер не может положиться на своих военных советников. Они его так часто обманывали и подводили, что теперь он должен заниматься каждым подразделением. Слава Богу, что он этим занимается, ибо иначе дело обстояло бы еще хуже».
На самом деле то, что Сталин и Гитлер разбирались с ротами и батальонами, лишь вносило сумятицу в управление войсками. Но у Сталина кроме рот, которые сражались под Дедовском и Красной Поляной, были еще десятки дивизий, срочно перебрасывавшиеся под Москву с Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. У Гитлера же не было никаких резервов, чтобы подкрепить расползавшиеся по швам фронты на Западе, Юге и Востоке.
19 марта 1945 года Гитлер издал приказ, где говорилось: «Борьба нашего народа за свое существование вынуждает нас к использованию на территории Рейха всех средств, ослабляющих боевую силу нашего врага и препятствующих его дальнейшему продвижению. Подлежат использованию все возможности прямо или косвенно нанести долгосрочный ущерб его боеспособности... На территории Рейха подлежат уничтожению все военные объекты, промышленные предприятия, транспорт, предприятия по снабжению населения, а также материальные ценности, которые могут использоваться врагом». Военные объекты должно было уничтожать армейское командование, а гражданские — гаулейтеры и имперские наместники. Но ни те, ни другие, за редким исключением, не проявили никакого рвения в его исполнении. Откровенно саботировал тактику выжженной земли и министр вооружений Альберт Шпеер. Фактически приказ Гитлера остался на бумаге.
Гитлер собирался заменить Шпеера его заместителем Карлом Отто Зауром, но так и не осуществил это намерение. Геббельс 28 марта 1945 года записал в дневнике: «Фюрер противопоставляет Шпееру Заура как более сильную личность. Заур — твердый человек, который выполнит данный ему приказ, применив для этого все необходимые меры вплоть до насилия. В известном смысле он антипод Шпеера. Шпеер в большей мере художественная натура. У него, конечно, большой организаторский талант, но политически он слишком неопытен, чтобы в это кризисное время на него можно было целиком положиться. Фюрер страшно негодует по поводу последних соображений, которые представил ему Шпеер. Шпеер поддался уговорам своих промышленников и теперь постоянно утверждает, что у него просто рука не поднимется перерезать артерию, питающую немецкий народ. Это могут сделать только наши противники. Он же, по его словам, такую ответственность на себя не возьмет. Фюрер объяснял ему, что мы, так или иначе, должны нести ответственность и что теперь речь идет о том, чтобы довести борьбу нашего народа за жизнь до успешного завершения, а тактические вопросы играют сугубо подчиненную роль... Более всего фюрер хотел бы, чтобы Шпеер прекратил свои откровенно пораженческие разглагольствования. Шпеер был также в числе тех, кто выступал против выхода из Женевской конвенции. Правда, среди них был и Борман. Сейчас Борман тоже далеко не в лучшей форме. В частности, по вопросу о радикализации наших методов ведения войны он занял совсем не ту позицию, какую я от него, собственно, ожидал».
Однако Гитлер отказался от замены Шпеера после меморандума, который тот направил ему 29 марта, после состоявшегося накануне напряженного разговора между ними: «Вчера во время нашей беседы вы провели различие между реальным осознанием положения, в результате которого можно прийти к убеждению, что войну уже нельзя выиграть, и все еще имеющейся верой в то, что все еще может кончиться хорошо. Вы задали мне вопрос, надеюсь ли я еще на дальнейшее успешное ведение войны, или же моя вера в это поколеблена трезвыми констатациями в той специальной области, которой я занимаюсь.
Моя вера в благоприятный поворот нашей страны оставалась несломленной до 18 марта. Это могут подтвердить все мои сотрудники и все благожелательно настроенные ко мне политики и солдаты...
Я художник, и поэтому поставленная задача казалась мне совершенно чужда и тяжела. Я сделал для Германии много. Без моей работы война, вероятно, была бы проиграна еще в 1942/43 году. Я справился с этой задачей не в силу моих специальных знаний, а благодаря качествам, присущим художнику... Я верю в будущее немецкого народа. Я верю в Провидение, справедливое и неумолимое, а значит, верю в Бога.
Мне было тяжко на сердце, когда в победные дни 1940 года я видел, как мы в широчайших кругах нашего руководства потеряли свою внутреннюю выдержку. Это было то время, когда мы должны были порядочностью и внутренней скромностью выдержать испытание перед лицом Провидения. Тогда победа была бы за нами.
В эти месяцы судьба взвесила нас на своих весах и нашла слишком легковесными. В результате страсти к комфорту и лености мы упустили целый год драгоценного времени для наращивания производства вооружений и конструирования новой техники, и из-за этого в решающие 1944—1945 годы многое стало для нас уже слишком поздно. Любое из новшеств годом раньше — и наша судьба была бы другой! Словно Провидение само хотело предостеречь нас, но с того времени все военные события вели нас к неслыханной беде. Еще никогда ни в одной войне внешние условия (скажем, погода) не играли такой решающей и несущей несчастье роли, как именно в этой самой технизированной из всех войн: мороз под Москвой, туман под Сталинградом и голубое небо над зимним наступлением 1944 года на Западе (в Арденнах. — Б. С.).
И тем не менее я убежден, что судьба все же избавила нас от самого последнего следствия всего этого и что однажды все же появится возможность обеспечить нашему народу его существование. Ибо этот народ, проявивший исторически беспрецедентное мужество и героизм на фронте и в тылу, не может прийти к своему горькому концу. Эта внутренняя вера, которая позволила мне, несмотря на все влияния и осознания, продолжать быть сильным самому и вселять веру в других, оставалась непоколебимой до нескольких последних дней.
Когда я 18 марта передал вам мое письмо, я был твердо уверен в том, что выводы, сделанные мною из нашего положения насчет сохранения нашей народной силы, безусловно получат ваше одобрение. Ведь вы однажды сами констатировали, что задача государственного руководства при проигранной войне — уберечь народ от героического конца. Однако вечером вы обратились ко мне со словами, из которых, если я вас правильно понял, ясно и однозначно следовало: если война проиграна, пусть погибнет и народ! Эта судьба, сказали вы, неотвратима. Нечего считаться с теми основаниями, которые нужны народу для его самой примитивной дальнейшей жизни. Наоборот, мол, лучше самому разрушить их. Ведь народ показал себя более слабым, и поэтому будущее принадлежит исключительно более сильному народу Востока. Те, кто уцелеет после этой борьбы, все равно малоценны, ибо все ценные — погибли!
Услышав такие слова, я был сначала потрясен. Когда же через день я получил ваш приказ о разрушении (от 19 марта. — Б. С.),а вскоре и бескомпромиссный приказ об эвакуации, я увидел в них первые шаги к осуществлению высказанных вами намерений.
До тех пор я всем сердцем верил, что конец этой войны будет хорошим для нас. Я надеялся, что не только наши новые виды вооружений и боевой техники, но и прежде всего наша фанатическая вера в свое будущее сделают народ и его руководителей способными на самые крайние жертвы. Сам я тогда твердо решил совершить на планере налет на русские электростанции и своим личным примером помочь повернуть судьбу (похоже, что и Шпеер в последние недели войны утратил всякое чувство реальности. - Б. С.).
Но я больше не могу верить в успех нашего благого дела, если одновременно мы в этот решающий момент планомерно разрушаем основу нашей народной жизни. Это такая несправедливость по отношению к нашему народу, что судьба больше уже не сможет благоприятствовать нам. Мы не имеем права разрушать то, что построено целыми поколениями. Если же это делает враг, тем самым истребляя немецкий народ, то он должен взять на себя историческую ответственность за это. Я убежден в том, что Провидение покарает тех, кто посягает на наш храбрый и порядочный народ.
Я могу работать с чувством внутренней порядочности, с убежденностью и верой в будущее только в том случае, если вы, мой фюрер, как и прежде, останетесь приверженным сохранению нашей народной силы. Поэтому я не вдаюсь в подробности того, что ваш приказ о разрушении от 19 марта 1945 года в результате поспешных мер должен лишить нас последних возможностей промышленного производства и что его опубликование вызовет у населения величайшее смятение. Все это такие вещи, которые хотя и являются решающими, но обходят принципиальные вопросы.
Поэтому прошу вас не делать самому этот шаг к разрушению народа. Если же вы в какой-либо форме решились бы отказаться от этого, я бы вновь обрел веру и мужество, чтобы с величайшей энергией работать дальше. Поймите то, что происходит в моей душе! Я не могу трудиться в полную силу и пользоваться необходимым доверием со стороны подчиненных, если одновременно с моим призывом к рабочим обеспечить высокую производительность труда готовится разрушение нашей жизненной базы.
Наш долг — приложить все усилия, чтобы до предела повысить сопротивление врагу. И я не хочу стоять в стороне.
Военные удары, которые Германия получила в последние недели, сокрушительны. Не от нас теперь зависит, куда повернет судьба. Только более ясное предвидение может изменить наше будущее. Мы еще сможем твердым поведением и непоколебимой верой внести свой вклад в вечное будущее нашего народа.
Боже, огради Германию!»
Вряд ли пафос шпееровского меморандума произвел на фюрера большое впечатление. Но очевидно, Гитлер понял, что, настаивая на проведении в жизнь приказа о «выжженной земле», он рискует остаться без поддержки своих ближайших соратников, что приведет к развалу правительственного аппарата и только ускорит конец. Поэтому за саботаж приказа «Нерон» от 19 марта никто так и не был наказан. Но и судьба германского народа в свете неизбежного скорого краха Третьего Рейха фюрера уже мало заботила. В эти последние недели борьбы он хотел нанести максимальные потери своим противникам, теперь уже не считаясь с жертвами среди немцев. Все равно, как полагал Гитлер, лучшие из немцев погибли в боях, и в живых остались в большинстве своем не самые достойные представители германской расы.
Рушились надежды и на последний из видов «чудо-оружия» — новейшие истребители. 22 марта 1945 года Геббельс записал в дневнике: «Сейчас фюрер возлагает огромные надежды на реактивные истребители. Он даже называет их «машинами германской судьбы». Он верит, что благодаря реактивным самолетам удастся — по крайней мере, оборонительными действиями — подорвать превосходство противника в воздухе. Но он добавляет, что они, надо надеяться, будут получены не слишком поздно. Стрелка часов приближается к двенадцати, если уже не перевалила за двенадцать... Счастливым обстоятельством при использовании реактивных самолетов является то, что им не нужен высококачественный бензин, что они могут летать чуть ли не на помоях. Так что с проблемой горючего мы справимся». Однако сравнительно немногочисленные и не вполне надежные в управлении Ме-262 уже не могли справиться с армадами «летающих крепостей». В последние недели на вооружение германского флота поступили также новейшие подводные лодки, способные к длительному автономному подводному плаванию. Но они уже никак не смогли повлиять на исход войны. Если бы, как говорил Шпеер, все эти виды вооружений можно было произвести хотя бы годом раньше! Однако вряд ли основательны его утверждения, будто роковое опоздание произошло из-за организационных неурядиц.
В последние недели войны немцы собирались воспользоваться даже услугами пилотов-смертников, которые должны были таранить англо-американские «летающие крепости», но из-за полного господства в воздухе союзной авиации, отсутствия у люфтваффе как горючего, так и, самое главное, добровольцев-смертников была предпринята всего одна такая попытка. Геббельс отмечал в дневнике 15 марта 1945 года: «Фюрер согласился использовать примерно 300 смертников с 95-процентной гарантией самопожертвования против групп вражеских бомбардировщиков, с тем чтобы при любых обстоятельствах один истребитель сбивал один вражеский бомбардировщик. Этот план был предложен еще несколько месяцев назад, но его не поддержал Геринг». И кстати сказать, совершенно правильно сделал. Пилоты германских истребителей на Западе и так, по сути, были смертниками, поскольку имели очень мало шансов пробиться к цели сквозь огонь пулеметов «летающих крепостей» и сквозь пушечный огонь прикрывавших их тяжелых истребителей Р-47 «Тандерболт». В этих условиях тем меньше шансов у них было совершить таран, если и на дистанцию прицельного выстрела выйти можно было лишь с огромным трудом. Единственная попытка применить массовые тараны люфтваффе была предпринята 7 апреля — в день прекращения массированных налетов союзной авиации на германские города. Геббельс вынужден был признать в записи от 8 апреля, что при применении истребителей «для таранного боя» «успехи не столь велики, как хотелось бы». А 9 апреля уточнил: «Первые операции наших истребителей таранного боя не привели к ожидаемому успеху. Это объясняют тем, что соединения вражеских бомбардировщиков шли небольшими группами, и с ними пришлось вести борьбу поодиночке. Кроме того, из-за сильного заградительного огня вражеских истребителей нашим истребителям лишь в немногих случаях удалось осуществить таран». Союзники, похоже, вообще не заметили атаки «камикадзе фюрера» и никак не отразили их в своих отчетах о воздушной войне против Германии. Геббельс надеялся, что таранные атаки повторятся с гораздо большим успехом, но у люфтваффе уже не было ни самолетов, ни горючего, ни пилотов для этой цели. Ме-262 расходовать таким варварским способом было бессмысленно, поскольку предполагалось, что каждый из них способен уничтожить гораздо больше чем одну машину противника. Немногочисленные же самолеты более старых типов уже не имели ни горючего, ни реальных шансов прорваться сквозь плотный заградительный огонь.
22 марта Гитлер сравнил моральное состояние вермахта на Востоке и на Западе отнюдь не в пользу Западного фронта. Геббельс записал в дневнике: «Наши войска на Западе уже не воюют как надо. Их моральный дух сильно упал, поэтому у них нет больше энергии, совершенно необходимой, чтобы оказывать сопротивление в этой критической ситуации. Моральный дух населения тоже, конечно, в огромной степени снизился, если не достиг нуля... Фюрер чрезвычайно доволен нашей антибольшевистской пропагандой. Ведь она оказала свое влияние, заставив наши войска на Востоке вновь обрести сравнительно хорошую форму».
На Западном фронте немецкие солдаты, зная, что Англия и США, в отличие от СССР, соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, сдавались в плен гораздо охотнее, чем на Востоке. Гитлер в последние месяцы войны размышлял о том, не следует ли Германии заявить о выходе из Женевской конвенции и об отказе применять ее положения к английским и американским пленным. В качестве ответного шага Гитлер ожидал ужесточение отношения к немецким пленным в Англии и США, что должно было побудить немецкие войска на Западном фронте к большей стойкости. Однако эта мера так и не была осуществлена. Геббельс писал в дневнике 27 марта 1945 года: «Шлезина (сотрудник министерства пропаганды. — Б. С.) описывает беспорядочное бегство на саарском фронте, которое поистине было ужасно. Как известно, американцам удалось зайти в тыл нашим войскам, оборонявшимся на саарском фронте. Сражавшаяся на Западном валу армия была отведена слишком поздно, и значительная часть ее попала в плен. Все это определило и моральное состояние солдат. Но еще хуже обстояло дело с гражданским населением, которое в ряде случаев выступило против своих же войск и помешало им держать оборону. Даже большинство возведенных в тылу противотанковых заграждений захвачено противником без боя. Я упрекаю Шлезину в том, что на Западе не выкристаллизовалось ни единого символа сопротивления наподобие тех, какими на Востоке являются, например, Бреслау или Кенигсберг. Он объясняет это тем, что население западных областей в результате вражеских воздушных налетов, длившихся месяцами и годами, до такой степени измотано, что предпочитает ужасный конец ужасу без конца. Я полагаю, что это связано также и с тем, что население западных районов по своей природе не столь способно к сопротивлению, как население восточных. Оно ведь живет в соседстве с Францией, сверхцивилизованной страной Европы, в то время как восточное население находится ближе к Польше и России, более примитивным странам Европы... Развитие событий на Западе носит гораздо более неблагоприятный характер, нежели на Востоке. Теперь, уж конечно, никто не выдвинет мне наперекор — как это было еще несколько недель тому назад, — с позволения сказать, аргументы, согласно которым наш выход из Женевской конвенции вызвал бы крах морального духа наших войск на Западе. Я считаю, что если бы мы действовали более радикально в вопросах обращения с военнопленными, то немецкие солдаты и офицеры не отправлялись бы в англо-американский плен в таких больших количествах, как это имеет место сейчас. В настоящий момент военные действия на Западе являются для противника не более чем детской забавой. Ни войска, ни гражданское население не оказывают ему организованного и мужественного сопротивления, так что американцы — они особенно — имеют возможность разъезжать повсюду».
Однако на выход из Женевской конвенции по обращению с военнопленными Гитлер так и не решился. Очевидно, он опасался, что в случае объявления о таком шаге может последовать немедленная массовая сдача германских войск на Западном фронте, пока Англия и США не успеют объявить о каких-либо ответных репрессивных мерах.
Так был ли Гитлер настоящим полководцем? Единственный военный министр в правительстве Гитлера Бломберг, несмотря на отставку в 1938 году из-за скандального прошлого своей молодой жены, до конца своей жизни сохранил уважение и хорошие отношения с фюрером и неоднократно повторял, что тот обладает «выдающимися полководческими способностями». Также начальник штаба оперативного руководства вермахта и один из ближайших сотрудников Гитлера генерал-полковник Альфред Йодль уже после войны на допросе заявил, что Гитлер обладал большими способностями к ведению стратегии. Йодль также утверждал во время Нюрнбергского процесса: «Гитлер был вождем и личностью невероятного масштаба. Его знания и ум, его ораторские способности и воля в конечном счете одерживали верх в любом споре». Йодль также выделял роль Гитлера в производстве современных видов вооружений: «Гитлер со своим поразительным тактико-техническим кругозором был создателем современного вооружения для армии. Его заслугой является то, что на смену 37- и 50-миллиметровым противотанковым пушкам пришла 75-миллиметровая, что танки перестали оснащать короткоствольными орудиями и поставили на них длинноствольные 75-и 88-миллиметровые. По инициативе Гитлера появились современные танки «пантера», «тигр» и «королевский тигр».
Настоящим военным гением, причем уже после всех поражений 1943—1945 годов, считали фюрера его преемник гросс-адмирал Карл Дениц и генерал-фельдмаршалы Понтер фон Клюге и Вильгельм Кейтель. Свидетельство Клюге дорого стоит, поскольку фельдмаршал сам участвовал в заговоре 20 июля и застрелился, чтобы не подвергнуться позорной казни. В ожидании неминуемой смертной казни в 1946 году оставил свое свидетельство и Кейтель, заявив, что Гитлер не только был гением в военных делах, но и «был настолько осведомлен в организации, вооружении, вопросах управления и снабжения всех армий и флотов мира, что невозможно было уличить его хотя бы в одной ошибке». Кейтель признался, что в отношениях с фюрером даже «по относительно простым, повседневным вопросам организации и снабжения вермахта», равно как и по многим другим военным проблемам, «я был учеником, а не учителем». Также военный гений Гитлера признавал и фельдмаршал Герд фон Рундштедт, но только применительно к первой фазе Второй мировой войны, до 1942 года. А генерал Вальтер Шерф, который в годы войны вел Военный дневник ОКВ (Верховное командование вермахта. — Б. С), полагал, что Гитлер был «величайшим полководцем и государственным деятелем всех времен», настоящим полководцем, стратегом и «человеком непобедимой веры».
Другие германские генералы и фельдмаршалы — свидетели краха Рейха в 1945 году — все победы вермахта склонны были приписывать себе, а все поражения относить на счет просчетов и дилетантизма фюрера. Благо мемуаров тот не оставил и оправдаться не мог.
При оценке полководческих способностей и стратегии Гитлера надо исходить из одного непреложного факта: у Германии не было шанса выиграть военную кампанию, каким бы искусством ни владел фюрер. Это признают как сторонники, так и противники Гитлера. Например, бывший командир танкового корпуса на итальянском фронте генерал Фридо фон Зенгер-Эттерлин, никаких симпатий к фюреру не испытывавший, еще в начале 50-х годов утверждал: «Диктатура, столь бедно наделенная умением руководить (а именно такой была диктатура Гитлера), является антитезой той демократической структуре, которая необходима для координирования всех национальных ресурсов. Но не надо заблуждаться на этот счет. И без гибельного гитлеровского руководства государством и военными действиями становится ясно, что даже при другом и свободном правительстве Германия все равно не выиграла бы мировую войну, если учесть ее исходное положение. Суммарные ресурсы ее противников, господствовавших на море, настолько превосходили ее собственные, что в долгосрочной перспективе германские военные кампании на суше не могли дать никакого результата, как бы искусно ими ни управляли...
Искусство стратега дается от рождения, и то очень редко. Оно требует хорошего понимания природы человеческой и знания истории. Не стоит задаваться вопросом, обладали ли такими качествами Гитлер и его советники. Его личные советники в ОКВ не пользовались уважением в армейских кругах. Уважаемые начальники штаба сухопутных войск, прошедшие великолепную школу старого Генштаба, ушли в небытие... Это не значит, что иной выбор армейских руководителей позволил бы выиграть войну. Многие сражения, конечно, закончились бы по-другому. Но наше военное поражение таилось в предшествовавшем ему поражении политическом, которое привело к созданию коалиции всех великих держав мира против гитлеровской Германии. Если бы даже произошло невозможное и Германия победила, все равно немыслимо, чтобы побежденные страны надолго подчинились такого рода системе. Конечный результат был бы таким же».
Замечу, что и в политическом плане шансов предотвратить создание враждебной себе коалиции у Гитлера не было никаких. Западным странам были одинаково несимпатичны и коммунизм, и национал-социализм. Однако объективно, с учетом уровня функционального образования населения и уровня боеспособности армии, военно-экономический потенциал Германии превосходил военно-экономический потенциал СССР. Поэтому Англия и США предпочли поддержать ту из диктатур, которая представляла меньшую угрозу. Однако то, что Гитлер пытался решить военно-политическую задачу, в принципе не имеющую решения, еще не означает, что он не обладал полководческими способностями.
Насчет же того, демократия или диктатура лучше мобилизует ресурсы для войны, вопрос остается дискуссионным. Тут надо учесть, что гитлеровская диктатура до начала Второй мировой войны существовала всего шесть лет, причем сам Гитлер стремился сохранить в неприкосновенности как кадровое офицерство, так и частную собственность в экономике, считая и то и другое эффективными факторами при ведении войны, разумеется под надлежащим государственным контролем со стороны фюрера и НСДАП. И то, что нацистской диктатуре удалось шесть лет продержаться против значительно превосходящих сил ее противников, говорит о том, что по части мобилизации и координации сил гитлеровский Рейх, как минимум, не уступал западным демократиям — США и Англии. Другое дело, что Гитлер умело использовал наследство кайзеровской Германии, которая если и не была столь полноценной демократией, как Англия, Франция или США, то уж, по крайней мере, точно не была диктатурой. В этом смысле Сталин находился в худшем положении, чем Гитлер. Во-первых, царская Россия не имела серьезных демократических традиций, которые могли бы повлиять на мораль населения в плане роста индивидуального сознания. К тому же национал-социализм провозглашал роль личности, тогда как коммунизм опирался на коллективизм. Во-вторых, частнособственническая экономика в России накануне революции 1917 года была развита гораздо хуже, чем в Германии в 1933 году, и здесь у большевиков было меньше материала, который они могли наследовать. Еще важнее было то, что идеология коммунизма в качестве главной цели провозглашала полную ликвидацию частной собственности. Последовательно проведя этот постулат в жизнь, Сталин так и не осознал, что тем самым существенно ослабил обороноспособность страны, понизив качественный состав армии и эффективность военной экономики. Обедненные качества армии покрылись количеством жертв на поле боя и в тылу.
Сравнение Гитлера и Сталина как полководцев и политиков давно уже стало традицией в работах исследователей. Отметим, что Гитлер достаточно противоречиво высказывался по поводу СССР и его вождя, но в целом предпочитал не мазать его преимущественно черной краской. Так, в одной из бесед в ставке фюрер назвал Сталина «одной из самых необычных фигур в мировой истории». Он уже в 1942 году понял, что интернациональные лозунги для советского диктатора не более чем пропаганда, а в действительности он продолжает дореволюционную имперскую политику. Фюрер следующим образом характеризовал своего главного противника: «Сталин претендует на то, чтобы быть провозвестником большевистской революции. На самом же деле он отождествляет себя с Россией царей и просто-напросто возрождает традицию панславизма. Для него большевизм лишь средство, род ловушки, предназначенной для обмана германских и латинских народов».
А в середине июля 1942 года, когда вермахт находился на вершине своих успехов, Гитлер надеялся, что Сталин пойдет на примирение с ним, уступив Германии всю европейскую часть СССР. И фюрер готов был великодушно оставить во владении партнера по пакту 1939 года азиатскую часть Советского Союза.
Определенное сочувствие Гитлер выказывал к советскому государственному строю, о чем он прямо говорил в своей ставке 11 апреля 1942 года: «Идея человеческой солидарности была привита людям с помощью силы, и поддерживать ее можно лишь с помощью того же самого средства. Поэтому несправедливо осуждать Карла Великого за то, что он построил всю государственную организацию на основе принуждения, исходя из по-своему понятых интересов германского народа. Равным образом и Сталин в последние несколько лет применил к русскому народу меры, аналогичные тем, которыми пользовался Карл Великий, поскольку он также принял во внимание очень низкий культурный уровень русских. Он сознавал императивную необходимость объединения русского народа в рамках жесткой политической организации (такую организацию Гитлер считал идеалом и для германского народа. — Б. С.). Если бы он не сделал этого, то не смог бы, возможно, гарантировать выживание неоднородных масс, составивших СССР, не смог бы распространить на них такие блага цивилизации, вроде медицинской помощи, ценность которых невозможно измерить деньгами.
Чтобы сохранить наше господство над населением завоеванных на Востоке территорий, мы должны, насколько это в наших возможностях, пойти навстречу любым требованиям индивидуальной свободы, но лишить жителей государственной организации и сохранить население на возможно более низком культурном уровне.
При этом нашим руководящим принципом должно быть следующее: эти люди имеют единственное оправдание своего существования — быть использованными нами в экономическом отношении. Мы должны сосредоточиться на извлечении из этих территорий всего того, что из них можно извлечь».
Фюрер порой сильно идеализировал стахановскую систему. Например, 22 июля 1942 года он утверждал в своей винницкой ставке «Вервольф»: «Советский рабочий научен посредством стахановской системы работать усерднее и дольше, чем его товарищи в Германии или в любой другой капиталистической стране... Было бы глупостью пренебрежительно относиться к стахановской системе. Вооружение и снаряжение русских армий является лучшим доказательством ее эффективности в использовании промышленной рабочей силы. Сталин также заслуживает нашего безусловного уважения. По-своему он чертовски хороший парень! Он знает свои образцы, Чингисхана и других, очень хорошо, а масштаб его индустриального планирования превзойден лишь нашим Четырехлетним планом. И нет сомнений, что он очень решительно выступает за то, чтобы в СССР не было безработных, обычного явления в капиталистических государствах вроде Соединенных Штатов Америки...» А пятью днями раньше, 17 июля, фюрер с похвалой отозвался об организации медицины в Советском Союзе: «Мы не смогли бы сделать ничего более умного, чем перенять советскую систему всеобщего огосударствления. Например, в СССР огосударствлено врачебное сословие... Больные ждут приема государственными врачами 8—12 часов... Жизненный уровень врачей, если сопоставить его со стоимостью одного костюма, мизерен; ведь они зарабатывали 550— 700 рублей в месяц».
Но наряду с восхищением отдельными сталинскими достижениями у Гитлера все же преобладала настороженность по отношению к Сталину как одному из самых серьезных своих противников. 22 августа 1942 года фюрер прямо высказал опасение: «...если дать ему время, Сталин сделает из России сверхиндустриального монстра, который будет полностью противоречить интересам масс, но существование которого будет оправдываться демагогической фразеологией. В действительности этот монстр будет предназначен для подъема уровня жизни лишь узкого слоя его собственных приближенных. Его конечной целью было бы поглощение всей Европы в большевистском кольце. Он — карлик, но карлик, стоящий на большой скале. Он использовал евреев для ликвидации интеллигенции Украины, а затем отправил евреев по железной дороге в Сибирь (в действительности в 1937— 1938 годах многие евреи из числа партийных работников и чекистов были просто расстреляны в ходе «великой чистки»; отправка же нескольких тысяч еврейских колонистов-добровольцев в Биробиджан, на что, вероятно, и намекал Гитлер, было отнюдь не депортацией, а пропагандистской акцией по созданию альтернативы «еврейскому очагу» в Палестине, за который боролись сионисты. — Б. С.). Я думаю, вполне возможно, он сбежит в Китай, если не увидит другого пути для бегства».
Также и бывший министр вооружений Альберт Шпеер свидетельствует, что Гитлер сочувственно отзывался о Сталине: «Он говорил, бывало, то ли в шутку, то ли всерьез, что правильней всего было бы после победы над Россией доверить управление страной, разумеется под германским верховенством, Сталину, так как он лучше кого бы то ни было знает, как надо обращаться с русскими. Вообще он, пожалуй, видел в Сталине своего коллегу».
А 23 марта 1942 года Гитлер заявил: «Сталина следует ценить уже за то, что он не пустил евреев в искусство». Хотя, конечно, с точки зрения фюрера советский вождь обходился с евреями недопустимо либерально, и до «окончательного решения» ему было далеко.
В целом Гитлер, как кажется, не питал к Сталину личной ненависти, а вот Сталин Гитлера ненавидел. И, узнав о его самоубийстве, «дядюшка Джо» с сожалением произнес: «Доигрался, мерзавец. Жаль, что не удалось взять его живым».
Характерно, что в последние месяцы войны руководители Рейха безуспешно пытались использовать опыт Сталина в отчаянной попытке избежать поражения. Так, 28 марта 1945 года Геббельс записал в дневнике разговор с Гитлером, состоявшийся накануне: «Я сообщаю фюреру, что под влиянием исключительно тяжелого положения на фронтах моральный дух как в стране, так и в войсках очень сильно упал. Нам нужно добиться того, чтобы где-то снова задержать противника, иначе есть опасность развала всего Западного фронта. Я считаю, что сейчас самый удобный случай для фюрера выступить по радио с обращением к нации (не более чем на 10—15 минут), не только к населению, но и к войскам на фронте. Я напоминаю фюреру, что таким же образом поступали Черчилль в критические минуты для Англии и Сталин в кризисное время для Советского Союза. Они тогда тоже нашли верные слова, чтобы вновь взбодрить свои народы. И мы раньше в ходе партийной борьбы поступали подобным образом. Никогда наша партия не преодолевала тяжелые кризисы без того, чтобы фюрер лично не обращался к ней, стремясь выровнять партийные ряды. Вот и теперь настал час, когда фюрер должен дать сигнал своему народу... Народ должен услышать от него такое слово, за которое сможет прочно ухватиться».
Но тогда уже никакие, даже самые проникновенные речи, не могли спасти Рейх.
Показательно также следующее обстоятельство. Сталин, искренне считая себя выдающимся полководцем, позволил себе облачиться в маршальский мундир, а также разрешил присвоить себе звание генералиссимуса и Героя Советского Союза и наградить полководческими орденами Победы и Суворова. Следовательно, Иосифу Виссарионовичу необходимо было внешнее признание своих полководческих качеств, — видимо, в глубине души он таил сомнения по поводу собственных выдающихся заслуг. Вот Гитлер так и не присвоил себе никакого воинского звания, ни фельдмаршала, ни рейхсмаршала, да и без новых наград обошелся. Он так и остался ефрейтором с двумя Железными крестами, заслуженными на полях сражений Первой мировой, а в ставке вместо военного облачался в партийный мундир без знаков различия. Гитлеру совсем не нужны были внешние отличия власти в виде погон, позументов, лампасов и орденов. Он прекрасно знал, что его власть простирается и на рейхсмаршала Геринга, и на рейхсфюрера Гиммлера, и на других генералов и маршалов. И нисколько не сомневался, что является великим полководцем, отлично сознавая, что ни один фельдмаршал все равно не рискнет открыто утверждать обратное.
Был ли наделен полководческим талантом Сталин? На этот вопрос скорее придется дать отрицательный ответ. В отличие от Гитлера Иосиф Виссарионович не имел фронтового опыта и во многих тонкостях поддержания боеспособности войск не разбирался. Кроме того, Красная Армия по сравнению с вермахтом была гораздо менее совершенным военным инструментом, и использовать ее в соответствии с законами военного искусства вообще было весьма затруднительно. Жесткая сталинская система контроля над армией не допускала самостоятельных действий генералов и маршалов. Полководцем в этой системе мог быть только сам Сталин, который, как и Гитлер, принимал все важнейшие стратегические решения. Но Сталин, к его несчастью, полководческим даром не обладал, и это увеличило жертвы Красной Армии. К его принципиальным ошибкам следует отнести и нерациональную дислокацию Красной Армии в 1941 году, когда войска были сосредоточены в пограничных выступах и легко попадали в окружение, а также свойственную Сталину гигантоманию, когда масса боевой техники никак не соотносилась с количеством специалистов, способных этой техникой управлять. Сталинское стремление во что бы то ни стало наступать и следовать принципам стратегии сокрушения приводило только к неоправданным потерям, потому что состояние Красной Армии требовало более рационального использования преимущественно оборонительного способа действий и стратегии измора.
Сталин, безусловно, переиграл Гитлера как дипломат, став одним из создателей мощнейшей коалиции. Однако, повторю, к созданию этой коалиции были сильнейшие объективные основания, и прежде всего то, что Советский Союз был слабее Германии.
Если же подходить к военной деятельности фюрера объективно, то довольно трудно найти какие-либо очевидные принципиальные ошибки в его оперативно-стратегических решениях. Собственно, единственными бесспорными ошибками можно считать решение продолжать атаки на Сталинград силами далеко оторвавшейся от соседних войск 6-й армии, вместо того чтобы отвести ее от города на более безопасный рубеж, а также отказ от прорыва войск Паулюса в первые дни окружения, когда такое действие имело реальные шансы на успех. Вспоминая о Сталинграде, осенью 1944 года Гитлер говорил своему врачу-отоларингологу Э. Гизингу: «Нельзя сказать, что наша разведка ошиблась и мы не были информированы о большом скоплении русских войск на левом берегу Волги. Нельзя также сказать, что мы были застигнуты врасплох внезапным наступлением русских или капризами погоды. Я все учел и намерен был бороться той зимой и достичь решающего успеха. Но когда в декабре 1942 года ситуация под Сталинградом ухудшилась, меня подвела авиация, хотя Геринг обещал, что может гарантировать все снабжение 6-й армии в течение по меньшей мере 6— 8 недель... Вдобавок в самое критическое время под Сталинградом, когда итальянцы сверху, а румыны снизу не смогли удержать фронт, меня не было на месте, так как я был в пути на своем спецпоезде. В течение примерно 24 часов я не мог руководить сам, а когда узнал о несчастье, было слишком поздно».
Катастрофу под Сталинградом, таким образом, Гитлер был склонен относить за счет несчастливого стечения обстоятельств. Аргумент насчет 24 часов, потерянных из-за его переезда, вряд ли основателен. Даже и в эти потерянные сутки он наверняка не отдал бы приказ о немедленном отводе 6-й армии, а это еще могло спасти положение. Слишком много значил для фюрера этот город, имевший огромное символическое и стратегическое значение. Именно с контролем над этим городом Гитлер связывал последние надежды на достижение решающего успеха в России. И в первый день советского наступления, когда еще не был до конца ясен масштаб катастрофы, он никогда бы не отдал приказ оставить Сталинград.
А вот насчет неожиданной нестойкости союзников Гитлер не лукавил. Конечно, он еще до начала русской кампании отдавал себе отчет, что итальянцы, румыны и венгры значительно уступают по боеспособности не только вермахту, но и Красной Армии. Но что они окажут столь слабое сопротивление натиску советских войск в ноябре — декабре 1942 года и буквально в одночасье сдадут свои позиции, не ожидали ни Гитлер, ни его генералы.
Также и реалистичность обещания Геринга бесперебойно снабжать 6-ю армию Паулюса всем необходимым в первые дни сталинградского окружения оценить было очень трудно. Ведь перед глазами Гитлера был успешный пример снабжения по воздуху в течение нескольких месяцев «котла» в Демянске, где было окружено лишь вдвое меньше немецких солдат, чем в Сталинграде. И при этом Гитлер все-таки не побоялся взять на себя ответственность за сталинградское поражение, не сваливая вину на генералов.
Что же касается тех ошибок, которые обычно приписывают Гитлеру германские генералы и союзные историки, то они при ближайшем рассмотрении не могут быть признаны таковыми. Например, решение Гитлера в августе 1941 года, перед тем как продолжить наступление на Москву, уничтожить группировку советских войск в районе Киева нельзя признать неправильным. Как отмечает В. Мазер, «было ли это августовское решение в действительности ошибкой Гитлера, невозможно ни достоверно доказать, ни опровергнуть». Во всяком случае, в результате осуществления приказа Гитлера вермахту удалось окружить и уничтожить советские армии как под Киевом, так и в районе Вязьмы и Брянска (в каждом из «котлов» было захвачено более 660 тысяч пленных). Если бы было принято мнение руководства ОКХ (Верховное командование германских сухопутных сил. — Б. С.) и группы армий «Центр» и генеральное наступление на Москву началось еще в августе, то немцам наверняка удалось бы разбить советские войска на подступах к Москве. Зато группировка у Киева избежала бы разгрома и наверняка усилила бы в дальнейшем оборону московского направления. И в результате вермахту все равно бы не удалось взять Москву, а потери Красной Армии, скорее всего, были бы даже меньше, чем они оказались в действительности в сентябре — октябре 1941 года.
Отмечу, что Гитлер прекрасно знал о трагической судьбе советских военнопленных и ничего не сделал для облегчения их участи. На Нюрнбергском процессе А. Йодль дал показания о положении советских военнопленных в районе Вязьмы поздней осенью и зимой 1941 года: «На места посылались несколько адъютантов фюрера, которые докладывали фюреру по этому вопросу в моем присутствии. Во время этих докладов речь шла о массовой смертности военнопленных после последнего крупного сражения и окружения под Вязьмой. Причины массовой смертности, как полагали адъютанты фюрера, сводились к следующему. Окруженные русские армии оказывали фанатичное сопротивление и в течение последних 8—10 дней не имели никакого продовольствия. Они питались корой и корнями деревьев, так как зашли во время отступления в самые непроходимые лесные районы. Они попадали к нам в плен в таком обессиленном состоянии, что не способны были даже передвигаться. При напряженном положении со снабжением, которое было в то время в связи с разрушением железных дорог, вывезти их всех куда-либо было невозможно. Каких-либо мест для их расквартирования поблизости не имелось. Спасти большую часть их можно было только с помощью немедленного и тщательного лечения в госпитальных условиях. Вскоре начались дожди, а затем холода. Именно это и стало причиной того, что такая значительная часть этих пленных в районе Вязьмы умерла в плену. Таков был доклад адъютантов фюрера, посланных в район Вязьмы. Такие же сообщения поступили и от генерал-квартирмейстера сухопутных войск».
Еще в самом начале русской кампании, ожидая, что, согласно плану «Барбаросса», будут захвачены миллионы пленных, Гитлер не предусмотрел ни в этом плане, ни в каких-либо других известных сегодня документах никаких мер по медицинскому обеспечению пленных и их снабжению продовольствием, а также по их эвакуации из прифронтовой полосы в глубокий тыл. Тем самым пленные красноармейцы фактически обрекались на мучительную смерть от голода, холода и эпидемий.
Что же касается «стоп-приказа» от 19 декабря 1941 года, то многие генералы вермахта полагали, что именно этот приказ спас войска в России от катастрофы. Так, генерал Гюнтер Блюментрит, начальник штаба сражавшейся под Москвой 4-й армии, утверждал: «Гитлер инстинктивно понял, что любое отступление по снегам и льду через несколько дней приведет к распаду всего немецкого фронта... Дивизии не разрешалось отступать больше чем на 5—10 километров за одну ночь. Большего и нельзя было требовать от войск и гужевого транспорта в тех невероятно тяжелых условиях. Так как все дороги были занесены снегом, отступать приходилось по открытой местности». 11 января 1942 года Гитлер на совещании с руководством сухопутных войск, посвященном советскому контрнаступлению под Москвой, заявил: «Борьба за выигрыш каждого дня, каждого часа является выигрышем вообще, даже если нервное напряжение будет слишком велико. Если удастся остановить войска, будет сделано большое дело».
И практически всю вторую половину войны, начиная со сталинградской катастрофы, Гитлер боролся уже не за победу, а только за выигрыш времени, в надежде на раскол среди своих противников да на «чудо-оружие». В свете этого ему часто приходилось требовать от войск удерживать территорию, отдаляя приближение неприятельских армий, не считаясь с риском для обороняющихся попасть в окружение. И вплоть до лета 1944 года, до высадки союзников в Нормандии, Гитлеру удавалось избегать крупных катастроф на Восточном фронте. Отразить же советское наступление в Белоруссии вермахт не имел никакой возможности, поскольку основные силы люфтваффе и танковые резервы были направлены во Францию. Но и отводить группу армий «Центр» из Белоруссии к Западному Бугу еще до начала советского наступления было бессмысленно. Тогда Красная Армия на два-три месяца раньше вышла бы к польской границе, а перспективы немецкой обороны на новом рубеже были весьма сомнительны. С точки зрения борьбы за выигрыш времени стратегия Гитлера была правильна, но несколько лишних месяцев сопротивления не могли спасти Рейх.
Заговор 20 июля
В сего на Гитлера было осуществлено два покушения, причем оба имели довольно большие шансы на успех, помешали которому случайности. Покушавшиеся не имели возможности их предусмотреть. Первое, менее известное, осуществил мюнхенский столяр Георг Эльснер. Он заложил бомбу в деревянную колонну пивной «Бюргербраукеллер» в 16-ю годовщину «пивного путча» 9 ноября 1939 года. От ее взрыва погибли 7 «старых камерадов» — участников путча. Еще 63 человека были ранены. Однако к тому моменту Гитлер успел закончить свое выступление и покинуть пивную. В этот раз, из-за начавшейся войны, Гитлер говорил гораздо короче, чем обычно на годовщинах событий 1923 года, и спешил на совещание. Он не стал задерживаться в «Бюргербраукеллер», чтобы пообщаться со старыми товарищами, — это и спасло ему жизнь. Эльснер был типичным террористом-одиночкой и убежденным антифашистом, симпатизировавшим социал-демократам. Нацистская пропаганда обвинила в организации покушения британскую разведку, и в Голландии людьми Шелленберга были похищены двое британских агентов и представлены как соучастники Эльснера. Сам же столяр был убит в Заксенхаузене 9 апреля 1945 года, причем официально было объявлено, будто он погиб при налете англо-американской авиации.
После покушения 9 ноября 1939 года в залах, где выступал Гитлер, охрана стала размещать микрофоны для прослушивания. Однако это никак не могло предотвратить нового покушения, происшедшего не в зале, а на секретном совещании в «Вольфшанце».
Второй раз, как хорошо известно, Гитлер чуть не погиб от взрыва бомбы, которую полковник граф Клаус фон Штауффенберг взорвал в ставке Гитлера в Восточной Пруссии 20 июля 1944 года. Видя, что Гитлер ведет Германию в пропасть тотального поражения и безоговорочной капитуляции, Штауффенберг и другие участники заговора рассчитывали убить фюрера, захватить власть в стране и добиться заключения мира со странами антигитлеровской коалиции на условиях сохранения Германии в качестве независимого государства в границах 1937 года. Даже если бы покушение удалось, реальных шансов на реализацию своего плана у заговорщиков практически не было. Вряд ли возглавляемые Гиммлером войска СС после смерти Гитлера сдались бы без боя, а основная часть вермахта поддержала бы Бека, Герделлера, Вицлебена, Гепнера и Штауффенберга.
Покушение могло, вероятно, состояться и парой недель раньше, но помешали какие-то непредвиденные обстоятельства. А. Шпеер 15 апреля 1952 года писал в дневнике, который вел в тюрьме Шпандау: «Отчетливо помню, как я стоял со Штауффенбергом в «Бергхофе» у подножия большой наружной лестницы после совещания, в котором кроме нас двоих принимали участие только Гитлер, Гиммлер, Геринг, Кейтель и Фромм (не исключено, что присутствие Фромма, одного из руководителей заговора, остановило Штауффенберга. — Б. С.), — до покушения оставалось 14 дней. У Штауффенберга в руках был тяжелый портфель, в котором, видимо, уже тогда были бомбы, и мне пришло в голову на следующий день после 20 июля, когда стали известны подробности покушения, что этот портфель во время всего обсуждения стоял у моего кресла. А теперь, после утомительного заседания, в ходе которого Геринг, Гиммлер и Кейтель утвердительно кивали в ответ на монологи Гитлера, Штауффенберг заявил, что здесь собрались сплошь оппортунисты и психопаты. И никто не осмелился вымолвить ни слова. «С вами я все еще охотно могу побеседовать, но с этими идиотами уже не имеет никакого смысла», — сказал он мне. Он так и сказал «идиотами», и на мгновение меня охватил ужас. Ибо мы тоже иногда высказывали критические замечания, находили те или иные недостатки, но таких слов мы себе не позволяли. Штауффенберг не дождался от меня ответа, ибо как раз остатки моей лояльности по отношению к Гитлеру помешали мне что-либо сказать. Но я все-таки не выдал Штауффенберга, то же самое относится к Фромму и многим другим, которые с полным доверием ко мне критиковали слабость руководства».
Данная запись, между прочим, замечательна тем, что очень ярко характеризует самого Шпеера. После войны он всячески старался подчеркивать свою нарастающую оппозиционность Гитлеру и свое искреннее раскаяние в преступлениях Гитлера и нацистского режима, которому преданно служил. И в дневнике, где Шпеер пытался оправдаться перед победителями, историей и германским народом, он доходил до абсурда. Вот, мол, какой молодец — не донес на Штауффенберга! А что бы, интересно, он сказал Гитлеру? Что-нибудь вроде следующего: «Мой фюрер! Тут полковник Штауффенберг Геринга, Гиммлера и Кейтеля идиотами и оппортунистами обозвал!» (самого-то Гитлера Штауффенберг открыто не критиковал). И что бы ему на это ответил Гитлер? «Так они такие и есть»? Здесь Шпеер пытается выглядеть как Ленин в известном анекдоте: «Идет Ленин по Кремлю, увидел мальчика, дал ему яблоко. А мог бы запросто и бритвой полоснуть. Но ведь не полоснул!»
Показательно также, что офицеры и генералы сухопутных сил вынашивали планы устранения Гитлера еще с 1938 года и решились на покушение только в июле 1944 года. После высадки союзников в Нормандии и советского наступления в Белоруссии было понятно, что положение Германии безнадежно и война продлится уже не годы, а лишь месяцы.
Движущие силы антигитлеровской оппозиции военных хорошо охарактеризовал генерал Фридо фон Зенгер-Эттерлин. Сам выходец из Бадена и убежденный католик, он не питал ни малейшей симпатии к нацистскому режиму, но в то же время никак не был связан и с заговором 20 июля. Зенгер писал: «Гитлеровский режим не был следствием прусского милитаризма. Пруссачество на востоке от Эльбы — а только там оно и имело силу — всегда испытывало отвращение к этому режиму, если не сказать враждебность. Более того, многие другие офицеры поддерживали в этом тех, кто был воспитан в прусских традициях. Для них всех мерзко было оказаться под покровительством лидера с пролетарскими устремлениями, а они были достаточно проницательны, чтобы ясно осознавать опасность гитлеровского курса в международной политике. Среди многих его противников были Фрич, Бек, Хаммерштейн, Вицлебен, Гёппнер, Гальдер и Генрих Штюльпнагель. Никто не был в большей степени замешан в заговоре 20 июля 1933 года, чем юнкера с восточного берега Эльбы, с которыми был исторически тесно связан и прусский офицерский корпус.
Эти воспитанные в традиционном прусском духе офицеры оказались перед лицом трагедии, когда их призвали на войну, которую, по их убеждению, невозможно было выиграть. Они не хотели войны, но их воспитали и выучили для нее».
Интересное свидетельство о том, как развивались события в гитлеровской ставке в день покушения, оставил начальник личной охраны Гитлера группенфюрер СС Ганс Раттенхубер: «В четверг, 20 июля 1944 года, на 14 часов дня было назначено заседание военного совета, где между прочим должен был обсуждаться вопрос о вооружении дивизий «народных гренадеров» (ополченцев).
В связи с этим Гитлер пригласил принять участие в заседании непосредственно занимавшегося формированием упомянутых дивизий полковника графа фон Штауффенберга (являвшегося начальником штаба армии резерва. — Б. С.). Геринг и Гиммлер должны были также присутствовать на совещании.
Штауффенберг вместе с обер-лейтенантом Хефтером и начальником связи германской армии генералом Фельгибелем вылетели из Берлина в ставку и доложили о своем прибытии фельдмаршалу Кейтелю.
По неизвестной мне причине в последний момент начало совещания было перенесено на 13 часов 30 минут, т. е. на полчаса раньше. Так что об этом изменении не успели даже оповестить Геринга и Гиммлера.
Незадолго до того как Кейтель со Штауффенбергом пришли на совещание, последний незаметно, посредством плоскогубцев, вытащил предохранитель из адской машины, действие которой было рассчитано максимально на 30 минут, а затем заказал телефонный разговор с Верховным командованием сухопутных сил.
Кейтель и Штауффенберг пошли на совещание, а Фельгибель и Хефтер остались у помещения офицера Зандера, руководившего узлом связи в ставке. Здесь же остановилась также автомашина, на которой Штауффенберг и Фельгибель приехали с аэродрома.
По пути к бараку, где проводилось совещание, адъютант Кейтеля — майор Ион — хотел было помочь Штауффенбергу нести портфель (так как у Штауффенберга были раньше тяжело ранены обе руки), но Штауффенберг это резко отклонил.
Они вошли в барак, где уже были офицеры и куда вскоре вошел сам Гитлер.
На столе были разложены карты: слева — Восточного фронта, справа — карта Южного фронта, а на середине стола — карты Центрального и Северного фронтов.
Штауффенберг после приветствия Гитлера поставил портфель на пол, прислонив его к правой ножке стола, немного поговорил с генералом Буле (начальником управления оснащения сухопутных сил) и вышел из помещения к узлу связи под предлогом необходимости разговора по телефону, где его ожидали Фельгибель и Хефтер.
За это время обсуждение вопроса о положении на Южном фронте закончилось, и Гитлер подошел к середине стола, где находилась карта Центрального фронта. В это же время генерал Буле вызвал Штауффенберга, так как хотел ему передать какие-то распоряжения.
Когда Гитлер наклонился над столом, а Буле также подошел к этому столу, — последовал взрыв. Правая ножка стола была совершенно уничтожена. Находившаяся над ней часть стола с картой Южного фронта была выбита, а висевшая над столом люстра упала на голову генерал-полковнику Йодлю.
Штурмбаннфюрер СС Гюнше и майор Ион, стоявшие у окон, были выброшены силой взрыва наружу вместе с оконными рамами. Стенографу Бергеру оторвало обе ноги. Тяжелые ожоги и ранения получили генералы Шмундт и Кортен, а также подполковник Брандт, капитан Ассман, подполковник Боркман и генерал Боденшац. Бергер, Шмундт, Кортен, Брандт впоследствии умерли от полученных ран. Лишь один фельдмаршал Кейтель случайно остался невредимым.
Гитлер получил незначительные повреждения правой руки и стал плохо слышать на одно ухо. Взрывной волной брюки Гитлера были разодраны в клочья. Получив нервный шок, он не смог сам идти, и два охранника с трудом помогли ему добраться до своего бункера.
Немедленно после взрыва Штауффенберг, Фельгибель и Хефтер выехали на автомашине на аэродром, не узнав подробности о результатах произведенного покушения.
Начальник 1-го отдела охраны штурмбаннфюрер СС Хегель был на пути к бараку, когда раздался взрыв. Он увидел столб дыма и пыли и немедленно приказал закрыть входы и выходы из ставки.
Штауффенберг, Фельгибель и Хефтер доехали до караульного поста, где были задержаны, но после телефонного разговора с адъютантом коменданта ставки были пропущены. Так они добрались до аэродрома и немедленно вылетели в Берлин.
Хегель направился в помещение, где было совершено покушение, и после осмотра установил, что взрыв последовал не из-под половиц, а что взорвался предмет, стоявший на полу.
Хегель спросил вахмистра Адама, кто выходил из помещения во время заседания. Адам ответил, что выходил Штауффенберг и что он его ищет, так как им заказан телефонный разговор с Берлином. Свои подозрения в отношении Штауффенберга Хегель доложил Кейтелю и приехавшему в это время Гиммлеру. Тотчас же было установлено, что Штауффенберг, Хефтер и Фельгибель с подозрительной поспешностью вылетели в Берлин.
С санкции Гиммлера Хегель позвонил в Берлин начальнику IV управления СД Мюллеру и сообщил ему о происшедшем и подозрениях на Штауффенберга для принятия соответствующих мер. Мюллер немедленно учредил наружное наблюдение за Штауффенбергом, Фельгибелем и Хефтером сразу же после их прибытия на аэродром для установления круга заговорщиков.
Наружное наблюдение сопровождало их до квартир отдельных участников заговора... а затем в штаб генерал-полковника Фромма (командующего армией резерва. — Б. С.).
Когда Штауффенберг и Хефтер (Фельгибель поехал в другое место) доложили Фромму об «удавшемся покушении», последний их застрелил. Вероятно, Фромм уже знал, что покушение не удалось.
По приказу Гиммлера в ставку была направлена «особая комиссия гестапо» для проведения тщательного расследования на месте. Из членов комиссии припоминаю специалиста по взрывчатым веществам — штурмбаннфюрера СС Видемана...
В самом бараке, где произошел взрыв, комиссия обнаружила остатки портфеля, плоскогубцев, капсюля, и к концу дня вся картина покушения была уже ясна.
Шофер, отвозивший трех офицеров на аэродром, показал на допросе, что во время поездки почувствовал толчок, как будто кто-то из пассажиров выбросил что-то из машины. При осмотре местности была найдена вторая адская машина, выброшенная из автомобиля.
Анализ взрывчатки, как говорил мне Видеман, показал, что взрывчатое вещество было английского происхождения, однако оно могло быть произведено и в химической лаборатории имперского управления криминальной полиции.
В последующие дни были арестованы фельдмаршал фон Вицлебен, генералы Гёппнер и Штиф, обергруппенфюрер СА граф Гельдорф, а ряд офицеров, в том числе генерал Вагнер и полковник Фрейтаг фон Лорингофен покончили жизнь самоубийством.
В соучастии в покушении на Гитлера подозревался также начальник имперской криминальной полиции группенфюрер СС Небе, которому удалось бежать и некоторое время скрываться, пока он не был арестован в окрестностях Берлина...
Следует отметить, что, как показал генерал Штиф, покушение на Гитлера планировалось вначале в Берхтесгадене, однако не было осуществлено, так как заговорщики в силу особо тщательной охраны этого района не смогли бы оттуда выбраться.
Затем было намечено осуществить покушение в начале июля 1944 года около замка Клесхейм, где Гитлер должен был осматривать новые типы танков и военного обмундирования. Заговорщики хотели положить в ранцы трех солдат, демонстрировавших обмундирование, мины, которые должны были взорваться при малейшем натягивании одного из ремней на ранце. В этих целях взрывчатка была принесена в ставку командования сухопутными силами (лес Мауэрвальд), где ее хотели было зарыть, однако этому помешали сотрудники тайной полевой полиции, обнаружившие эту взрывчатку. По приказу заговорщика генерал-квартирмейстера Вагнера расследование по этому делу было прекращено.
Далее было установлено, что Штауффенбёрг приезжал с адской машинок также и в ставку Гиммлера, но имел ли он намерение совершить там покушение на Гиммлера — осталось невыясненным.
До осени 1944 года точное происхождение взрывчатого вещества, посредством которого заговорщики осуществляли покушение на Гитлера, не было установлено (взрывчатка оказалась трофейной английской и была предоставлена Штауффенбергу участвовавшими в заговоре офицерами абвера. — Б. С.). Возможно, что по этому поводу дал показания Небе, однако мне это неизвестно».
Опыт покушения 20 июля доказывает, что даже возможность пронести бомбу в помещение, где находился Гитлер, отнюдь не гарантировала успеха. Штауффенберг, потерявший в Тунисе правую руку и два пальца левой, не мог использовать для покушения пистолет, да и вытащить его и произвести прицельный выстрел во время совещания было очень мало шансов. Также не мог он взорвать бомбу или гранату, непосредственно метнув ее в фюрера. Оставалась только бомба со взрывателем замедленного действия. Но в этом случае покушающийся не знает, в каком положении по отношению к заложенному заряду будет находиться жертва в момент взрыва. Гитлера спас дубовый стол, над которым он склонился, рассматривая карту обстановки на фронте группы армий «Центр». Кроме того, полковник Брандт, которому мешал портфель Штауффенберга, передвинул его по другую сторону ножки стола, так что теперь массивная тумба заслонила фюрера от бомбы. Даже в столь благоприятных обстоятельствах для покушения, в которых оказался Штауффенберг, сумевший поставить портфель с бомбой у самых ног Гитлера, успех определялся только волей случая. Между прочим, если бы совещание не было перенесено в барак, а проводилось, как обычно, в бункере, где взрывная волна нанесла бы гораздо больший ущерб, то у Гитлера было бы существенно меньше шансов уцелеть. После того как фюрер остался жив, заговор был обречен на скорую ликвидацию. Ведь Штауффенберг и его соратники сразу после приземления в Берлине, по свидетельству Раттенхубера, оказались «под колпаком» у шефа гестапо Мюллера. У заговорщиков не было поддержки ни в народе, ни среди основной массы солдат и офицеров вермахта.
А. Шпеер справедливо отмечал в мемуарах, что «жизнь Гитлеру спасло то обстоятельство, что к 20 июля не успели закончить внутреннюю отделку его нового бункера и для проведения оперативного совещания выбрали предназначенное для меня легкое деревянное строение, в котором к тому же были распахнуты окна и двери. В замкнутом пространстве подземного помещения после такого мощного взрыва никто бы из присутствующих не уцелел».
Сразу после покушения, в ночь на 21 июля, Гитлер в качестве Верховного главнокомандующего издал приказ: «Небольшая кучка бессовестных предателей совершила покушение на меня и штаб вермахта, чтобы захватить власть в государстве. Провидение помогло предотвратить это преступление».
Гитлер, убежденный антихристианин, приписал свое спасение не Богу, а языческому Провидению. Через восемь часов после покушения он выступил с радиообращением к германской нации. Этот замечательный во многих отношениях текст я процитирую почти полностью:
«Немецкие граждане и гражданки!
Я не знаю, в который уже раз на меня подготовлялось и производилось покушение. Если я к вам сегодня обращаюсь, то делаю это по двум причинам:
1. Для того чтобы вы слышали мой голос и знали бы, что я невредим и здоров.
2. Для того чтобы вы узнали подробности преступления, которое не имеет себе подобного в истории немецкого народа.
Совсем маленькая клика тщеславных, бессовестных и в то же время преступно глупых офицеров создала конспиративный заговор, с целью устранить меня и вместе со мной ликвидировать командный штаб германских вооруженных сил. Бомба, подложенная полковником графом фон Штауффенбергом, взорвалась в двух метрах справа от меня. Ею был очень тяжело ранен ряд ценных моих сотрудников — один из них скончался.
Я сам остался вполне невредим, если не считать легких накожных ссадин, ушибов и ожогов. Я это воспринимаю как подтверждение данного мне Провидением поручения стремиться и впредь к осуществлению моей жизненной цели так, как я это делал до сих пор.
Ибо я могу перед всей нацией торжественно объявить, что с того дня, как я пришел на Вильгельмштрассе, у меня была лишь одна мысль — добросовестно исполнять мой долг и что, с тех пор как я убедился в неизбежности и неотложности войны, я знал, собственно говоря, только заботу и труд, и в бесчисленные дни и в бессонные ночи я жил только для моего народа.
В час, когда германская армия ведет тяжелейшую борьбу, и в Германии, как ранее в Италии, нашлась ничтожная, маленькая группа людей, которая полагала, что сможет нанести нации удар в спину, как в 1918 году. На этот раз они жестоко ошиблись.
Утверждение этих узурпаторов, что меня нет в живых, опровергается с момента, в который я, мои дорогие немецкие сограждане, обращаюсь к вам с этой речью. Круг, представляемый этими узурпаторами, исключительно мал (сразу вспоминаются знаменитые ленинские слова: «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа», вполне применимые к Штауффенбергу и его товарищам. Их не мог поддержать не только народ, но и основная масса офицеров вермахта. — Б. С.). С германскими вооруженными силами, и в частности с германскими сухопутными войсками, он не имеет ничего общего. Это маленькая шайка преступных элементов, которая теперь будет беспощадно уничтожена.
Чтобы окончательно водворить порядок, я назначил рейхсминистра Гиммлера командующим всеми тыловыми войсками. Чтобы заменить временно выбывшего по болезни начальника Генерального штаба, я призвал вместо него в Генеральный штаб генерал-полковника Гудериана и назначил его, одного из испытаннейших военачальников Восточного фронта.
Во всех других учреждениях Рейха все остается без перемен. Я убежден, что мы после ликвидации этой ничтожной клики предателей и заговорщиков создадим в тылу ту атмосферу, в которой нуждаются бойцы на фронте. Ибо совсем недопустимо, чтобы в то время, когда на передовых позициях тысячи и миллионы солдат жертвуют последним, в тылу ничтожная шайка честолюбивых и жалких тварей могла бы пытаться препятствовать этой жертвенности.
На этот раз мы рассчитаемся с ними так, как это принято у нас, национал-социалистов. Я убежден, что в этот час каждый порядочный офицер и каждый храбрый солдат поймут наши действия.
Какая участь постигла бы Германию в случае, если бы покушение удалось, это могут представить, наверное, только совсем немногие. Я лично благодарен Провидению и Создателю не за то, что Он сохранил мне жизнь — жизнь моя состоит в заботе и труде для моего народа, — но я Ему благодарен за то, что Он мне дал возможность и впредь заботиться о народе и продолжать мою работу так, чтобы я мог ответить за нее перед моей совестью.
Долг каждого немца, кем бы он ни был, оказывать беспощадный отпор этим элементам, либо немедленно арестовывать, либо, при малейшем сопротивлении, без колебания уничтожать. Приказы по всем воинским частям отданы. Они будут беспрекословно исполнены согласно тем традициям повиновения, что присущи германской армии.
Еще раз я особо приветствую вас, мои старые соратники, потому что мне опять удалось избежать участи, которая для меня самого не таила ничего ужасного, но которая принесла бы много ужасов немецкому народу. Я вижу в этом перст Провидения, указывающий на то, что я должен продолжать мое дело, и поэтому я его и буду продолжать».
Заговорщики все же оказались отнюдь не «ничтожно малой шайкой». По обвинению в причастности к событиям 20 июля было арестовано несколько тысяч человек, из них около двухсот казнено, а еще несколько десятков офицеров покончили жизнь самоубийством.
Гитлер, предавая арестованных беспощадному Народному трибуналу, заметил: «На этот раз я расправлюсь с ними безо всякого снисхождения. Эти преступники предстанут не перед военным судом, где сидят их пособники и где затягиваются процессы. Они будут вышвырнуты из вермахта и предстанут перед Народным судом. Они не получат честной пули, а будут повешены как подлые изменники! Суд чести вышвырнет их из вермахта, и тогда можно будет судить их как гражданских лиц, так что они не запятнают престижа вермахта. Судить их следует молниеносно, не позволять им произносить никаких речей. И приводить приговор в исполнение в течение двух часов после его вынесения! Их следует вешать тут же без всякой жалости. И самое главное — не давать им времени для длинных речей. Ну Фрейслер (председатель Народного суда. — Б. С.) уж об этом позаботится. Это — наш Вышинский». Фюреру явно импонировал опыт советской «скорострельной» юстиции 30-х годов.
Впрочем, что любопытно, полтора месяца спустя, после катастроф в Румынии и во Франции у Фалеза, Гитлер даже пожалел, что не погиб от бомбы Штауффенберга. 31 августа 1944 года фюрер заявил: «Если бы моя жизнь закончилась 20 июля, это стало бы для меня избавлением от забот, бессонных ночей и тяжких душевных страданий!» Действительно, в конечном поражении Гитлер тогда уже ничуть не сомневался. А гибель в результате покушения позволила бы ему войти в историю непобежденным, да еще жертвой подлых предателей!
Повторю, что даже в случае успеха покушения у заговорщиков практически не было шансов захватить власть. Об этом хорошо написал после войны Ф. Зенгер: «Что оставалось делать? От Гитлера, наверное, можно было бы избавиться, но это не устранило бы всей банды гангстеров, державших бразды правления и готовых к тому, что их будут судить как преступников. Многие из моих молодых друзей (участников заговора. — Б. С.) мечтали, что западные державы начнут переговоры с новым германским правительством, состоящим из мятежных генералов. Они не понимали, что даже иностранцы, хорошо знавшие Германию... считали «милитаризм» ответственным за приход Гитлера к власти, хотя ни один слой населения страны не дал столько его противников, сколько германская армия. Они надеялись прослыть противниками Гитлера за рубежом, потому что считались таковыми в самой Германии, и это заставляло их верить в возможность переговоров. Однако наши противники были заинтересованы только в безоговорочной капитуляции, и в немалой степени причиной тому было сложившееся общественное мнение за рубежом».
Фактически, когда Зенгер говорит, что в вермахте было больше противников Гитлера, чем в других слоях населения, он имеет в виду не весь народ, а лишь его элиту. Действительно, среди представителей военной элиты оказалось больше открытых противников Гитлера, чем среди экономической элиты или, например, деятелей науки и культуры, особенно если брать тех, кто не эмигрировал, а остался в Германии. Что же касается шансов на успех заговора, то их действительно не было, даже в случае если бы Гитлер погиб 20 июля 1944 года. Ведь заговорщики располагали хоть какой-то поддержкой лишь среди командования и военной администрации Западного фронта. На Восточном фронте и в Италии, равно как и на территории Рейха, никаких командиров боевых частей и соединений на их стороне не было, а караульный батальон Отто Эрнста Ремера они двинули на берлинские правительственные здания только с помощью обмана о смерти Гитлера и попытке СС захватить власть, который очень быстро был разоблачен. Именно отсутствие сил не позволило заговорщикам изолировать основные центры власти в Берлине и прервать их связь с «Вольфшанце». После гибели Гитлера власть бы наверняка перешла к Герингу, в тот момент числившемуся официальным преемником фюрера. И его поддержали бы не только люфтваффе и флот, где подавляющее большинство офицерского корпуса симпатизировало нацистам, воссоздавшим эти виды германских вооруженных сил, но и большинство генералов, офицеров и солдат сухопутных сил, не говоря уж о войсках СС. Страны антигитлеровской коалиции, которых страшила боевая мощь вермахта, а не только завоевательные стремления Гитлера, и после гибели фюрера не отказались бы от требования безоговорочной капитуляции. И чем участники заговора 20 июля собирались привлечь на свою сторону народ и армию? Призывом сдаваться на милость тех, против кого тотальная пропаганда пять лет побуждала бороться не на жизнь, а на смерть? Даже если бы командующий Западным фронтом Клюге попытался в случае гибели Гитлера заключить перемирие с союзниками, его приказ вряд ли был бы выполнен. И исход путча был бы таким же, каким он и оказался в действительности.
Нельзя не признать, что Штауффенбергом и большинством его товарищей двигали благородные цели. Но необходимо подчеркнуть, что, к несчастью, надежд на успех их предприятия практически не было. В то же время некоторым из заговорщиков, например имперскому руководителю криминальной полиции группенфюреру СС Артуру Небе, в случае победы союзников грозила верная виселица за активное участие в «окончательном решении». В самые страдные месяцы 1941-го он командовал эйнзатцгруппой «Б» на Восточном фронте, уничтожившей около 50 тысяч евреев. А повесили его, по иронии судьбы, за участие в июльском заговоре. И никто уже не ответит, на что рассчитывали Небе и те немногие заговорщики. Неужели на то, что союзники откажутся от требования безоговорочной капитуляции и закроют глаза на совершенные при нацистах преступления?
Расовая политика Гитлера
Вся деятельность Гитлера была подчинена расовой идее. Он считал германскую расу высшей на земле и боролся за ее господство. Другим народам он предлагал подчинение или гибель. Можно вполне согласиться с мнением эстонских историков А. Адамсона и С. Валдмаа: «Конечно, цели всех великих держав в войне были корыстны, но особенно это характерно для целей Германии: если большевики (интернационал-социалисты) боролись во имя того, что они считали счастьем для всего человечества, то германские национал-социалисты боролись во имя господства одной расы — светловолосых германцев, «арийцев» — и были готовы стереть с лица земли все расы, которые в их глазах представлялись «низшими» или «неполноценными». Большинство эстонцев воевало во Второй мировой войне в немецких мундирах, оказавшись таким образом на стороне тех, кто проиграл войну... и это определяет наши мнения и чувства. Нам пришлось много страдать под полувековой советской оккупацией. Однако победа Гитлера была бы для человечества более страшным несчастьем, чем победа Сталина».
Для реализации иррациональной по сути расовой доктрины использовались вполне рациональные средства в виде первоклассной армии и военно-промышленного комплекса. А для ее обоснования фюрер изрядно «подправил» культурную историю человечества.
В книге «Моя борьба» он утверждал «арийский приоритет» во всех основных сферах культуры: «Вся человеческая культура, все достижения искусства, науки и техники, свидетелями которых мы являемся сегодня, почти исключительно плоды творчества арийцев. Один лишь этот факт вполне обоснованно подтверждает вывод о том, что именно ариец — родоначальник высшего гуманизма, а следовательно, и прообраз всего того, что мы понимаем под словом «человек». Он — Прометей человечества, со светлого чела которого во все времена слетали искры гениальности, всегда заново разжигающие огонь знаний, освещающий мглу мрачного невежества, что позволило человеку возвыситься над всеми другими существами Земли... Именно он заложил основы и воздвиг стены всех великих сооружений человеческой культуры».
Уделяя внимание германской культуре, Гитлер с началом Второй мировой войны позаботился о том, чтобы людей искусства не призывали в армию. Разумеется, только тех, кто выражал в своем творчестве «истинно германский дух», а не «растлителей-декадентов». Многие из последних, впрочем, к тому времени уже успели покинуть территорию Рейха.
«Арийское превосходство», по мнению фюрера, особенно ярко проявилось в военной сфере. Но Гитлер считал, что в германской армии периода Первой мировой войны не все было ладно, иначе не разразилась бы катастрофа 1918 года. Ее он связывал с «предательством» социал-демократов, среди которых, как считал фюрер, ведущую роль играли евреи.
Главной целью внешней и внутренней политики национал-социалистического государства провозглашалось достижение мирового господства и получение «жизненного пространства» на Востоке — в Польше и России для избранного германского народа. Расовые мотивы пронизывали всю жизнь Третьего Рейха. Гитлер писал в книге «Моя борьба»: «Наше государство будет прежде всего стремиться установить здоровую, естественную жизненную пропорцию между количеством нашего населения и темпом его роста, с одной стороны, и количеством и качеством наших территорий — с другой. Только так наша внешняя политика может должным образом обеспечить судьбы нашей расы, объединенной в нашем государстве.
Здоровой пропорцией мы можем считать лишь такое соотношение между указанными двумя величинами, которое целиком и полностью обеспечивает пропитание народа продуктами нашей собственной земли. Всякое иное положение вещей, если оно длится даже столетиями и тысячелетиями, является ненормальным и нездоровым. Раньше или позже такое положение принесет величайший вред народу и может привести к его полному уничтожению.
Чтобы народ мог обеспечить себе подлинную свободу существования, ему нужна достаточно большая территория».
«Расово неполноценные» элементы должны были беспощадно истребляться или изгоняться за пределы обитания германского народа. Среди собственно немцев истреблению подлежали неизлечимо больные и психически больные. 1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой войны, Гитлер отдал секретный приказ «расширить полномочия определенного круга врачей таким образом, чтобы они могли обеспечить милосердную смерть неизлечимо больным после критического изучения их здоровья». В рамках этой «милосердной акции» только в Германии было уничтожено более 50 тысяч человек. Неизлечимо больные и слабоумные также подлежали уничтожению и на оккупированных территориях.
Главным объектом будущей германской колонизации Гитлер назвал Россию: «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой внешней политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и обращаем взор в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе.
Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены.
Сама судьба указует нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование и которая одна только служила залогом известной прочности государства. Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия была обязана германским элементам — превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы. Именно так были созданы многие могущественные государства на земле. Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов стояли германцы, превращались в могущественные государства и затем держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев. В течение столетий Россия жила именно за счет германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут своими собственными силами скинуть ярмо евреев, так и одни евреи не в силах долго держать в своем подчинении это громадное государство. Сами евреи отнюдь не являются элементом организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель. К этому уже созрели все предпосылки. Конец еврейского господства в России будет также концом России как государства. Судьба предназначила нам быть свидетелями такой катастрофы, которая лучше, чем что бы то ни было, подтвердит безусловную правильность нашей расовой теории».
Гитлер искренне верил, что только германский расовый элемент в виде первой норманнской княжеской династии Рюриковичей и норманнской дружины, позднее получивший прививку в виде остзейского немецкого дворянства, обеспечил тысячелетнее существование Русского государства. В ходе революции 1917 года и последующей Гражданской войны потомки Рюриковичей, а также иных дворян варяжского (норманнского) происхождения, равно как и остзейские бароны, были либо истреблены, либо вынуждены эмигрировать. Поэтому фюрер был убежден, что в моральном и организационном отношении Советская Россия стала значительно слабее прежней Российской империи и не может рассматриваться в качестве серьезного военного противника. Неудача Красной Армии в финской войне и «чистка» высшего командного состава 1937—1938 годов, казалось бы, подтверждали гитлеровскую теорию. К счастью, она оказалась ошибочной. А вот насчет того, что евреи не смогут надолго удержаться в советских властных структурах, Гитлер не ошибся. Уже к концу 20-х годов, после того как Сталин одолел внутрипартийную оппозицию, евреев в высшем партийном руководстве почти не осталось. На протяжении 30-х годов они утратили свои позиции в НКВД и в Красной Армии (равно как и прочие инородцы, имевшие связи с иностранными государствами, — поляки и выходцы из Прибалтики, а в 40-е годы, в ходе кампании борьбы с космополитизмом, евреи были вычищены и с номенклатурных постов среднего звена.
Широкая колонизация восточных земель немцами и «германскими народами», вроде голландцев или норвежцев, мыслилась нацистами только после победоносного окончания войны. В военное время было сделано несколько пробных акций такого рода, в частности в районе ставки Гитлера под Винницей, но все они закончились безрезультатно.
Гитлер не мыслил никакого иного устройства Велико-германского Рейха, кроме как на основе безусловного подчинения всех завоеванных или «добровольно присоединившихся» стран диктату из Берлина. Собственно германские земли, а тем более оккупированные территории не должны были обладать ни автономией, ни какими-либо элементами государственной самостоятельности. Если и говорилось о каком-то равноправии «германских народов» в составе Великогерманского Рейха, то только в пропагандистских целях.
Разрабатывались планы «германизации» арийских народов, а также славян, среди которых с помощью антропометрии стремились выявить лиц с повышенной долей «германской крови». Хотя в действительности, например, те же славяне и немцы, замечу, имеют не только языковое, но и физико-антропологическое родство и не могут быть в принципе разделены по этим признакам. Рейхсфюрер Гиммлер 5 апреля 1942 года в ставке Гитлера заявил, что «наилучший способ решить французскую проблему — это ежегодно проводить среди населения Франции отбор лиц германской крови. Нужно попробовать поместить их детей в самом раннем возрасте в немецкие интернаты, заставить там забыть о том, что волею случая они считались французами, внушая, что в них течет германская кровь, и подчеркивая их принадлежность к великому германскому народу». Гитлер, однако, весьма осторожно отнесся к идее онемечивания французов: «Все попытки онемечивания меня не особенно вдохновляют, если только они не подкреплены мировоззренчески. В случае с Францией следует помнить, что ее военная слава зиждется не на идейной позиции большинства населения, но на том, что французы пару раз умело использовали благоприятное для них соотношение военных сил на континенте (например, вступив в Тридцатилетнюю войну). Но там, где им противостояли немцы, наделенные национальным самосознанием, они всегда получали хорошую взбучку, например от Фридриха Великого в 1740 году и т. п. И не имеет никакого значения то, что корсиканец Наполеон, этот уникальный военный гений, вел ее к победам всемирно-исторического значения. Большинство французов склонны к мещанству, и поэтому для Франции будет тяжелым ударом, если ее правящий слой лишить пополнения лицами германской крови».
Гитлер втолковывал Гиммлеру, одержимому идеями германизации не только французов, но даже поляков и чехов (последние даже считались «германским народом»): «Разве я с легким сердцем разделил свою родину Австрию на несколько маленьких гау с целью избавить ее от сепаратистских тенденций и облегчить ее присоединение к Германскому Рейху. У Австрии в конце концов своя полутысячелетняя история, в которой было много поистине великих событий.
Но при обсуждении этой проблемы с голландцами и норвежцами (согласно расовой теории национал-социалистов, относившихся к «германским народам». — Б. С.) следует быть очень осторожными. Нужно всегда помнить, что Бавария в 1871 году также ни разу не выразила намерения присоединиться к Пруссии; Бисмарк только уговорил ее войти в состав мощного, близкого ей по крови союза под названием Германия. Я в 1938 году тоже не говорил австрийцам, что хочу присоединить их к Германии; напротив, я всегда подчеркивал, что намерен объединить их с Германией и создать Великогерманский Рейх (т. е. якобы новое государство, где Австрия будет едва ли не равноправна с Германией. Разумеется, это был только пропагандистский лозунг. — Б. С.). Германцам Северо-Запада и Севера (т. е. голландцам, фламандцам и скандинавским народам. — Б. С.) нужно постоянно внушать, что речь идет всего лишь о Германском Рейхе, только о Рейхе, идеологической и военной опорой которого является Германия...
Я скептически отношусь к участию иностранных легионов в военных действиях на Восточном фронте. Никогда не следует забывать, что любой из этих легионеров, если только он не проникся сознанием своей кровной связи с Германской империей как основой нового европейского единства, будет чувствовать себя предателем своего народа.
Насколько это опасно, наглядно демонстрирует распад Австро-Венгерской империи. Здесь также полагали, что смогут привлечь на свою сторону другие народы, к примеру поляков, чехов и т. д., если предоставят им возможность пройти военное обучение в рядах австрийской армии. В решающий момент выяснилось, что именно эти люди подняли против нее знамя борьбы. Поэтому речь идет о том, чтобы попытаться воссоздать Германский Рейх под германским знаменем. Невозможно было в 1871 году заставить Баварию присоединиться к Германской империи под знаменами Пруссии, равно как и невозможно ныне объединить германские народы под черно-бело-красным (кайзеровским) знаменем прежнего Рейха. Поэтому я с самого начала ввел для НСДАП, являющейся носительницей идеи объединения всех германцев, новый символ, который станет также символом всех германцев, — знамя со свастикой (повторяющее цвета кайзеровского флага. — Б. С.)».
Гитлер также предостерегал против слишком широкого онемечивания чехов и поляков. Он подчеркивал, что «всякое проявление терпимости по отношению к полякам неуместно. Иначе опять придется столкнуться с теми же явлениями, которые уже известны истории и которые всегда происходили после разделов Польши. Поляки потому и выжили, что не могли не воспринимать всерьез русских как своих повелителей, и еще потому, что им удалось, прибегая к всевозможным уловкам, добиться у немцев такого политического положения, которое при поддержке политического католицизма стало решающим фактором в германской внутренней политике.
Нужно прежде всего следить за тем, чтобы не было случаев совокупления между немцами и поляками, ибо в противном случае в вены польского правящего слоя постоянно будет вливаться свежая немецкая кровь...
Неменьшую осторожность следует проявлять и в отношении чехов, у которых есть пятисотлетний опыт, как лучше всего изображать из себя верноподданных, не возбуждая ни в ком недоверия. Сколько чехов во времена моей юности праздно шатались по Вене, очень быстро осваивая венский диалект, а затем ловко пробирались на высшие посты в государстве, занимали ведущие позиции в экономике и т. д.!»
Гитлер упрекал власти Второй империи за «половинчатость» в польском вопросе: «Поляков дразнили, а серьезного удара не нанесли ни разу. В результате мы не получили победы немцев и не достигли замирения поляков». Он отрицал возможность «германизации» поляков путем внедрения в польских землях немецкого языка: «Польский народ остался бы польским народом, только выражающим на чужом языке свои собственные чуждые нам идеи. Такой чуждый нашей расе народ своею более низкой ступенью развития только компрометировал бы достоинство и высоту развития нашего собственного народа». Расовая доктрина нацистов обрекала поляков или на уничтожение, или на депортацию. «Германизации» подлежали лишь те поляки, которых нацистские ученые-антропологи сочли бы близкими к германской расе.
Депортации начались в первые же дни оккупации вермахтом. Уже 20 октября 1939 года начальник 16-й оперативной команды СД штурмбаннфюрер СС Франц Редер докладывал в Главное управление имперской безопасности (РСХА): «По воле фюрера из населенной поляками Померании должна возникнуть в кратчайший срок немецкая Западная Пруссия. Для осуществления этих задач необходимы, по согласованному мнению всех компетентных органов, следующие меры:
1. Физическая ликвидация всех польских элементов, которые:
а) в прошлом играли ведущую роль на польской стороне или б) могут стать в будущем участниками польского сопротивления.
2. Выселение или переселение всех «коренных поляков» и «конгрессоров» (переселенцев из Царства Польского) из Западной Пруссии.
3. Переселение ценных в расовом и прочих отношениях поляков в центр старого Рейха, поскольку речь идет об угасающей немецкой родопреемственности, причем включение в немецкое народное тело должно происходить беспрепятственно. Указанные меры проводились с первого дня».
Также имперский протектор Богемии и Моравии Рейнгард Гейдрих, выступая перед чинами оккупационной администрации в феврале 1942 года, заявил, что от 40 до 60 процентов чехов должны слиться с немцами в единый народ, а не подлежащие германизации чехи должны отправиться осваивать «жизненное пространство» на Востоке. Для этой же цели предполагалось использовать не вполне полноценную в расовом отношении часть голландцев. И тех, и других представителей «германских народов» предполагалось сделать «надсмотрщиками» над местным восточнославянским населением.
Из «расово неполноценных» народов в будущем Гитлер собирался готовить слуг для немцев. В мае 1940 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер составил меморандум «Об обращении с инородцами на Востоке» (имелось в виду Польское генерал-губернаторство). Там, в частности, утверждалось: «Для негерманского населения Востока не должно быть образования свыше четырехлетней народной школы. Там должны учить лишь простому счету до пятисот, написанию своего имени и тому, что Господь Бог требует слушаться немцев и быть честными, прилежными и порядочными. Умение читать я считаю для них излишним. Никаких других школ на Востоке вообще не должно быть». Гитлер же в марте 1942 года утверждал в своей ставке: «Прежде всего мы не должны направлять немецких учителей на восточные территории (имелась в виду как Польша, так и оккупированные советские территории. — Б. С.). Иначе мы потеряем и детей, и родителей. Мы потеряем весь народ, так как вбитые в его головы знания впрок не пойдут. Самое лучшее было бы, если эти люди освоили там для общения с немцами только язык жестов. По радио же было бы полезнее всего передавать музыку в неограниченном количестве. Только к умственной работе приучать их не следует. Не допускать никаких печатных изданий... Эти люди будут чувствовать себя самыми счастливыми, если их по возможности оставят в покое. Иначе мы вырастим там наших злейших врагов! Но конечно, если действовать в интересах наших учителешек, то первым делом следовало бы открыть в Киеве университет».
На практике подобные программы представляли собой несбыточные утопии, к осуществлению которых можно было бы теоретически приступить лишь после окончания войны и обретения Германией мирового господства. В реальной действительности и в Польше, и на оккупированных советских территориях газеты все же выходили, да и в школах учили отнюдь не только расписываться и считать до пятисот, хотя университетов, конечно, не открывали.
Гитлер и другие руководители Германии, начиная войну против СССР, смотрели на советскую территорию как на место создания новых немецких поселений и источник почти дарового сырья и энергии. Население же рассматривалось как дешевая рабочая сила, обслуживающая нужды Рейха и германских колонистов на Востоке. При этом евреи и цыгане подлежали уничтожению, а славянское и литовское население должно было быть существенно сокращено благодаря недоеданию и репрессиям за действия партизан. Бывший уполномоченный по борьбе с партизанами на Востоке обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах-Зелевски, представ в качестве свидетеля перед Нюрнбергским трибуналом, показал, что Гиммлер в речи, произнесенной в 1941 году в Везельсбурге, накануне похода на Россию, призвал уменьшить общую численность славянского населения в Польше и на оккупированных территориях СССР на 30 миллионов человек. Этой цели, в частности, служили карательные операции против партизан и казни заложников, а также всех тех, кто подозревался в связях с партизанами. 16 декабря 1942 года Гитлер отдал бесчеловечный приказ о борьбе с партизанами («бандами») в России, Польше и на Балканах: «Враг использует в бандитской борьбе фанатичных и вышколенных борцов, которые не страшатся никакого насилия. Речь идет о том, быть или не быть. Эта борьба не имеет ничего общего с солдатским рыцарством и с положениями Женевской конвенции. Если борьба против банд будет вестись недостаточно жестокими методами, то в обозримом будущем у нас не хватит сил для сдерживания этой чумы.
Поэтому войска имеют право и обязаны применять в этой борьбе без каких-либо ограничений любые средства, ведущие к успеху, в том числе против женщин и детей. Поблажки всякого рода — преступления против солдат, подвергающихся бандитским нападениям. Не может быть никакого снисхождения к бандитам и их пособникам.
Ни один военнослужащий, участвующий в борьбе против банд и их пособников, не может привлекаться к судебной или дисциплинарной ответственности за свои действия».
Характерно, что жертвами этого приказа должны были стать прежде всего славяне, представлявшие собой, с точки зрения Гитлера, расово неполноценный элемент. В конце 1942 года фюреру уже было ясно, что войну Германии не выиграть. Но он стремился все равно истребить как можно больше евреев и славян, которых считал главными врагами германского народа.
Впрочем, иногда сам фюрер готов был пересмотреть свои взгляды на расовую неполноценность тех или иных народов. Так, 2 июня 1942 года, суммируя в ставке впечатления от поездки в Полтаву, в штаб группы армий «Юг», Гитлер признал, что посещение Украины «заставило меня несколько пересмотреть прежние расовые воззрения. В Полтаве я видел столько голубоглазых и светловолосых женщин, что я даже подумал — вспомнив фотографии норвежек или даже голландок, представленные ему вместе с прошениями о женитьбе, — а не следует ли, вместо того чтобы говорить о проблеме «распространения северного типа», поднять вопрос о необходимости «распространить южный тип» в наших североевропейских государствах».
Гитлер мыслил себе решение национального вопроса в Великогерманском Рейхе только посредством германизации всех подходящих для этой цели ненемцев и уничтожения или высылки с территории Рейха всех «расово неполноценных» элементов. Но «окончательное решение» национальной проблемы он относил к далекому будущему, когда в Рейхе останется лишь однородная в национальном отношении масса германских народов, говорящих на немецком языке. Так, 22 января 1942 года фюрер заявил в своей ставке «Вольфшанце»: «Не исключено, что при последовательном руководстве мы через двести лет решим национальную проблему. В известной степени это уже было достигнуто Тридцатилетней войной.
В сороковые годы прошлого столетия любой чех стыдился говорить по-чешски. Он гордился, что говорит по-немецки, и был особенно горд, если его принимали за венца. Введение всеобщего, равного, тайного избирательного права нанесло в Австрии сокрушительный удар по немцам. Социал-демократия принципиально стала на сторону чехов, высшая знать тоже.
Для аристократии немцы вообще слишком культурный народ. Она предпочитает малые народы окраин. Чехи были лучше, чем венгры, румыны и поляки. У них уже образовался слой мелких буржуа, отличавшихся трудолюбием и знавших свое место. В наши дни они злобно, но и с безмерным восхищением взирают на нас: «Нам, богемцам, не дано властвовать!»
Только властвуя над другими народами, можно научиться управлять. Чехи давно бы избавились от своего комплекса неполноценности, если бы с течением времени осознали свое превосходство над остальными окраинными народами Австрии...
На протяжении нескольких веков мы замыкались исключительно на себе и теперь должны научиться активно наступать. Это продлится 50—100 лет. Мы умели властвовать над другими. Самый лучший пример этого — Австрия. Если бы Габсбурги не заключили союз с враждебными силами, то девять миллионов немцев справились бы с остальными пятьюдесятью миллионами!..
Нижняя Саксония, безусловно, родина властелинов. Английский господствующий слой родом оттуда! Именно там СС, используя свои методы, проводит набор руководящих кадров, с помощью которых через 100 лет можно будет управлять всеми территориями, не ломая себе голову над тем, кого куда назначить».
Идея рекрутирования «властелинов» на Нижнем Рейне так и не была, разумеется, реализована. И совсем уж фантастичными выглядят утверждения Гитлера о германцах Ближнего Востока: «Мы потеряли германцев, которых в Северной Африке называли берберами, а в Малой Азии — курдами. Одним из них был Кемаль Ататюрк, голубоглазый человек, не имевший ничего общего с турками».
Гитлер в книге «Моя борьба» отверг возможность солидарности нацистов с национально-освободительными движениями народов Британской империи, заявив: «Мы, немцы, кажется, могли сами достаточно убедиться, как нелегко справиться с Англией. А кроме всего прочего, скажу о себе, что я, как германец, все же всегда предпочту видеть Индию под владычеством Англии, чем под какой-либо другой властью».
Но здесь фюрер оказался плохим пророком. В годы Второй мировой войны Германии, Италии и Японии волей-неволей пришлось искать союза с национально-освободительными движениями в Индии, Бирме, арабских странах. А надежды на компромисс с Англией на основе «германской расовой солидарности» рассыпались в прах уже через какое-нибудь десятилетие после публикации «Моей борьбы».
Расовая доктрина национал-социализма не оставляла на земле места «малым народам», лишенным родины-почвы, — евреям и цыганам, подлежащим поголовному уничтожению. Дальше в «шкале вредоносности» шли поляки — «наследственные враги» немцев, численность которых надо было максимально ограничить, а государственность ликвидировать, не допуская никаких форм самоуправления. Однако тотального истребления польской нации нацисты не предусматривали.
Следующими после поляков вверх по шкале расовых предпочтений шли русские и белорусы, такие же, как и поляки, «недочеловеки», Die Untermenschen, но, по крайней мере, пользовавшиеся преимуществом перед поляками при назначении на посты в местном самоуправлении на оккупированных территориях. После белорусов и русских более высокую ступеньку «расовой пирамиды» занимали литовцы и украинцы. Литовцы, как обладавшие еще совсем недавно собственным государством, имели преимущество в виде самоуправления, как и два других прибалтийских народа — латыши и эстонцы. Однако из-за длительного существования на одной территории и предполагаемого нацистами «расового смешения» с поляками ни литовцы, ни украинцы не считались «арийскими народами».
Следующими по шкале шли уже собственно «арийские народы». Этой чести из населения СССР удостоились только эстонцы, латыши, казаки, татары Крыма и Поволжья, калмыки, осетины, ингуши, чеченцы и ряд других народов Северного Кавказа и Закавказья. Они в перспективе подлежали германизации и должны были составить единую общность с германским народом.
За пределами СССР к «арийским народам» относили французов, итальянцев, испанцев, португальцев, венгров, греков, румын, словаков, болгар, сербов, словенцев, турок и некоторых других. При этом итальянцы, венгры, румыны, словаки, хорваты и болгары считались особыми, «союзными народами», что повышало их статус и с точки зрения расовой теории.
Далее, ближе к вершине расовой пирамиды, следовали «германские народы: датчане, норвежцы, голландцы, фламандцы, валлоны, чехи, англичане, ирландцы, шведы, финны. Их предполагалось в первую очередь использовать для колонизации «восточных территорий».
В 1943 году, когда для стран антигитлеровской коалиции уже стало очевидно поражение Германии, расовая политика национал-социалистов претерпела вынужденные изменения. Термин «недочеловек» был изъят из употребления, и украинцы, белорусы, литовцы, русские и даже поляки официально признавались теперь «арийскими народами» и принимались на службу в вермахт и СС. Геббельс официально заявил по поводу этих «восточных народов»: «Нельзя изображать этих людей, надеющихся завоевать освобождение нашими руками, животными, варварами и тому подобным и одновременно рассчитывать на то, что они будут страстно желать победы немцев».
К тому времени расовая теория уже утратила всякий смысл как с точки зрения пропаганды, так и с точки зрения практической политики. Германия терпела поражение на всех фронтах, причем не только от «германских народов», англичан и американцев, что вроде бы было не так обидно, но и от русских, которых еще вчера называли «недочеловеками». Теперь речь уже шла не о завоевании новых земель на Востоке и на Западе, а о самом существовании Рейха. В этой борьбе нацисты искали любых союзников среди жителей оккупированных территорий, поэтому всякое тиражирование понятия «недочеловек» было прекращено. Теперь врагов — американцев, англичан и русских «опускали» только за счет пропагандистских тезисов об их будто бы самых тесных отношениях с евреями, и при этом тех же русских пытались разделить на «хороших» и «плохих», в зависимости от их связи: с германскими властями или с большевиками. Самим же немцам уже не напоминали о том, что они «сверхчеловеки», а призывали защитить свою родину, дом и семью от нашествия врагов. Разумеется, при этом деликатно обходился вопрос: кто же начал войну и успел завоевать полмира, прежде чем был остановлен?
Гитлер и еврейский вопрос
Одним из главных врагов и одновременно пропагандистских мишеней национал-социалистов стали «мировые плутократы» — воротилы международного финансового капитала. Многие из них были еврейского происхождения, что нацисты старательно подчеркивали.
Вместе с тем основную массу германских евреев составляли мелкие торговцы, адвокаты, врачи, ремесленники, журналисты. Они никак не могли быть причислены к крупным бизнесменам, но были удобным объектом расовой ненависти. Чужаки по вере, почти не занятые физическим трудом, они сделались объектом нападок со стороны разорявшихся крестьян, безработных рабочих, а немецкие торговцы и ремесленники, видя в еврейских коллегах своих конкурентов, особенно неприятных в период кризиса и падения спроса, также не питали теплых чувств к сынам Израиля.
Еще в книге «Моя борьба» Гитлер открыто выразил сожаление, что накануне и в ходе Первой мировой войны «не удалось отравить газом 12— 15 тысяч этих еврейских предателей народа». Именно евреев он считал виновниками «удара кинжалом в спину» сражающейся германской армии в 1918 году.
С 1933 года государственной политикой Германии стал антисемитизм, что означало вытеснение евреев из общественной жизни, культуры и всех более или менее престижных профессий, а с началом Второй мировой войны — полное физическое уничтожение еврейского народа в рамках «окончательного решения еврейского вопроса». Такая политика коренилась в патологическом антисемитизме Гитлера, развившемся еще в Вене кануна Первой мировой войны. В книге «Моя борьба» он вспоминал: «Окончательно оттолкнуло меня от евреев, когда я познакомился не только с физической неопрятностью, но и с моральной грязью этого избранного народа...
Разве есть на свете хоть одно нечистое дело, хоть одно бесстыдство какого бы то ни было сорта, и прежде всего в области культурной жизни народов, в которой не был бы замешан по крайней мере один еврей? Как в любом гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории непременно натолкнешься на еврейчика.
Когда я познакомился с деятельностью еврейства в прессе, в искусстве, в литературе, в театре, это неизбежно должно было усилить мое отрицательное отношение к евреям...
Это чума, чума, настоящая духовная чума, хуже той черной смерти, которой когда-то пугали народ. А в каких несметных количествах производился и распространялся этот яд!..
Одобрительные театральные рецензии всегда относились только к еврейским авторам. Резкая критика никогда не обрушивалась ни на кого другого, кроме как на немцев. Уколы против Вильгельма II становились системой, так же как специальное подчеркивание французской культуры и цивилизации. Пикантность литературной новеллы возводили до степени простого неприличия. Даже в их немецком языке было что-то чужое...
Отношение евреев к проституции и еще больше к торговле девушками можно наблюдать в Вене лучше, чем где бы то ни было в Западной Европе, за исключением, быть может, некоторых портов на юге Франции. Стоило выйти ночью на улицу, чтобы натолкнуться в некоторых кварталах Вены на каждом шагу на отвратительные сцены, которые большинству немецкого народа были совершенно неизвестны вплоть до самой мировой войны, когда часть наших германских солдат на Восточном фронте имела возможность или, точнее сказать, вынуждена была познакомиться с таким зрелищем...
Что было совершенно непонятно, так это та безграничная ненависть, с которой они относятся к собственной народности, к величию своего народа, та ненависть, с которой они бесчестят историю собственной страны и вываливают в грязи имена ее великих деятелей.
Это борьба против собственной страны, собственного гнезда, собственного очага бессмысленна и непонятна. Это просто противоестественно.
От этого порока их можно было излечить иногда на несколько дней, максимум на несколько недель. В скором времени при встрече у тех, кто казался тебе излеченным, приходилось убеждаться, что он остался прежним, что он опять во власти противоестественного».
Гитлер провозглашал: «Никакое примирение с евреями невозможно. С ними возможен только разговор по принципу: либо — либо! либо они — либо мы!»
Раз нельзя излечить, надо уничтожить. И уничтожили почти 6 миллионов человек, приведя их, так сказать, в «естественное состояние».
Геббельс, по части антисемитизма занимавший в нацистской верхушке почетное второе место после Гитлера, в 1937 году на партийном съезде в Нюрнберге заявил: «Взгляните, вот еврей — враг человечества, разрушитель цивилизации, паразит рода людского, воплощение зла, гнилостная бактерия, демон, приносящий вырождение человечества».
А Гитлер, вслед за другими антисемитами, утверждал: «Еврейский народ — при всем том, что внешне он кажется очень развитым, — на самом деле никакой истинной культуры не имеет, а в особенности не имеет никакой своей собственной культуры. Внешняя культура современного еврея на деле есть только извращенная им культура других народов». При этом «евреи живут, как паразиты, на теле других наций и государств. Это и вырабатывает в них то свойство, о котором Шопенгауэр должен был сказать, что «евреи являются величайшими виртуозами лжи»».
Фюрер прямо связывал еврейство с марксизмом и социал-демократией. Порой слова «еврей», «марксист», «коммунист» и «социал-демократ» выступали для него как синонимы. И всех их Гитлер считал злейшими врагами германской нации, объединяя в своем сознании политические и расовые категории. Он заявлял: «Когда я стал глубже изучать всю роль еврейского народа во всемирной истории, у меня внезапно мелькнула мысль, что, может быть, неисповедимые судьбы по причинам, которые нам, бедным людям, остаются еще неизвестными, все-таки предначертали окончательную победу именно этому маленькому народу. Может быть, этому народу, который испокон веков живет на этой земле, все же в награду достанется вся земля?
Имеем ли мы объективное право бороться за самосохранение или это право имеет только субъективное обоснование?
Когда я окончательно углубился в изучение марксизма и со спокойной ясностью подвел итог деятельности еврейского народа, судьба сама дала мне свой ответ.
Еврейское учение марксизма отвергает аристократический принцип рождения и на место извечного превосходства силы и индивидуальности ставит численность массы и ее мертвый вес. Марксизм отрицает в человеке ценность личности, он оспаривает значение народности и расы и отнимает таким образом у человечества предпосылки его существования и его культуры. Если бы марксизм стал основой всего мира, это означало бы конец всякой системы, какую до сих пор представлял себе ум человеческий. Для обитателей нашей планеты это означало бы конец их существования.
Если бы еврею с помощью его марксистского символа веры удалось одержать победу над народами мира, его корона стала бы венцом на могиле всего человечества. Тогда наша планета, как было с ней миллионы лет назад, носилась бы в эфире, опять безлюдная и пустая.
Вечная природа безжалостно мстит за нарушение ее законов.
Ныне я уверен, что действую вполне в духе Творца всемогущего, борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Божие».
Уничтожение евреев стало одной из главных целей внешней и внутренней политики Третьего Рейха. Гитлера не остановило то, что четверть всех германских нобелевских лауреатов были людьми еврейского происхождения. Кроме того, еврейская тема стала мощным оружием нацистской пропаганды. Все антифашисты в Германии объявлялись евреями или пособниками евреев. А насчет правительств стран антигитлеровской коалиции утверждалось, что они находятся под мощным еврейским влиянием.
Строго говоря, в истреблении евреев был значительный элемент иррациональности. «Окончательное решение» демонстрирует тот вред, который несла расовая доктрина Гитлера с прагматической точки зрения. Одно дело, когда евреев лишали гражданских прав и вытесняли из экономической жизни. Это только приветствовалось основной массой германского народа и было мощным пропагандистским средством повышения популярности национал-социалистов. Но совсем иное — поголовное уничтожение евреев. Это никак не могло встретить одобрения не только подавляющего большинства немцев, но и многих отъявленных антисемитов. Основная часть немцев, даже если и испытывала негативные чувства по отношению к евреям и приветствовала накладывавшие на евреев жесткие ограничения Нюрнбергские законы, совсем не была готова принять их физическое уничтожение. Как орудие пропаганды факт уничтожения евреев использовать не было никакой возможности. Поэтому «окончательное решение еврейского вопроса» приходилось проводить в глубокой тайне и от германского народа, и от мировой общественности. Если бы об этом преступлении стало известно, данное обстоятельство принесло бы нацистской Германии громадный вред, а шансов надежно скрыть организованное убийство миллионов евреев не было, учитывая общее число людей, вовлеченных в акцию.
Уничтожая миллионы евреев, нацисты в условиях военного времени лишали германскую экономику миллионов рабочих рук, которые вполне можно было использовать, пусть даже на подневольной основе. «Окончательное решение» порой затрудняло снабжение армии, так как еврейских ремесленников не всегда можно было быстро заменить. Не случайно по просьбе военного командования и оккупационной администрации зондеркоманды до поры до времени щадили евреев-ремесленников, работавших для нужд армии. Казалось бы, с рациональной точки зрения для национал-социалистов выгоднее было бы согнать евреев Европы в трудовые лагеря, где они могли бы работать для увеличения военно-экономического потенциала Рейха. Гитлер прекрасно понимал все невыгоды «окончательного решения» как в экономическом, так и пропагандистском отношении. Однако он питал просто мистическую, звериную, необоримую ненависть к евреям и предпочел пойти по пути их полного уничтожения, несмотря на все очевидные риски и невыгоды подобного образа действий. Уничтожение евреев в его сознании неразрывно связывалось с торжеством германской расы. Фюрер проповедовал лозунг: «Евреи должны погибнуть, чтобы жили немцы, чтобы жила Германия». Трагедия мирового еврейства и всего человечества заключалась в том, что бессмысленное с точки зрения здравого рассудка и бесчеловечное «окончательное решение» осуществлялось вполне рациональными и даже оптимальными методами в плане уничтожения в кратчайшие сроки максимального числа людей.
Следует признать, что антиеврейские лозунги нацистов падали на благодатную почву традиционного антисемитизма. Евреев винили и в поражении 1918 года, и в последовавшей за ним революции, и в тяготах репарационных выплат, особенно из-за связей с «еврейской плутократией» Англии, Франции и США. При этом в Германии к евреям все же относились менее жестоко, чем в родной Гитлеру Австрии. Принятые в 1935 году так называемые Нюрнбергские законы предоставляли всю полноту политических и юридических прав только гражданам Рейха, которые обязаны были документально доказать, что в их жилах течет немецкая кровь. Евреи же лишались политических и большинства имущественных прав и объявлялись только «подданными Рейха». Один из законов, «об охране немецкой крови и немецкой чести», запрещал браки и сексуальные связи между евреями и неевреями. Однако в Рейхе вплоть до «хрустальной ночи» ноября 1938 года, спровоцированной убийством советника германского посольства в Париже еврейским юношей — эмигрантом из Германии, прямому преследованию, связанному с неприкрытым насилием, евреев еще не подвергали. В Австрии же сразу после аншлюса в марте 1938 года жители Вены выгнали евреев на улицы и, издеваясь, заставили их мыть с мылом тротуары. С началом же Второй мировой войны, как мы помним, был осуществлен переход к политике «окончательного решения еврейского вопроса», имевшей своей конечной целью полное физическое истребление евреев Европы. Задачу удалось выполнить наполовину, истребив 6 из 12 миллионов евреев.
Жупел «еврейской угрозы» должен был послужить оправданием для германского народа в развязывании Гитлером Второй мировой войны. Еще 30 января 1939 года Гитлер сделал зловещее предупреждение: «Если международным еврейским финансовым кругам в Европе и за ее пределами удастся снова втянуть народы в мировую войну, то ее результатом станет не большевизация мира и, следовательно, триумф еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе». А 21 марта 1943 года, уже после Сталинграда и Эль-Аламейна, фюрер демагогически утверждал: «Вечное еврейство навязало нам эту жестокую и беспощадную войну».
Если до начала Второй мировой войны нацисты всерьез обсуждали проекты депортации германских евреев на Мадагаскар или в какую-либо другую азиатскую или африканскую страну, то условия военного времени были сочтены как весьма благоприятные для более радикальных действий. Особенно удобной была обстановка на Восточном театре военных действий, где не действовали никакие международные конвенции об обращении с военнопленными и жителями оккупированных территорий и не было никаких наблюдателей и корреспондентов из нейтральных стран. Шедшие сразу же вслед за наступающими частями вермахта эйнзатцгруппы и зондеркоманды СД (службы безопасности) сразу же выявляли всех евреев на занятой территории, в чем им активно помогала значительная часть местных жителей, и расстреливали их. Глава Германского трудового фронта Роберт Лей заявил еще в мае 1942 года в Карлсруэ: «Необходимо не просто изолировать человечество от еврейского недуга — евреи должны быть истреблены».
2 апреля 1941 года, накануне похода против России, Гитлер вызвал будущего рейхсминистра оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга и информировал его о планах «окончательного решения» еврейского вопроса путем полного истребления евреев Европы. Оккупированным территориям СССР в этом деле отводилась особая роль. Сюда, подальше от глаз общественности, собирались депортировать евреев Западной Европы, чтобы всех уничтожить. После двухчасовой беседы ужаснувшийся планам Гитлера Розенберг только и смог записать в дневнике: «Сегодня я не могу писать об этом, но я этого никогда не забуду». А 20 мая 1941 года в отделе IV В4 СД Адольф Эйхман получил указания, что «в скором времени предстоит окончательное решение еврейского вопроса», в связи с чем всем полицейским подразделениям предписывалось не допустить эмиграции евреев из Рейха и оккупированных территорий Западной Европы. Впоследствии на оккупированную советскую территорию депортировали для уничтожения евреев из Германии, Польши и стран Западной Европы. Всего здесь погибли почти 2 миллиона примерно из 6 миллионов истребленных нацистами евреев.
На оккупированных территориях политика нацистов по отношению к евреям встречала поддержку среди значительной части местного населения, которому в подавляющем большинстве была свойственная та или иная степень антисемитизма. Например, руководитель советского подполья Могилева Казимир Мэттэ признавал: «В первые месяцы оккупации немцы физически уничтожили всех евреев. Этот факт вызвал много различных рассуждений. Самая реакционная часть населения, сравнительно небольшая, полностью оправдывала это зверство и содействовала им в этом. Основная обывательская часть не соглашалась с такой жестокой расправой, но утверждала, что евреи сами виноваты в том, что их все ненавидят, однако было бы достаточно их ограничить экономически и политически, а расстрелять только некоторых, занимавших ответственные должности. Остальная часть населения — советски настроенная — сочувствовала и помогала евреям во многом, но очень возмущалась пассивностью евреев, так как они отдавали себя на убой, ни сделав ни одной, хотя бы стихийной попытки выступления против немцев в городе или массового ухода в партизаны. Кроме того, и просоветски настроенные люди отмечали, что очень многие евреи до войны старались устроиться на более доходные и хорошие служебные места, установили круговую поруку между собой, часто позволяли нетактичное отношение к русским, запугивая привлечением к ответственности за малейшее выступление против еврея и т. д. «И вот теперь евреи тоже ожидают помощи от русских Иванов, а сами ничего не делают», — говорили они. Общий же вывод у населения получился таков: как бы немец не рассчитался со всеми так, как с евреями. Это заставило многих призадуматься, внесло недоверие к немцам». Подобные антиеврейские настроения преобладали среди значительной части населения Польши, Украины, Белоруссии и Прибалтики, входивших прежде в пресловутую «черту оседлости» в Российской империи, восточнее которой евреям селиться было запрещено. Это облегчало проведение «окончательного решения».
Сначала уничтожение евреев осуществлялось в глубокой тайне даже от ряда высших чиновников Рейха. Но 6 октября 1943 года Гиммлер, выступая перед гаулейтерами и рейхслейтерами в Познани, несомненно, по поручению Гитлера, решил, что пришла пора ввести их в курс программы уничтожения еврейства, чтобы сделать их безусловными соучастниками геноцида. Рейхсфюрер говорил проникновенным, задушевным голосом, но от услышанного у собравшихся мороз пробежал по коже: «Я хочу откровенно поговорить с вами об очень серьезном деле. Сейчас, между собой, мы можем говорить о нем вполне открыто, но никогда не стану говорить об этом публично. Точно так же, как, повинуясь приказу, мы, выполняя свой долг, 30 июня 1934 года ставили к стенке заблудших товарищей (имеется в виду убийство Рема и его сторонников. — Б. С.), — но никогда не говорили и не станем говорить об этом. Наш природный такт побуждал нас никогда не касаться этой темы. Каждый из нас ужасался, но в то же время понимал, что в следующий раз, если это будет необходимо, он поступит так же.
Сейчас речь идет о депортации и об истреблении еврейской нации. Звучит это просто: «Евреи будут уничтожены». И все члены нашей партии, безусловно, скажут так: «Искоренение евреев, истребление их — это один из пунктов нашей программы, и он будет выполнен».
А потом приходят к нам все 80 миллионов достойных немцев, и каждый просит за своего порядочного еврея. Все остальные, конечно, свиньи, но вот именно этот — хороший еврей. Ни один из тех, кто говорит так, не видел своими глазами, как это происходит... Большинство присутствующих здесь знает, что это такое — видеть 100, или 500, или 1000 уложенных в ряд трупов. Суметь выдержать это — за исключением отдельных случаев человеческой слабости — и сохранить в себе порядочность — вот испытание, которое закалило нас. Это славная неписаная страница нашей истории, ибо мы знаем, как трудно было бы нам сегодня — в условиях бомбежки, тягот и лишений военного времени, если бы в каждом нашем городе еще жили евреи: скрытые саботажники, агитаторы и смутьяны...
Богатство, которым они владели, мы у них забрали. Я дал строгий приказ, выполненный обергруппенфюрером СС Полем (начальником хозяйственного управления СС. — Б. С.), передать все это Рейху. Мы ничего не оставили себе. Совершившие ошибки понесут наказание в соответствии с приказом, отданным мной в самом начале, который гласил: каждый, кто присвоит себе хотя бы одну марку из этих, подлежит казни. Несколько сотрудников СС — их немного — нарушили этот приказ, и их казнят. Пощады не будет. У нас есть моральное право, у нас есть обязательство перед немецким народом уничтожить эту нацию, которая хотела уничтожить нас. Но у нас нет права обогащаться, даже если речь идет только об одной шубе, об одних часах, об одной марке или одной сигарете. Наконец, мы не хотим, уничтожая бациллу, дать ей заразить себя и умереть самим. Я никогда не позволю себе остаться в стороне и наблюдать за тем, как появляется пусть даже маленькая червоточина и как она начинает расти. Где бы она ни появилась, мы вместе выжжем ее. Однако в целом мы можем сказать, что, вдохновленные любовью к нашему народу, мы справились с этой труднейшей задачей. При этом мы не нанесли никакого вреда нашему внутреннему миру, нашей душе, нашему характеру...»
Осознав всю меру ответственности в случае приближающегося и все более неотвратимого военного поражения, чиновники с горя перепились. Рейхслейтеров и гаулейтеров уложили как бревна в вагоны поезда, увозившего их из Познани. После этого инцидента Геббельс пообещал в будущем не позволять гаулейтерам выпивать больше двух рюмок коньяка в день. И ведь кое-кого из гаулейтеров действительно повесили. Но лишь меньшинство. Избежали петли и такие активные участники «окончательного решения», как рейхскомиссар Украины и гаулейтер Восточной Пруссии Эрих Кох и рейхскомиссар Остланда, куда входили Прибалтика и Белоруссия, Генрих Лозе. Первый получил пожизненное заключение, а второй отделался 10 годами тюрьмы.
Во время войны, особенно начиная с 1943 года, крылатой стала фраза Геббельса: «Во всем виноваты евреи». Им приписывали вину как за войну в целом, так и за поражения, которые начал терпеть вермахт.
И в своем предсмертном политическом завещании Гитлер излил всю свою ненависть, прибегнув к откровенным фальсификациям: «Это неверно, будто я или кто-то другой в Германии желал в 1939 году войны. Ее желали и развязали исключительно интернациональные государственные деятели либо еврейского происхождения, либо работавшие на еврейские интересы. Я вносил множество предложений по сокращению и ограничению вооружений, которые грядущие поколения не смогут вечно отрицать, чтобы возложить ответственность за возникновение этой войны на меня. Я никогда не хотел, чтобы после первой злосчастной мировой войны возникла еще одна мировая война против Англии или, тем более, против Америки. Пройдут века, но из руин наших городов и памятников искусства будет постоянно вырастать обновляющаяся ненависть к тому народу, которому мы обязаны всем этим: к интернациональному еврейству и его пособникам.
Еще за несколько дней до того, как разразилась германо-польская война, я предложил британскому послу в Берлине решение германо-польской проблемы — как и в случае с Саарской областью — под международным контролем. Это предложение тоже нельзя отрицать. Но оно было отвергнуто, потому что влиятельные круги английской политики желали войны, а отчасти подгонялись к ней организованной интернациональным еврейством пропагандой.
Но я не оставлял также сомнения и на этот счет, что, если народы Европы рассматриваются как пакеты акций для интернациональных финансовых и промышленных заговорщиков, будет привлечен к ответственности и тот народ, который является единственным виновником этой смертоубийственной войны: еврейство! Я также не оставлял никакой неясности насчет того, что на сей раз настоящий виновник, пусть и гуманными средствами (даже перед лицом смерти фюрер называл полное истребление евреев Европы «гуманным средством»! — Б. С.), но поплатится за то, что миллионы детей европейцев арийской расы умрут от голода, что свою смерть найдут миллионы взрослых мужчин, а сотни тысяч женщин и детей сгорят в наших городах или погибнут от бомбежек». О бомбардировках люфтваффе британских, голландских, французских, польских, югославских, советских городов фюрер не вспоминал.
Правда, с 1943 года, когда успехи вермахта сменились поражениями, «окончательное решение» претерпело некоторые метаморфозы. Уцелевшие к середине 1943 года евреи-специалисты, занятые на работах, больше не подвергались поголовному истреблению. Их отправили в концлагеря или в гетто, и они получили, пусть небольшой, шанс уцелеть. Правда, в случае восстания евреи истреблялись практически полностью, как это случилось, например, при подавлении восстания в Варшавском гетто. Но в тех странах, где «окончательное решение» только начиналось (например, как в Венгрии после ее оккупации германскими войсками в марте 1944 года), евреи истреблялись почти полностью.
Верил ли Гитлер в Бога?
Гражданская религия национал-социализма с ее Ветхим и Новым Заветом — книгой «Моя борьба», с ее символом веры — «одна страна, один народ, один фюрер», с ее пантеоном мучеников после прихода Гитлера к власти довольно быстро оттеснила все традиционные религии на второй план.
Сам Гитлер не был атеистом, но его веру никак нельзя назвать христианской. Фюрер скорее тяготел к языческому мистицизму и ветхозаветным жестоким заповедям, хотя к собственно иудейской религии питал патологическую ненависть. Он утверждал в книге «Моя борьба»: «Протестантизм лучше выражает нужды немецкого самосознания. Но он непригоден там, где защита национальных интересов осуществляется в сфере, которая либо отсутствует в его системе понятий, либо отрицается им по каким-либо причинам... Протестантизм всегда выступал за развитие германского самосознания... поскольку дело касалось внутренней чистоты, углубления национального духа и немецкой свободы... но он встречает в штыки любую попытку вырвать нацию из удушающих объятий ее смертельного врага, так как его позиция по отношению к еврейству более или менее определена его догмами. А между тем речь здесь идет о вопросе, без решения которого любые попытки немецкого возрождения были и останутся абсолютно бессмысленными и невозможными».
Гитлер, однако, совсем не восхищался протестантизмом, хотя как национальную немецкую религию ставил гораздо выше более космополитического католицизма. При нацистах была даже попытка основать «немецкую национальную церковь». Под давлением национал-социалистов и при активном участии симпатизировавшей им фракции «немецких христиан» синод евангелической церкви в Германии избрал 27 сентября 1933 года пастора Кенигсбергского военного округа Людвига Мюллера «епископом Рейха». Гитлер потребовал от него создать евангелическую автокефальную «церковь Рейха», но эта затея провалилась, встретив противодействие большинства германских лютеран.
Уже в 1941 году фюрер сожалел: «Нам не повезло, что наша религия убивает радость красоты. Протестантское ханжество еще хуже, чем католическая церковь». Но тут же добавил: «Я не занимаюсь догматами веры, но и не потерплю, чтобы священник занимался земными делами. Надо так сломать организованную ложь (так Гитлер именовал церковное христианство. — Б. С.), чтобы государство стало абсолютным властелином». А 13 декабря 1941 года, выразив неосновательную надежду, что «война идет к концу», Гитлер с гордостью добавил: «У меня шесть дивизий СС, ни один из этих солдат не ходит в церковь, и тем не менее они со спокойной душой идут на смерть». Поэтому-то на ременных пряжках эсэсовцев было выгравировано, не: «С нами Бог», как у солдат вермахта, а: «Моя честь — верность». Гитлер возмущался германскими министрами и генералами, которые убеждены, что «нам не победить без благословения церкви». Между тем эсэсовцы умирали с именем Гитлера на устах, а не с именем Бога.
Объективно национал-социалистической партии и государству никакая церковь не была нужна. Католическую церковь, более склонную к вмешательству в земные дела и следованию принципам гуманизма независимо от позиции светских властей, нацисты всячески принижали, к протестантским, как в большей мере «национально мыслящим», относились более терпимо. Впрочем, и католики под гнетом диктатуры и в условиях победоносного шествия вермахта довольно быстро присмирели. Так, Ватикан даже не рискнул публично осудить истребление евреев. В будущем же, в случае победы Германии в войне, и протестантам, и католикам была уготована не слишком завидная участь: слиться в полностью огосударствленной единой церкви. Как говорил Гитлер в узком кругу соратников, «война когда-нибудь кончится. Последней великой задачей нашего времени станет тогда решение проблемы церкви. Лишь тогда немецкая нация может считать свое будущее обеспеченным».
24 октября 1941 года, когда германские танковые колонны рвались к Москве, фюрер утверждал: «Большевики полагают, будто могут одержать триумф над Всевышним... Но мы, откуда бы мы ни черпали свои силы, будь то из катехизиса или философии, имеем возможность сделать шаг назад, в то время как они со своим материалистическим мировоззрением в конце концов съедят друг друга». В действительности Гитлер и его соратники верили, что творят волю Бога, и хотели продиктовать судьбу всему человечеству, для большинства — страшную. Но настоящим ужасом она обернулась для самих немцев.
В книге «Моя борьба» Гитлер провозглашал себя философом, чья вера в Бога носит внецерковный характер. В то же время он признавал для масс необходимость церковных догматов. Фюрер писал: «В нашем мире религиозные люди не могут обойтись без догматических обрядностей. Широкие слои народа состоят не из философов: для массы людей вера зачастую является единственной основой морально-нравственного миросозерцания... Если мы хотим, чтобы религиозные учения и вера действительно господствовали над умами широких масс народа, мы должны добиваться того, чтобы религия пользовалась безусловным авторитетом... Сотни тысяч более высоко развитых в умственном отношении людей отлично проживут и без этих условностей. Для миллионов же людей эти условности совершенно необходимы... Только благодаря догмату религиозная идея, вообще говоря, поддающаяся самым различным истолкованиям, приобретает определенную форму, без которой нет веры... Политику приходится прежде всего думать не о том, что данная религия имеет тот или другой недостаток, а о том, есть ли чем заменить существующую, пусть и не вполне совершенную, религию. И пока у нас нет лучшей замены, только дурак и преступник станет разрушать старую веру». После прихода нацистов к власти в качестве религиозной альтернативы стала все больше выступать расовая доктрина НСДАП, пропагандирующая борьбу за «жизненное пространство для наиболее полноценной германской расы».
Гитлер демагогически призывал к объединению всех сторонников христианских конфессий для борьбы с «еврейской опасностью»: «Сотни тысяч членов нашего народа гибнут в результате отравления крови, а мы проходим мимо всего этого, будто совершенно слепые. Эту свою гнусную работу евреи проводят совершенно планомерно. Эти черноволосые паразиты совершенно сознательно губят наших неопытных молодых светловолосых девушек, в результате чего мы теряем невосстановимые ценности. И что же?.. И католический, и протестантский лагери относятся совершенно равнодушно к этим преступлениям евреев и не замечают, как эти паразиты народов преступно уничтожают самые ценные, самые благородные дары Божий на земле. Судьбы мира решаются не тем, победят ли католики протестантов или протестанты католиков, а тем, сохранится ли арийское человечество на нашей земле или оно вымрет.
И при таком положении вещей католические и протестантские лагери не умеют соединиться против врагов человечества, а вместо этого подумывают, как бы уничтожить друг друга! Мы считаем, что обязанность подлинных патриотов — позаботиться о том, чтобы верующие обоих лагерей перестали всуе поминать имя Божие, а стали бы на деле выполнять волю Божию и сумели бы помешать евреям позорить дело Божие. Разве не Божья воля создала человека по образу и подобию Творца Всевышнего. Кто разрушает дело Божие, тот ополчается против воли Божией...
Национальное единство нельзя укрепить тем, чтобы разжечь войну между католиками и протестантами. Только при взаимной уступчивости, только при одинаковой терпимости с обеих сторон можно изменить нынешнее положение вещей и добиться того, чтобы в будущем нация действительно стала единой и великой».
В этом была трагедия германского народа. Национальное единство и взаимную терпимость немцев разных христианских вероисповеданий Гитлер цементировал неприкрытой расовой ненавистью.
Христианские церкви Гитлер до поры до времени готов был терпеть как необходимый массам институт. Но он не намерен был вступать в какие-либо устойчивые отношения с ними. И не скрывал своего презрения к людям, глубоко и искренне верующим в христианского Бога. В «застольных разговорах» в ставке фюрер настаивал, что «партия хорошо делает, что не вступает ни в какие отношения с церковью. У нас никогда не устраивались молебны в войсках. Пусть уж лучше — сказал я себе — меня на какое-то время отлучат от церкви или предадут проклятию. Дружба с церковью может обойтись очень дорого. Ибо, если я достиг чего-либо, мне придется во всеуслышание объявить: я добился этого только с благословения церкви. Так я лучше сделаю это без ее благословения, и мне никто не предъявит счет...
Если бы не националисты-добровольцы, то в 1918— 1920 годах священники у нас стали бы жертвой большевизма. Попы опасны, когда рушится государство. Тогда они собирают вокруг себя темные силы и вносят смуту: какие только трудности не создавали римские папы германским императорам! Я бы с удовольствием выстроил всех попов в одну шеренгу и заставил побеспокоиться о том, чтобы в небе не появились английские или русские самолеты. В данный момент (осенью 1941 года. — Б. С.) больше пользы государству приносит тот, кто изготавливает противотанковые орудия, чем тот, кто машет кропилом...»
Тогда же Гитлер высказал сомнения в христианских Догматах с рационалистической точки зрения и подчеркнул значение языческих элементов культуры, которые ничуть не ниже христианских, хотя и не имеют уже сегодня прежнего религиозного значения: «В наши дни человек, знакомый с открытиями в области естествознания, уже не сможет всерьез воспринимать учение церкви: то, что противоречит законам природы, не может быть Божественного происхождения, и Господь, если пожелает, поразит молнией также и церковь. Целиком основывающаяся на взглядах античных мыслителей, религиозная философия отстает от современного уровня развития науки. В Италии и Испании это закончилось резней (Гитлер имел в виду процессы инквизиции. — Б. С.).
Я не хочу, чтобы у нас случилось то же самое. Мы счастливы, что сохранились Парфенон, Пантеон и другие святыни, хотя с религиозной стороной этих сооружений мы уже давно не имеем ничего общего. Будь их у нас еще больше, это было бы просто великолепно. Мы ведь все равно не будем поклоняться в них Зевсу...
Я ничего не знаю о загробном мире и достаточно честен, чтобы открыто признаться в этом. Другие же утверждают, что кое-что знают о нем, а я не могу представить доказательства, что это не так.
Крестьянке я бы не хотел навязывать свою философию. Учение церкви тоже своего рода философия, пусть даже и не стремящаяся отыскать истину. Но поскольку людям крупномасштабные материи недоступны, это не страшно. В итоге все в общем-то сводится к признанию беспомощности человека перед вечным законом природы. Не повредит также, если мы придем только лишь к выводу, что спасение человека — в его стремлении постичь волю Божественного провидения, а не в вере в свою способность восстать против закона. Это же просто замечательно, когда человек безропотно чтит законы.
Поскольку любые потрясения суть зло, лучше всего будет, если нам удастся, просвещая умы, постепенно и безболезненно преодолеть такой институт, как церковь. Самыми последними на очереди были бы, видимо, женские монастыри».
Сам Гитлер христианство и церковь отвергал, в существование загробного мира не верил, а верил только в существование Бога в виде Божественного провидения, чью волю, как полагал, и должен исполнять истинный фюрер. Он ощущал себя сверхчеловеком, которому позволено вершить законы Божеские и человеческие. Но масса — это другое дело. Массе необходима церковь, хотя бы для того, чтобы удержать людей от нарушения государственных законов. И церковная организация должна сохраниться до того времени, когда возникнет идеальное национал-социалистическое государство, основанное на расовых законах и состоящее только из расово и социально полноценных членов. А такое возможно лишь после установления мирового господства Германской империи. До этого времени придется терпеть противоестественное сосуществование антихристианского государства и церкви, которая необходима для сохранения стабильности государственных институтов, а также институтов семьи и собственности. Но никакая непосредственная связь ни с одной из церквей не должна осквернять национал-социалистической партии.
Гитлер вопрошал: «Сделали ли научные открытия людей счастливыми? Не знаю. Но они счастливы, имея возможность придерживаться самых различных вероисповеданий. Значит, нужно быть терпимее в этом вопросе». Но при этом он считал, что «человек, придерживающийся ложной веры, выше того, кто вообще ни во что не верит. Так, профессор-большевик воображает, что одержал победу над Божьим промыслом. Этим людям с нами не совладать. Неважно, черпаем ли мы свои идеи из катехизиса или из философских трактатов, у нас всегда есть возможности для отступления, они же с их сугубо материалистическими взглядами в конце концов просто сожрут друг друга». Но в войне победили как раз большевики-материалисты.
Гитлер прямо провозгласил отказ от принципов христианского гуманизма и утверждал, что человеческая жизнь не имеет абсолютной ценности: «Не следует так уж высоко ценить жизнь каждого живого существа. Если эта жизнь необходима, она не погибнет».
Таким образом, фюрер допускал существование вечной жизни, которая лишь меняет форму своего бытия. Вот только загробного мира, как считал Гитлер, не существует, поскольку душа, покинув бренное тело, тотчас находит для своего воплощения другую оболочку. Он утверждал: «Наша религиозность — это вообще наш позор... Христианский тезис о загробном мире я ничем не могу заменить, поскольку он совершенно несостоятелен. Но вера в вечную жизнь имеет под собой определенные основания. Ум и душа возвращаются в общее хранилище, как, впрочем, и тело. Мы ляжем удобрениями в почву, на которой появится новая жизнь. Я не хочу ломать голову в поисках ответов на вопросы «почему?» и «отчего?». Все равно нам не дано проникнуть в глубину души.
Если и есть Бог, он дает не только жизнь, но и способность познания. И если я с помощью данного мне Богом разума регулирую свою жизнь, то могу ошибаться, но не солгу.
Переселение тел в загробный мир невозможно хотя бы уже потому, что каждый, кто был бы вынужден взирать сверху на нас, испытывал бы страшные муки: он просто бы бесился от ярости, видя те ошибки, которые непрерывно совершают люди...
Я стремлюсь к такому порядку вещей, когда каждый твердо бы знал о себе: он живет и умирает во имя сохранения своей расы (по всей видимости, фюрер был убежден, что «истинный ариец», ставящий интересы германской расы превыше всего, и после смерти найдет себе новое воплощение только в представителях своей расы, а не в каких-нибудь евреях, и тем более — не в свиньях, коровах или лягушках. — Б. С.). Задача состоит в том, чтобы воспитать в людях высочайшее уважение к тем, кто особенно отличился в борьбе за выживание расы. Очень хорошо, что я не пустил попов в партию. 21 марта 1933 года—в Потсдаме — встал вопрос: идти или не идти в церковь? Я завоевал государство, не испугавшись проклятий обеих конфессий. Если бы я тогда в самом начале прибег к услугам церкви — мы пошли к могилам королей, а государственные деятели отправились в церковь, — то меня постигла бы судьба дуче» (Муссолини заключил конкордат с Ватиканом).
Когда в осажденном Берлине фюрер пустил в себя пулю, он, быть может, верил, что все равно не умрет, а его душа перейдет в бездну космоса, чтобы потом воскреснуть в новой реинкарнации. Как и всякому мистику, ему был близок этот пункт буддизма и ряда других восточных религий, в том числе «арийских» (информация о перевоплощении душ содержится в древней «Книге Коляды» и других дохристианских источниках славянской культуры. — Ред.).
Конец Гитлера
В начале апреля 1945 года, когда англо-американские войска двигались к Эльбе, а советские войска, ворвавшись в Вену и Кенигсберг, готовились к походу на Берлин, Гитлеру было ясно, что конец неотвратимо приближается и жить ему осталось считаные недели, хотя его окружение еще поддерживало в себе иллюзии, что фюрер каким-то чудом в последний момент сумеет спасти положение. Геббельс записал в дневнике: «Фюрер должен напрягать все свои духовные силы, чтобы в этой сверхкритической ситуации сохранить самообладание. Но я надеюсь, что он справится с этой ситуацией. Он всегда умел с величественным спокойствием дожидаться своего момента. Стоит наступить этому моменту, как он начнет действовать со всей решительностью». Но для фюрера оставался теперь только один решающий момент — самоубийство. Хотя он и старался создать у окружающих впечатление, что какие-то шансы в борьбе еще сохраняются, чтобы избежать преждевременной капитуляции, до тех пор пока он сам не окажется в безнадежном положении. Поэтому Гитлер распорядился об эвакуации ряда правительственных учреждений в «Альпийскую крепость», хотя отлично знал, что там нет ни сил, ни средств для длительного сопротивления. У людей из своего окружения он поддерживал убеждение, что фюрер тоже отправится в Берхтесгаден, хотя, очевидно, уже принял решение навсегда остаться в Берлине, обреченном на захват Красной Армией. Гитлер не хотел, чтобы, узнав об этом, они начали преждевременно сдавать свои войска западным союзникам.
По признанию Шпеера, уже само прибытие в рейхсканцелярию Евы Браун было сразу же сочтено ее обитателями предвестием близкого конца: «В первой половине апреля в Берлин неожиданно и без всякого приглашения приехала Ева Браун и заявила, что желает теперь быть всегда рядом с Гитлером. Он, в свою очередь, настаивал на ее возвращении в Мюнхен, а я даже предложил ей место в нашем самолете службы фельдъегерской связи. Но она твердо настаивала на своем, и теперь все, кто вместе с Гитлером поселился в бункерах под рейхсканцелярией, знали, зачем она приехала сюда. Ева Браун не только олицетворяла, но и в действительности была провозвестницей неминуемой гибели».
К тому времени генералы вермахта больше думали не о том, как оборонять Берлин, а о том, как спасти побольше своих войск от страшного, как им казалось, русского плена, сдавшись западным союзникам. 15 апреля, за день до начала советского наступления на Берлин, командующий группой армий «Висла», обороняющейся на Одере, генерал-полковник Готтгарт Хейнрици заявил Шпееру: «Я распорядился, чтобы в Берлине не был взорван ни один мост, так как вокруг города вообще не будет боев. Если русские прорвутся к Берлину, сосредоточенные на флангах наши войска отойдут на север и юг. А севернее Берлина мы упремся в разветвленную систему каналов». Шпеер сразу же догадался: «Выходит, Берлин долго не продержится?» — «Во всяком случае, его гарнизон не сможет оказать сколько-нибудь сильного сопротивления», — заверил генерал министра. Хейнрици понимал, что советские войска будут штурмовать Берлин особенно упорно. И еще он догадывался, что Гитлер не покинет Берлин и прикажет оборонять столицу Рейха до последнего, чтобы умереть вместе со своими солдатами. А значит, Берлин превратится в грандиозную мышеловку, из которой не будет выхода. Поэтому лучше не направлять туда основную часть войск группы армий. Пусть они лучше сдадутся англичанам и американцам к северу и к югу от столицы.
28 апреля по приказу Гитлера за нежелание сражаться Хейнрици был отстранен от командования, но это уже никак не повлияло на ход событий. Большинство дивизий группы армий «Висла» успели сдаться западным союзникам.
20 апреля 1945 года, в последний день рождения Гитлера, многие генералы и чиновники просили его покинуть Берлин и отправиться в Берхтесгаден. Кейтель вспоминал: «Я сказал ему только: то, что Провидение столь милостиво пощадило его при покушении 20 июля и то, что сегодня, в день своего рождения, в эти самые серьезные дни, когда существованию созданного им Третьего Рейха грозит величайшая опасность, он все еще держит руководство в своих руках, дает нам уверенность, что он примет необходимые решения. Мое мнение: он должен действовать, не дожидаясь, пока столица Рейха станет полем битвы. Я хотел продолжать, но он перебил меня: «Кейтель, я знаю, что я хочу, я буду сражаться перед Берлином, в нем самом или позади него!»
Также и секретарша Гитлера Тройдель Юнге описала день 56-летия фюрера: «Самые важные сановники Рейха пришли поздравить его; они просили, чтобы Гитлер покинул Берлин и прибыл в группу армий «Юг» в Баварии. Он категорически отказался.
Я в это время находилась вместе с другими секретарями в маленьком кабинете. Лицо фюрера было мертвенно-бледным. Он молчал. Он был похож на покойника. Мы осмелились переспросить его, действительно ли он хочет остаться в Берлине. «Конечно, я не уеду! — сказал он. — Я должен ускорить развязку или погибнуть». В последнее время он часто вспоминал о битве при Кунерсдорфе (в которой в 1759 году Фридрих Великий был разбит русскими и австрийскими войсками, но был спасен от краха смертью императрицы Елизаветы и переменой курса российской политики при Петре III. - Б. С.).
Мы онемели от удивления. Впервые он говорил безапелляционным тоном, вслух сказав ту правду, о которой мы давно догадывались: он больше не верил в победу. Он потерял веру...
В последние дни я часто встречала фюрера, бродившего как привидение по темным лабиринтам бункера, молча пересекавшего коридоры, входящего в комнаты. В какие-то мгновения я спрашивала себя, почему он не положит конец всему этому. Теперь было ясно, что ничего уже не спасти. Но в то же время мысль о самоубийстве отталкивала. Первый солдат Рейха кончает с собой, в то время как дети сражаются у стен столицы. Я решилась задать ему вопрос: «Мой фюрер, не кажется ли вам, что немецкий народ ждет, чтобы вы стали во главе войск и пали в бою?» — «У меня дрожат руки, я едва могу держать пистолет. Если меня ранят, никто из солдат не прикончит меня. А я не хочу попасть в руки русских». Он говорил правду. Его рука дрожала, когда он подносил ложку ко рту; он с трудом поднимался со стула; когда шел, его ноги тяжело волочились по полу.
Я до сих пор поражаюсь, с каким спокойным фатализмом мы обсуждали за едой самые удобные и наименее мучительные способы самоубийства.
«Самый верный способ, — говорил Гитлер, — вставить ствол пистолета в рот и нажать спусковой крючок. Череп разлетается в куски, и смерть наступает мгновенно». Ева Браун ужаснулась. «Я хочу, чтобы мое тело было красивым, — запротестовала она, — я лучше отравлюсь». Она вынула из кармана своего элегантного платья маленькую капсулу из желтой меди. В ней был цианид. «Это больно? — спросила она. — Я так боюсь долгой и мучительной агонии. Я приняла решение умереть, но хочу, чтобы это было, по крайней мере, без мучений». Гитлер объяснил ей, что смерть от цианида безболезненна «Она наступает через несколько минут. Нервная и дыхательная система сразу парализуется». Это объяснение побудило фрау Кристиан и меня просить у фюрера одну из таких капсул. Генрих Гиммлер, министр внутренних дел и глава гестапо, как раз только что принес несколько дюжин. «Вот капсула для вас, фрау Юнге, — сказал мне Гитлер. — К сожалению, я ничего лучшего не могу предложить вам в качестве прощального подарка».
21 апреля 1945 года на совещании в рейхсканцелярии Гитлер окончательно объявил о своем бесповоротном решении остаться в осажденном Берлине. Вот как описывает это совещание Э. Кемпка: «На совещании, обсуждавшем положение на фронтах, ближайшие сотрудники Гитлера во главе с Кейтелем, Йодлем и Борманом снова настаивали на том, чтобы Гитлер использовал приготовленные самолеты и отправился вместе со своим штабом в Оберзальцберг. Там он будет в безопасности, и оттуда можно будет руководить военными действиями в этой последней битве лучше, чем из Берлина, окруженного русскими.
Адольф Гитлер отклонил эти предложения. Он заявил, что независимо от развития событий он не покинет столицу Рейха. Он твердо стоял на своем все время с тех пор, как находился в Берлине. По его приказу все имевшиеся в нашем распоряжении самолеты должны были быть подготовлены к эвакуации из Берлина женщин и детей. Он предложил всем своим сотрудникам право покинуть Берлин, если они этого пожелают».
На самом деле Оберзальцберг через несколько дней все равно перестал бы быть «безопасным местом». Советские войска уже взяли Вену, а американцы вторглись в Баварию. Гитлер это хорошо сознавал и предпочел погибнуть в Берлине, что казалось куда более символическим актом, чем смерть в каком-нибудь безвестном австрийском или баварском городке или деревне.
Самолеты улетели из Берлина на юг, несмотря на сильный огонь советской зенитной артиллерии. В них покинули город прислуга, секретарши, стенографы и сотрудники личного штаба Гитлера. Как свидетельствует Кемпка, «профессор доктор Морель... также улетел из окруженной столицы. Впечатлительный доктор не смог вынести обстановки осажденного города и дрожал от страха, Гитлер лично распорядился об отправке его из Берлина.
Распрощавшись с доктором Морелем, Гитлер заявил, что никакого другого врача он больше не возьмет, так как не доверяет ни одному человеку (преемником Мореля был назначен хирург доктор Штумпфеггер, но Гитлер так и не воспользовался его услугами. — Б. С.). У него появилось подозрение, что какой-нибудь врач может впрыснуть ему морфий в такой дозе, которая позволит в бессознательном состоянии вывезти его против его воли из Берлина. Так как пилоты Ганс Бауэр и Георг Бетц остались в главной ставке, то Гитлер понимал, что оба самолета стоят на аэродроме в Гатове в полной готовности для того, чтобы вывезти его».
Гитлер уже не сомневался, что конец близок и что ему придется совершить самоубийство, чтобы не попасть в плен к русским. Почему же он до самых последних часов приказывал войскам с севера, юга и запада прорываться к Берлину, чтобы разорвать кольцо окружения? Неужели верил, что остатки германских армий, каждая из которых по силе редко превосходила корпус, смогут справиться с целым советским фронтом? Нет, конечно. Гитлер был достаточно опытным в военном деле человеком, чтобы понять: подобных чудес на свете не бывает. Но фюреру хотелось погибнуть во главе сопротивляющихся, а не капитулирующих войск, причем в тот момент, когда противник вплотную подступит к его последнему убежищу и можно будет сказать, что он, Гитлер, сражался до последней возможности. Для ободрения защитников Берлина и отдавались последние приказы войскам за пределами кольца, по которым предпринимались ставшие уже бессмысленными атаки, и множилось число жертв с обеих сторон.
По утверждению Шпеера, «генерал СС Бергер рассказал мне, что Гитлер уже 22 апреля намеревался покончить с собой. Об этом же мне сообщила Ева Браун. Однако потом он передумал и заменил Хейнрици командующим воздушно-десантными войсками Штудентом; Гитлер считал его одним из самых энергичных военачальников. Он полагал, что в столь отчаянной ситуации может положиться на Штудента...». Версия, будто Гитлер собирался покончить с собой еще 22 апреля, выглядит правдоподобной. Не случайно именно в этот день он распорядился уничтожить свои личные бумаги. Но вот утверждение Шпеера, будто он передумал потому, что с помощью энергичного Штудента решил попытаться еще раз переломить судьбу, никакого доверия не вызывает. Хейнрици был заменен на своем посту только 28 апреля, причем сначала генералом Куртом Типпельскирхом, и, только когда тот отказался принять командование, возникла кандидатура Курта Штудента. Более реальными причинами, заставившими Гитлера 22 апреля повременить с самоубийством несколько дней, стала телеграмма Геринга о его намерении принять на себя всю полноту власти и начать переговоры с западными союзниками. Фюрер обвинил рейхсмаршала в измене. Теперь самоубийство выглядело бы как капитуляция перед требованиями Геринга. Гитлеру требовалось время, чтобы арестовать Геринга, подыскать себе нового преемника и соответствующим образом изменить политическое завещание. Кроме того, фюрер принял решение перед смертью узаконить свои отношения с Евой Браун, а на это тоже требовалось время.
23 апреля Кейтель еще раз попытался уговорить Гитлера покинуть Берлин. Он вспоминал: «После доклада об обстановке я попросил фюрера о беседе в присутствии Йодля. Должно же быть принято наконец какое-то решение: или предложение о капитуляции, прежде чем Берлин станет полем боя за каждый дом, или же вылет ночью в Берхтесгаден, чтобы оттуда немедленно начать переговоры!.. Я остался наедине с фюрером, так как Йодля вызвали к телефону. Как это часто бывало, Гитлер не дал мне произнести и двух слов. Он сказал примерно следующее: «Заранее знаю, что вы хотите сказать: сейчас должно быть принято окончательное решение! Это решение я уже принял: из Берлина я не уйду; я буду защищать город до последнего. Или я прикажу вести эту битву за столицу Рейха — пусть только Венк снимет с моей глотки американцев и прогонит их за Эльбу! — или же вместе с моими солдатами погибну в Берлине, паду в бою за символ Рейха».
Я возразил: «Это безумие! В такой ситуации я должен потребовать вашего вылета сегодня же ночью в Берхтесгаден, чтобы обеспечить руководство Рейхом и вермахтом; в Берлине, если связь будет оборвана, что может произойти с минуты на минуту, сделать это невозможно».
Фюрер заявил: «Ничто не мешает вам немедленно вылететь в Берхтесгаден. Я даже приказываю вам сделать это! Но сам я останусь в Берлине! Час назад я по радио сообщил об этом немецкому народу и столице Рейха. Отступить от этого я не могу».
И еще Гитлер убеждал Кейтеля: «Именно мое присутствие в Берлине побудит войска сражаться до последнего и удержит население от паники. К сожалению, это необходимая предпосылка удачи уже начатых операций по деблокаде Берлина и успешных боев за город. Только одно доверие ко мне дает вообще какой-то шанс на еще возможный успех, а потому эту борьбу за Берлин я доведу до конца лично! Восточную Пруссию удерживали только до тех пор, пока моя ставка все еще находилась в Растенбурге, а когда я больше не смог поддерживать боевой дух войск своим личным присутствием, фронт там был прорван. Так получится и с Берлином, а потому я своего решения не изменю и своего обещания армии и населению не нарушу!»
К тому времени Гитлер уже нисколько не сомневался, что никакой удачи для вермахта больше не будет и что Берлин падет в течение одной-двух недель. По свидетельству начальника Генштаба люфтваффе генерала Карла Колера, находившегося в рейхсканцелярии, фюрер еще 22 апреля приказал сжечь все свои личные бумаги и явно готовился к смерти. Так что слова об «успешных» боях и «шансах на все еще возможный успех» предназначались лишь для ободрения генералитета, чтобы не допустить преждевременной капитуляции. Гитлер хотел умереть во главе еще сражающегося Берлина и вермахта.
В последние дни фюреру пришлось пережить измену ближайших соратников по партии. Вспоминает Э. Кемпка: «Из Оберзальцберга была получена телеграмма Геринга. Ее содержание вызвало у нас огромное возмущение. Вот ее текст:
«После того как Вы, мой фюрер, назначили меня своим преемником на случай, если смерть или иные обстоятельства не позволят Вам вести дальше дела правительства, я считаю, что для меня настало время вступить в должность Вашего преемника. Если я не получу никакого ответа до 24 часов 26 апреля 1945 г., я буду считать, что Вы согласны с моими предложениями. Геринг».
Среди узкого круга людей, познакомившихся с телеграммой, она произвела эффект разорвавшейся бомбы... Рейхсмаршал предъявил шефу почти диктаторские требования. Мы, рядовые люди, восприняли этот шаг Геринга как открытую государственную измену.
События развивались все быстрее. Вскоре после получения этой телеграммы личный адъютант Гитлера группенфюрер СС Шауб улетел в Мюнхен на одном из двух еще оставшихся у нас самолетов. Я узнал, что шеф приказал ему уничтожить все его личные бумаги в Мюнхене и в Оберзальцберге. В Берлине это уже было сделано.
Подавленное настроение в бункере все более усугублялось. Войну считали проигранной. Никто не сомневался, что Германии уже нет спасения...
После отлета Шауба состоялся разговор шефа с Борманом. Объявив, что он действует по поручению Гитлера, Борман дал радиограмму Герингу:
«Ваше намерение взять на себя руководство государством является государственной изменой. Совершивший ее карается смертью. Учитывая Ваши заслуги за время долголетней деятельности в партии и государстве, фюрер намерен воздержаться от смертной казни. Но он требует Вашей немедленной отставки с мотивировкой, гласящей, что Вы вследствие болезни не в состоянии больше исполнять порученную Вам работу. Борман».
Одновременно Борман отправил оберштурмбаннфюреру СС доктору Франку, командиру подразделения войск СС в Оберзальцберге, радиограмму следующего содержания:
«Геринг намеревается совершить государственную измену. Приказываю Вам немедленно арестовать Геринга, чтобы пресечь всякую возможность этого. Об исполнении доложить мне. Борман».
Вскоре Борман отправил в Оберзальцберг еще одну телеграмму:
«Если Берлин падет, участники измены 22 апреля (день получения злополучной телеграммы Геринга. — Б. С.) должны быть расстреляны. Борман».
29 апреля в своем политическом завещании Гитлер исключил Геринга из партии, который к тому времени был уже арестован Франком. Однако расстреливать Геринга после падения Берлина никто не собирался. 5 мая эсэсовцы передали его охрану отряду люфтваффе, и Геринг был немедленно освобожден, а 8 мая он сдался в плен американцам. Геринг покончил с собой в камере Нюрнбергской тюрьмы за несколько часов до приведения в исполнение смертного приговора.
Такая выходка объяснялась иллюзорными надеждами «толстого Германа», что ему удастся договориться о мире с западными союзниками и избежать безоговорочной капитуляции. Рейхсмаршал был жизнелюбом, привык ни в чем себе не отказывать. Он не мог смириться с мыслью о неизбежной смерти, тем более насильственной и скорой. Гитлер же свыкся с мыслью о самоубийстве и теперь готов был удалить из своего окружения, да и из жизни, любого, кто не проявил твердости в такой момент, когда обреченность Рейха не вызывала сомнения.
Это подтвердила печальная судьба Германа Фегелейна, группенфюрера СС, представителя Гиммлера при ставке и мужа сестры Евы Браун — Гретль, т. е. фактически — гитлеровского свояка. 26 апреля 1945 года он покинул рейхсканцелярию и пытался бежать из Берлина. В тот же день пришло сообщение, что Гиммлер через шведского графа Фольке Бернадотта пытался вступить в переговоры с англичанами и американцами. Вот что вспоминает об этом Кемпка: «Радисты лихорадочно работали у своих приемников, и мы напряженно ожидали объявленного сообщения:
«Агентство Рейтер сообщает, ссылаясь на Германское информационное бюро, что Гиммлер связался с графом Бернадоттом, чтобы вести переговоры с западными державами о сепаратном мире. Гиммлер сообщил, что он взял на себя инициативу переговоров, ввиду того что Гитлер окружен и у него произошло кровоизлияние в мозг. Он полностью лишен способности соображать, и ему осталось жить не более 48 часов».
Мы были потрясены. Это сообщение подействовало еще более ошеломляюще, чем телеграмма рейхсмаршала Геринга...
Секретарши и посол Гевель просили шефа дать им яду. Стало известно, что Гитлер некоторое время назад получил от Гиммлера ампулы с ядом.
Где был Фегелейн?..
Если кто-либо мог быть осведомлен о задуманной Гиммлером измене, так это именно Фегелейн!
Между тем в рейхсканцелярию возвратился адъютант Фегелейна. Он был тут же допрошен начальником службы государственной безопасности при фюрере крими-наль-директором Хеглем. Адъютант сообщил, что Фегелейн решил отослать автомашины обратно и продолжать путь пешком. Они вместе пришли в берлинскую квартиру Фегелейна. Там генерал переоделся в штатское платье и предложил адъютанту сделать то же самое.
Адъютант был изумлен странным поведением своего генерала и счел своим долгом вернуться в рейхсканцелярию. Фегелейн собирался дождаться, пока пройдут русские, чтобы затем пробраться к Гиммлеру. Это была открытая измена. Борман приказал всем учреждениям, с которыми еще поддерживалась связь, задержать Фегелейна, где бы его ни обнаружили, и немедленно доставить в бункер фюрера...
В полночь телефонный узел связал Фегелейна, говорившего из Берлина, с Евой Браун. Он возбужденным голосом потребовал от сестры своей жены, чтобы она вместе с Гитлером покинула Берлин. Он считал бегство возможным и брался за его организацию. Ева Браун отклонила это предложение и заявила, что отказывается от его помощи. Она предупредила о последствиях его поступка и просила вернуться к своим обязанностям. Фе-гелейн отказался. Он заявил, что не вернется и не откажется от своего решения пробраться к Гиммлеру...
Вскоре после полуночи в угольном бункере, переполненном беженцами, был замечен подозрительный человек в штатском, который, появившись, видимо, из задних подземных помещений, направлялся к выходу... Когда часовой попытался его арестовать, он заявил, что является генералом Фегелейном, и приказал пропустить его. Но часовому было известно о розысках генерала Фегелейна. Он не дал себя запугать, арестовал его и доставил к коменданту обороны правительственного квартала бри-гадефюреру СС Монке.
В домашних туфлях, в кожаном пальто, в спортивной фуражке и с шарфом, Фегелейн, когда мы увидели его у Монке, произвел странное впечатление. Он признался, что приходил за портфелем, который лежал в его комнате позади угольного бункера.
Монке немедленно передал Фегелейна криминаль-директору Хеглю для допроса. В портфеле были найдены бумаги, подтвердившие факт государственной измены Гиммлера и Фегелейна, на основании которых агентство Рейтер и передало свое сообщение. На допросе Фегелейн признался, что, захватив портфель, он намеревался вновь покинуть рейхсканцелярию.
Тотчас же был произведен обыск в комнате Фегелейна. В ней был найден дорожный чемодан, на дне которого находились два ролика с английскими золотыми монетами, каждый свыше полметра длиной, а также пакеты банкнот в фунтах стерлингов и долларах. Даже беглая оценка показала, что припрятаны миллионные ценности в валюте неприятеля (этот чемодан с ценностями господ Гиммлера и Фегелейна почти наверняка попал в руки неприятеля во время разграбления рейхсканцелярии)».
Гитлер распорядился арестовать Гиммлера, а Фегелейна — расстрелять, что было исполнено в саду рейхсканцелярии 28 апреля, за день до бракосочетания Адольфа Гитлера и Евы Браун. По свидетельству Кемпки, наскоро созданный трибунал вынес приговор Фегелейну, который встретил смерть не моргнув глазом. Когда приговор поступил на утверждение Гитлеру, то, по словам Кемпки, «фюрер колебался. Речь шла о человеке, который показал себя с лучшей стороны — был на фронте и, кроме того, был женат на сестре женщины, которую Гитлер любил. Он рассматривал возможность замены казни отправкой на фронт, чтобы Фегелейн мог реабилитировать себя. Но Ева Браун напомнила ему о своем ночном разговоре с Фегелейном. Она обратила внимание на то, что Гиммлер и Фегелейн, возможно, замышляли передать его живым в руки врага. Она не хотела щадить себя и свою семью, поскольку закон есть закон». Гитлер подписал приговор, и Фегелейна расстреляли эсесовцы в саду рейхсканцелярии.
Гиммлера же пришлось арестовывать англичанам. Рейхсфюрер СС «косил» под простого ефрейтора-эсэсовца, но после ареста британским патрулем (в его составе были бывшие советские военнопленные, принятые на службу в британскую армию) предпочел раскусить ампулу с цианистым калием.
25 апреля 1945 года в Берлине приземлился последний самолет. Прилетевшие на нем фельдмаршал люфтваффе риттер Роберт фон Грейм и летчица Ханна Рейч предложили Гитлеру бежать в «Альпийскую крепость». Но фюрер предпочел умереть в столице Рейха. Он лишь назначил Грейма главкомом люфтваффе вместо Геринга.
Почему Гитлер предпочел остаться в Берлине? Он мог покинуть столицу Рейха до ее окружения или с последним самолетом фельдмаршала люфтваффе, улетевшим из полностью блокированного Берлина 29 апреля, за день до самоубийства фюрера. Гитлер так объяснил это в своем политическом завещании: «После шестилетней борьбы, которая, несмотря на все неудачи, войдет в историю как самое славное и отважное выражение жизненной силы немецкого народа, я не могу оторвать себя от того города, который является столицей Рейха. Поскольку силы наши слишком слабы, чтобы и дальше выдерживать натиск врага именно здесь, а собственное сопротивление постепенно обесценивается столь же ослепленными, сколь и бесхарактерными субъектами, я хотел бы, оставшись в этом городе, разделить судьбу с теми миллионами, кого уже постигла смерть. Кроме того, я не хочу попасть в руки врагов, которым, на потеху ими науськанным массам, нужен новый, поставленный евреями спектакль.
А потому я решил остаться в Берлине и здесь по собственной воле избрать смерть в тот момент, когда увижу, что резиденция фюрера и рейхсканцлера удержана больше быть не может. Я умираю с радостным сердцем, зная о неизмеримых деяниях и свершениях наших солдат на фронте, наших женщин в тылу, наших крестьян и рабочих, а также о беспримерном участии во всем этом молодежи, носящей мое имя.
То, что всем им я выражаю идущую от всего сердца благодарность, столь же само собой разумеется, как и мое желание, чтобы они ни в коем случае не прекращали борьбы, а всюду продолжали вести ее против врагов отчизны, оставаясь верными заветам великого Клаузевица. Из этих жертв наших солдат и из моей собственной связи с ними до самой моей смерти в германской истории так или иначе, но взойдет однажды посев сияющего возрождения национал-социалистического движения, а тем самым и осуществления подлинно народного сообщества».
И еще Гитлер продиктовал в завещании: «На пороге смерти я изгоняю из партии бывшего рейхсмаршала Германа Геринга и лишаю его всех прав, которые предоставлялись ему декретом от 20 июня 1941 года... Вместо него я назначаю гросс-адмирала Деница президентом Рейха и верховным главнокомандующим вооруженными силами.
Перед смертью я исключаю бывшего рейхсфюрера СС и министра внутренних дел Генриха Гиммлера из партии и лишаю его всех государственных постов... Геринг и Гиммлер своими тайными переговорами с врагом, проводимыми без моего ведома и против моей воли, а также противозаконными попытками захвата власти в государстве причинили неисчислимый ущерб стране и всему народу, не говоря уже о том, что они предали лично меня».
Сегодня, в начале XXI века, фюрер, возможно, радуется на небесах тому, что растет и крепнет неонацистское движение в Германии, особенно на землях бывшей ГДР, и даже в России в немалом количестве появились его поклонники, в стране, когда-то беспощадно боровшейся с национал-социализмом.
Еще 23 апреля 1945 года Гитлер заявил: «Было бы... в тысячу раз трусливее покончить с собой в Оберзальцберге, чем погибнуть здесь». Днем ранее он заявил: «Мне следовало бы принять это самое важное в моей жизни решение еще в ноябре 1944 года (когда войска союзников с запада и востока вышли к границам Германии. — Б. С.) и не покидать ставки в Восточной Пруссии (оказавшейся под угрозой со стороны Красной Армии. — Б. С.)».
Что ж, решение было бы очень символичным: волк умирает в своем логове. Ставка в Восточной Пруссии называлась «Вольфшанце» («Волчье логово»), а псевдоним Гитлера во времена нацистского подполья был Вольф (Волк). И как раз в ноябре 1944 года союзники вышли к границам Германии, и никаких сомнений в скором крахе немецкого сопротивления уже не было. Покончи Гитлер с собой в этот момент, историки будущего могли бы утверждать, что при жизни Гитлера нога неприятельского солдата еще не ступила на территорию Рейха. Но с другой стороны, тогда бы потомки из числа приверженцев национал-социалистической идеологии могли бы упрекнуть фюрера, что он слишком рано покинул своих соратников, не исчерпав всех возможностей борьбы.
Согласно показаниям коменданта Берлина Вейдлинга, данным в советском плену, 28 апреля Гитлер отверг план прорыва из окружения и более прозаически объяснял свое желание остаться в Берлине: «Фюрер долго размышлял. Он расценивал общую обстановку как безнадежную. Это было ясно из его длинных рассуждений, содержание которых вкратце можно свести к следующему: если прорыв даже и будет успешным, то мы просто попадем из одного «котла» в другой. Он, фюрер, тогда должен будет ютиться под открытым небом или в крестьянском доме и ожидать конца. Лучше уж он останется в имперской канцелярии».
Командующему обороной правительственного квартала Монке Гитлер приказал заготовить бензин, объяснив: «Я должен заблаговременно уйти из жизни, чтобы успели сжечь мой труп...» (до того как советские солдаты войдут в рейхсканцелярию).
Зарисовку этой сцены в рейхсканцелярии оставил Г. Больдт: «Вечером комендант Берлина получил разрешение явиться к Гитлеру сдокладом... Ведлинг сказал примерно следующее: «Армия Венка, как по людскому составу, так и по технике, слишком слаба даже для того, чтобы удержать отбитый ею участок южнее Потсдама, а тем более для того, чтобы пробиться в центр Берлина. Сейчас гарнизон Берлина еще в состоянии прорваться на юго-запад, на соединение с армией Венка. Фюрер, головой ручаюсь вам, что вы целым и невредимым выберетесь из Берлина. И столица не будет обречена на полное уничтожение».
Но Гитлер отказался.
На другой день, когда Аксман предложил то же самое и жизнью каждого члена Гитлерюгенда ручался за то, что у фюрера будет надежное сопровождение, Гитлер опять отказался.
После разговоров о том, что от Венка больше нечего ждать помощи и что Гитлер не хочет прорваться из Берлина, в бомбоубежище воцарилась атмосфера конца света. Каждый старался заглушить отчаяние алкоголем. Были извлечены на свет самые лучшие вина, ликеры и деликатесы. Раненым, лежавшим в подвалах, на станциях метро, нечем было утолить ни голод, ни жажду, хотя некоторые находились в нескольких метрах от нас, на подземных станциях Потсдамской площади. Зато здесь вино лилось рекой...»
После этой последней попойки произошел примечательный разговор между шеф-адъютантом Гитлера и по совместительству начальником управления личного состава ОКХ генералом Вильгельмом Бургдорфом и Мартином Борманом (оба покончили с собой 1 мая, правда, тело Бургдорфа так и не нашли). Генерал под воздействием винных паров обличал рейхслейтера: «Надо же хоть раз все высказать. Может быть, через два дня уже будет поздно. Наши молодые офицеры шли на фронт, исполненные такой веры и такого идеализма, каких не знает история мира. Сотни тысяч их умирали с гордой улыбкой на устах (49 лет спустя эти слова повторил, возможно не зная о первоисточнике, российский министр обороны генерал Павел Грачев применительно к российским солдатам, гибнущим в Чечне. — Б. С.). Но ради чего? Ради любимого отечества, нашего величия, нашего будущего? За достоинство и честь Германии? Нет! За вас умирали они, за ваше благополучие, за вашу жажду власти. Веря в великое дело, молодежь 80-миллионного народа истекала кровью на фронтах Европы, миллионы невинных людей гибли, а вы, партийные руководители, вы наживались на народном добре. Вы весело жили, копили огромные богатства, хапали имения, воздвигали дворцы, утопали в изобилии, обманывая и угнетая народ. Наши идеалы, нравственность, нашу веру и душу вы втоптали в грязь. Человек был для вас только орудием вашего ненасытного честолюбия. Нашу многовековую культуру и германский народ вы уничтожили. И в этом ваша чудовищная вина!»
Борман, который был ничуть не трезвее Бургдорфа, вяло оправдывался: «Зачем же ты переходишь на личности, мой дорогой? Если другие и обогатились, то я здесь ни при чем. Клянусь тебе всем, что для меня свято... За твое здоровье, дорогой!» Но в данном случае рейхслейтер поскромничал. За время правления Гитлера он приобрел два имения, в Мекленбурге и Верхней Баварии, и роскошную виллу на берегу озера Химзее.
Гитлер предпочел безвестной гибели в какой-нибудь глухой альпийской деревушке смерть «на миру» — в рейхсканцелярии, в центре Берлина, в сердце Третьего Рейха. Это была гибель-символ, впечатанная в историю, а не тихое самоубийство где-то в горах, о котором мир, возможно, так никогда бы и не узнал.
По этой же причине Гитлер никак не мог бежать из Германии — ни в Швейцарию, ни в Испанию, ни в Южную Америку. Это означало бы годы и десятилетия жизни под чужим именем и безвестную смерть. Познавший вкус власти и политического успеха Гитлер мог существовать только как историческая личность. Возвращение к существованию простого немецкого, швейцарского или латиноамериканского обывателя было для него хуже смерти.
И в предсмертном политическом завещании, когда все уже было кончено, Гитлер основным сделал жертвенный мотив: «Я хотел бы, оставшись в этом городе (Берлине. — Б. С.), разделить судьбу с теми миллионами других людей, которых уже настигла смерть... Из этих жертв наших солдат и из моей собственной связи с ними до самой моей смерти в германской истории так или иначе, но взойдет однажды посев сияющего возрождения национал-социалистического движения, а тем самым и осуществления подлинно народного сообщества... Командующих армией, военно-морским флотом и люфтваффе я прошу самыми крайними мерами укрепить у солдат дух сопротивления в национал-социалистическом смысле этого слова, указав на то, что я, как основатель и создатель этого движения, предпочел смерть трусливому бегству, а тем более — капитуляции. Пусть это станет однажды частью понятия чести германского офицера, как то уже имеет место в нашем военно-морском флоте: сдача какой-либо территории или города — невозможна, а командиры должны быть впереди и служить ярким примером самого верного исполнения своего долга вплоть до собственной гибели». Свое самоубийство Гитлер рассматривал как подвиг, призванный вдохновить вермахт и германский народ на борьбу до последнего человека. Своих Матросовых и Клочковых нацистская пропаганда просто не успела придумать, хотя уже находилась на пути к созданию подобных героических мифов.
Еще фюрер писал в политическом завещании: «С того дня, когда я отправился добровольцем на Первую мировую войну, я посвятил все мои мысли, все мои деяния и всю мою жизнь любви к моему народу...» И перед смертью повторил свой любимый тезис насчет того, что во всем виноваты евреи. Поскольку Вторую мировую войну, по утверждению Гитлера, «хотели и развязали международные государственные деятели еврейского происхождения или действовавшие в еврейских интересах... Пройдут века, но из руин наших городов, из наших исторических памятников возродится заново ненависть к этому народу, который наконец сам за нее отвечает: к международному еврейству и к их приспешникам».
Гитлер приказал обеспечить достаточное количество бензина, чтобы сжечь трупы — его и Евы. Своему адъютанту Гюнше Гитлер объяснил: «Я не хочу, чтобы после моей смерти русские выставили меня в своем паноптикуме». Кемпке с большим трудом удалось достать для погребального костра несколько сот литров бензина из баков разбитых автомобилей. Сожжение продолжалось от 14.30 до 19 часов. Обуглившиеся трупы были похоронены в воронке у стены квартиры Кемпки. Сбылось пророчество, которое Гитлер изрек своему шоферу еще в 1933 году, когда тот вез его в рейхсканцелярию: «Живым я отсюда не выйду!»
Перед смертью фюрер объявил обитателям рейхсканцелярии: «В этом городе у меня было право отдавать приказы. Теперь я должен повиноваться приказу судьбы. Даже если бы у меня была возможность спастись, я бы не сделал этого. Капитан тонет вместе со своим кораблем».
Когда Гитлер прощался с обитателями бункера, Ева обняла Т. Юнге и сказала: «Прошу вас, попытайтесь выбраться отсюда. Передайте привет от меня Мюнхену и моей любимой Баварии!» И улыбнулась, подавляя рыдания...
Не исключено, что для Гитлера непосредственным толчком к тому, чтобы избрать именно 30 апреля в качестве дня самоубийства, послужило известие о капитуляции германских войск в Италии, последовавшей 29 апреля. Фюрер понял, что процесс сдачи вермахта противнику начался и если он промедлит с последним выстрелом, то ему придется либо попасть в плен, либо кончать с собой в положении полководца без армии, поскольку она уже склонила свои знамена перед неприятелем. Кроме того, Гитлер узнал, что 28 апреля Муссолини был расстрелян итальянскими партизанами вместе со своей любовницей Кларой Петаччи и их тела были повешены вверх ногами на центральной площади Милана. Это укрепило решимость Гитлера ни при каких обстоятельствах не даваться в руки своих врагов живым и позаботиться о том, чтобы победители не смогли опознать его тело и надругаться над ним. Он вообще хотел, чтобы от него остался только пепел, но в полуразрушенной рейхсканцелярии не нашлось достаточно бензина, чтобы как следует выполнить его последнюю волю.
Проиграв войну, Гитлер не хотел позора: выступать на суде, оправдываться или брать ответственность за свои преступления он не собирался. Страшными делами он пытался убедить мир в непреходящем величии германской расы и потерпел поражение, а теперь доказывать кому-либо свою правоту на словах было бессмысленно. Он боялся не смерти — унижения.
Перед самоубийством в последние минуты жизни Гитлер разрешил оставшимся в рейхсканцелярии прорыв из Берлина. Он сказал своему камердинеру Линге, когда тот попросил разрешения проститься с ним: «Я отдаю приказ пойти на прорыв». Удивленный Линге спросил: «Мой фюрер, а для кого нам теперь прорываться?» Гитлер объяснил: «Для грядущего человечества!» Ему очень хотелось, чтобы кто-то из очевидцев вырвался из кольца и поведал миру об обстоятельствах его смерти. Тогда это удалось сделать только двоим — Кемпке и Аксману, которые охотно рассказали западным союзникам, как и когда застрелился Гитлер, а затем отразили это в собственных мемуарах. Другим повезло меньше: они оказались в советском плену и до возвращения на родину в 1955 году могли делиться известными им подробностями только с советскими следователями. Сталин старался показать, что труп Гитлера так и не был обнаружен, и побудить мировую общественность искать будто бы сбежавшего из Берлина фюрера. Но показания Кемпки и Аксмана быстро разрушили эту легенду.
Составленный 8—11 мая 1945 года советскими патологоанатомами акт обследования останков Гитлера содержит ряд очевидных ошибок, которые, скорее всего, вызваны политическими причинами — стремлением всячески унизить Гитлера даже после его смерти. Эти ошибки следующие: рост Гитлера в акте определен 165 см, тогда как в действительности фюрер имел рост 175 см; в акте утверждалось, будто у Гитлера отсутствовало левое яичко, тогда как все прижизненные медицинские осмотры констатировали, что у Гитлера нормальные половые органы, без каких-либо отклонений; во рту трупа были обнаружены осколки стеклянной ампулы, что позволяло говорить, будто Гитлер отравился; но, как резонно указывали западные критики, в условиях, когда труп обуглился, осколки стекла не могли уцелеть и неизбежно расплавились бы. Что еще важнее, анализ проб внутренних органов и крови, взятый у трупов Гитлера и Евы Браун, не выявил там каких-либо следов цианистых соединений. Между тем такие соединения были выявлены при анализе проб трупов Геббельса, его жены, детей, генерала Кребса и овчарки Блонди. Линге так описал обстановку в кабинете Гитлера сразу после самоубийства: «Я сразу почувствовал запах пороха, как это бывает после выстрела... Вместе с Борманом мы вошли в комнату... На диване слева сидел Гитлер. Он был мертв. Рядом с ним — мертвая Ева Браун. На правом виске Гитлера зияла огнестрельная рана величиной с монету, на щеке — следы скатившейся двумя струйками крови. На ковре около дивана была лужица крови величиной с тарелку. На стене и на диване виднелись брызги крови. Правая рука Гитлера лежала на его коленке ладонью вверх. Левая — висела вдоль тела. У правой ноги Гитлера лежал револьвер системы «Вальтер» калибра 7,65 мм, а у левой ноги — револьвер той же системы, калибра 6,35 мм. Гитлер был одет в свой серый военный китель, на котором были золотой партийный значок, Железный крест 1-й степени и значок за ранение в Первую мировую войну, который он носил все последние дни. На нем были белая рубашка с черным галстуком, черные брюки навыпуск, черные носки и черные кожаные полуботинки. Ева Браун сидела на диване, подобрав ноги. Ее светлые туфли на высоких каблуках стояли на полу. Губы ее были крепко сжаты. Она отравилась цианистым калием...
С помощью Бормана... я уложил еще не остывшее тело Гитлера на пол и завернул его в одеяло... Тело Гитлера я и эсэсовцы из личной охраны Линдлофф и Рейсер... понесли через приемную к запасному выходу в парк. Стоявшие в приемной Геббельс, Бургдорф, Кребс, Аксман, Науман, Гюнше и Раттенхубер подняли для приветствия руки. Затем из кабинета Гитлера вышел Борман и вслед за ним Кемпка с телом Евы Браун на руках. Геббельс, Аксман, Науман, Раттенхубер, Кребс и Бургдорф направились за телом Гитлера к запасному выходу».
Что происходило дальше, описал адъютант Гитлера Гюнше: «Я подбежал к Кемпке, взял у него тело Евы Браун, которое не было завернуто в одеяло, и понес его к выходу. От Евы Браун исходил характерный острый запах цианистого калия... Завернутое тело Гитлера лежало на земле в двух метрах от запасного выхода. Рядом с ним, с правой стороны, я положил тело Евы Браун. В этот момент Борман нагнулся над телом Гитлера, отвернул одеяло с его лица, посмотрел на него несколько секунд и вновь прикрыл одеялом. В парк рейхсканцелярии и на бомбоубежище с воем и свистом падали снаряды. Густые облака дыма неслись над растерзанными деревьями парка. Рейхсканцелярия и прилегающие здания были объяты сплошным пожаром. Борман, я, Линге, Линдлофф, Кемпка, Шедле и Рейсер взяли приготовленные бидоны с бензином и вылили на трупы Гитлера и Евы Браун все 200 литров. Зажечь бензин долго не удавалось. От сильного ветра, вызванного бушующим пожаром, гасли спички. Я схватил лежащую у двери ручную гранату, чтобы с ее помощью поджечь бензин. Но я не успел вытащить запал, как Линге поджег бензин, бросив на трупы сожженную бумагу. Трупы Гитлера и Евы Браун были моментально охвачены пламенем. Дверь бомбоубежища плотно прикрыли, так как языки пламени пробивались через оставшуюся щель. Борман, Геббельс, Аксман, Науман, Кребс, Бургдорф, Гюнше, Линге, Шедле, Кемпка, Рейсер и Линдлофф стояли еще несколько секунд на верхней площадке лестницы, и затем все молча спустились в бомбоубежище. Я пошел в кабинет Гитлера. Там все оставалось по-прежнему. На полу, около лужи крови, все еще лежали оба револьвера Гитлера. Я поднял и разрядил их. При этом я увидел, что выстрел был произведен из револьвера калибра 7,65 мм. Второй револьвер, калибра 6,35 мм, тоже был заряжен и снят с предохранителя. Я спрятал оба револьвера в карман и передал их потом адъютанту Аксмана лейтенанту Хаману. Я также передал ему собачью плетку Гитлера. Хаман хотел сохранить револьверы и плетку Гитлера в качестве реликвий для Гитлерюгенда».
Замечу, что Кемпка в своих воспоминаниях ничего не говорит, что от Евы Браун исходил характерный запах цианистого калия (запах горького миндаля), хотя именно он нес ее тело. Не исключено, что запах цианистого калия в кабинете Гитлера остался от тех ампул, которыми травили его любимую овчарку Блонди и других собак. По свидетельству Кемпки, после измены Гиммлера фюрер засомневался, не подсунул ли тот вместо ампул с цианистым калием пустышки, и распорядился опробовать яд на собаках. Цианистый калий подействовал безотказно, отправив на тот свет любимую овчарку Гитлера, чтобы она не попала русским в качестве трофея. Как отмечал Кемпка, «ему тяжело было передавать для этой цели доктору Газе свою любимую собаку Блонди. Эта овчарка сопровождала его во многих поездках и в минуты одиночества была его самым верным другом». И что характерно, согласно советскому акту судебно-медицинской экспертизы трупа, который идентифицировали как труп Евы Браун, были зафиксированы огнестрельные ранения (одно или несколько) в районе груди. Поэтому нельзя исключить, что на самом деле Ева не отравилась, а все-таки застрелилась из пистолета калибра 6,35 мм, который валялся как раз рядом с ее правой рукой. Точно так же нельзя исключить, что тело, опознанное как тело жены Гитлера, в действительности принадлежало другой женщине. Добавлю, что гильза (или гильзы) от пули, которой было совершено самоубийство, так и не была найдена. И что любопытно, за 17 дней до самоубийства Ева интересовалась у генерала Герхарда Энгеля, как можно надежнее всего застрелиться. То, что пистолет калибра 6,35 мм в момент смерти был в руках Евы Браун, однозначно подтверждает в своих мемуарах Кемпка со ссылкой на Гюнше: «Ева Гитлер сидела, прислонившись к спинке дивана, рядом с мужем. Она отравилась. Однако и у нее в руке был наготове револьвер. Правая рука ее повисла, револьвер лежал на полу рядом».
Строго говоря, акт экспертизы останков Гитлера составлен с рядом очевидных ошибок, что не дает однозначного утверждения, что это — труп фюрера. В частности, описание его зубных мостов не полностью совпадает с рентгеновским снимком его зубов и с описанием, имеющимся в его медицинской карте. Однако сам по себе зубной протез Гитлера был достаточно сложен, чтобы допустить наличие идентичной конструкции у трупа, который был найден в саду рейхсканцелярии, но якобы не принадлежал Гитлеру. Ведь вся разница между гитлеровским протезом и протезом, который описан в акте советской экспертизы, заключается в следующем. У фюрера мост верхней челюсти состоял из 9 золотых и фарфоровых зубов, был закреплен стальными штифтами на втором правом и втором левом резцах. Из акта же советской экспертизы и фотоснимков челюсти предполагаемого трупа Гитлера следует, что в верхней челюсти трупа искусственные зубы были закреплены на первом правом и втором левом резцах. Однако у найденных останков и в медицинских документах Гитлера количество и расположение искусственных зубов совпадали, так что скорее можно предположить, что эти различия проистекают либо из ошибок в акте советской экспертизы, либо из рисунка, который по памяти сделал зубной техник фюрера. Поэтому, скорее всего, в саду рейхсканцелярии действительно был найден труп Гитлера.
Не исключено, что при проведении экспертизы трупа Гитлера эксперты сознательно стремились в политических целях любой ценой обосновать версию об отравлении и поэтому подтасовывали факты. Сталин не хотел, чтобы Гитлер вошел в историю как погибший достойной солдатской смертью. Его гораздо больше устраивал образ трусливого преступника, у которого не хватает ни сил, ни решимости застрелиться и который предпочитает с помощью яда уйти от ответственности. Поэтому во рту трупа, как утверждали советские эксперты, якобы были найдены осколки стеклянной ампулы, хотя они никак не могли уцелеть в том костре, на котором сжигали трупы, особенно если учесть, что заботились прежде всего об уничтожении лиц, чтобы затруднить опознание. В частности, отсутствие левого яичка могло быть внесено в акт экспертизы с целью подкрепить слухи о сексуальной неполноценности фюрера. Подобным обстоятельством можно объяснить и то, что фрагменты черепа Гитлера, на которых явственно было видно выходное отверстие от пули, не были извлечены из ямы при первой эксгумации. Их обнаружила лишь год спустя новая комиссия, разбиравшаяся с останками фюрера. Но даже эта находка так и не позволила дать окончательный ответ на вопрос, как именно застрелился Гитлер: в висок или в рот. Но тот факт, что он именно застрелился, а не отравился, сегодня уже не вызывает сомнения.
И еще. Сталин пытался скрыть факт смерти Гитлера от своих союзников и мировой общественности, хотя об этом однозначно свидетельствовали как показания многих пленных, так и обнаруженные останки фюрера. Вероятно, Иосиф Виссарионович рассчитывал нажить политический капитал, время от времени провоцируя слухи о якобы воскресшем Гитлере, и каким-то образом использовать их в переговорах с Западом. Но он не учел, что ряд свидетелей самоубийства Гитлера оказался в английском и американском плену, и уже к открытию Нюрнбергского процесса осенью 1945 года ни в Лондоне, ни в Вашингтоне, ни в Париже не осталось ни малейших сомнений, что Гитлер мертв и, следовательно, земному суду недоступен. А в приговоре небесного суда можно было не сомневаться.
Эпилог
Гитлер ушел в небытие, но страшная память о нем осталась навеки. Но отнюдь не все, особенно в Германии, поминали его недобрым словом. Национал-социализм заразил миллионы людей, но даже те, кто не полностью разделял расовую теорию, «окончательное решение еврейского вопроса» и прочие догматы нацистского режима, считали, что раз Гитлер был вождем германского народа, то втаптывать его в грязь — это втаптывать в грязь народ. И так думали люди весьма умные. Например, гросс-адмирал Карл Дениц, из всех фигурантов Нюрнбергского процесса имевший наивысший коэффициент интеллекта IQ. Его товарищ по тюрьме Шпандау Альберт Шпеер, искренне раскаявшийся (или демонстрировавший раскаяние, чтобы избежать виселицы), записал в дневнике 10 декабря 1947 года: «И сегодня, после всего, что произошло, некогда такое знакомое лицо Гитлера кажется мне искаженным. И в этом вся разница с мнением Деница. Он тоже делает оговорки, видит ошибки, но для него Гитлер по-прежнему остается представителем государства, легальным и законным главой Рейха. Безоговорочное проклятие по адресу Гитлера представляется Деницу предательством отечества. И в этом плане, мне кажется, на его стороне большая часть генералитета и, может быть, вообще немцев. Но его понятие об авторитете кажется мне бессодержательным. Дениц не спрашивает, что стоит за авторитетом, что этот авторитет приказывает и что защищает. Такие люди никогда не поймут, что же, собственно говоря, произошло. Рейх погибает, государство терпит одно крушение за другим, а они соблюдают верность абстрактной идее и никогда не спрашивают о причинах... Все, что нас связывало раньше и теперь, было магнетизмом со стороны человека, которому мы поддались оба, не будучи сами политиками».
Сегодня, несомненно, большинство немцев уже не видят в Гитлере выдающегося деятеля, повинного в ошибках, но не в преступлениях против человечности. Гитлер был человеком твердых убеждений, за реализацию которых боролся до самой смерти. Комплекс идей, сложившихся у него вскоре после окончания Первой мировой войны, он пронес практически в неизменном виде до своего конца в берлинском бункере. Но можно ли выразить восхищение тем, что фюрер никогда не отступал от принципов? Было бы меньше жертв, если бы Гитлер оказался беспринципным авантюристом?..
Библиография
Безыменский Л. А. Операция «Миф», или Сколько раз хоронили Гитлера. М.: Международные отношения, 1995.
Больдт Г. Последние дни Гитлера. Минск: Пейто, 1993.
Война Германии, против Советского Союза 1941 — 1945. Документальная экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Советский Союз / Под ред. Рейнгарда Рюрупа. Берлин: Argon-Verlag GmbH, I992.
Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 1-3. М.: Воениздат, 1968—1971.
Геббельс Й. Последние записи. Смоленск: Русич, 1993.
Герцштейн Р. Э. Война, которую выиграл Гитлер. Смоленск: Русич, 1996.
Гитлер А. Моя борьба. М.: Т-Око, 1992.
Грюнберг К. Адольф Гитлер: Биография фюрера. СС — черная гвардия Гитлера. М.: Республика, 1995.
Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Т. 1,2. М.: Наука, 1973.
Занесений К. А. Вожди и военачальники Третьего Рейха. М.: Вече, 2000.
Зенгер Ф. фон. Ни страха, ни надежды. М.: Центрполиграф, 2003.
Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Терра, 1998.
Кемпка Э. Я сжег Адольфа Гитлера. М.: Раритет, 1991.
Любовь диктаторов: Муссолини. Гитлер. Франко. М.: АСТ-Пресс, 2001.
Мазер В. Адольф Гитлер: Легенда. Миф. Действительность. Минск: Попурри, 2002.
Мержанов М. И. Так это было: Последние дни фашистского Берлина. М.: Политиздат, 1971.
Откровения и признания: Нацистская верхушка о войне «Третьего Рейха» против СССР: Секретные речи. Дневники. Воспоминания. М.: Терра, 1996.
Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск: Русич, 1993.
Расплата. Третий Рейх: падение в пропасть. М.: Республика, 1994.
Раушнинг Г. Говорит Гитлер: Зверь из бездны. М: Миф, 1993.
Риббентроп И. фон. Между Лондоном и Москвой: Воспоминания и последние мысли. М.: Мысль, 1996.
Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов. Иерусалим: Яд ВаШем, 1992.
Фест И. Адольф Гитлер. Т. 1—3. Пермь: Алетейа, 1993.
Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха. Т. 1—2. М.: Воениздат, 1991.
ШпеерА. Воспоминания. М.: Прогресс; Смоленск: Русич, 1997.
Энциклопедия Третьего Рейха. М.: Локид; Миф, 1996.
Якобсен Г.-А. 1939—1945: Вторая мировая война: Хроника и документы // Вторая мировая война: Два взгляда. М.: Мысль, 1995.
Hitler's Secret Conversations. N. Y., 1953.
Оглавление
Пролог .......................................................................................... 35
Детство волка................................................................................. 38
Венские годы ............................................................................... 45
Гитлер в первой мировой войне .................................................. 54
На заре политической карьеры..................................................... 66
«Пивной путч» .............................................................................. 75
Новое евангелие — «Моя борьба» ................................................. 79
Путь к власти. 1925—1933 ............................................................ 94
Гитлер — рейхсканцлер................................................................... 97
«Ночь длинных ножей»................................................................... 100
Гитлер и женщины ...................................................................... 110
Болезни Гитлера............................................................................. 122
Гитлер готовится к войне............................................................... 136
Гитлер — провокатор Второй мировой войны……………………...... 153
Гитлер-полководец......................................................................... 157
Заговор 20 июля............................................................................ 192
Расовая политика Гитлера .......................................................... 200
Гитлер и еврейский вопрос............................................................ 209
Верил ли Гитлер в бога? ............................................................... 216
Конец Гитлера................................................................................ 221
Эпилог ........................................................................................... 235
Библиография................................................................................ 236
Соколов Б. В.
С59 Адольф Гитлер. Жизнь под свастикой. — М.: ACT -ПРЕСС КНИГА. - 384
с, 32 с. ил. - (Историческое расследование).
ISBN 5-462-00101-2
Прошло уже немало лет с тех пор, как Гитлер покончил с собой, но его имя по-прежнему у всех на слуху. О нем написаны многочисленные монографии, воспоминания, читая которые поражаешься, поскольку Гитлер-человек не соответствовал тому, что мы называем НЕМЕЦКИМ ХАРАКТЕРОМ.
Немцы, как известно, ценят образование, а Гитлер не имел никакой профессии. Немцы обожествляли своих генералов и фельдмаршалов. А Гитлер даже на войне не получил офицерского звания, так и остался ефрейтором! Германию 1920—1930-х годов охватил культ спорта. Гитлер не занимался спортом: не плавал, не ходил на лыжах, не играл в футбол.
В чем же дело? Почему Гитлеру удалось превратить демократическую Веймарскую республику в тоталитарное государство и стать диктатором? Предлагаемая читателю хроника жизни Гитлера дается на широком историческом фоне и без навязывания автором своей точки зрения. Пусть читатель сам сделает выводы. Материала для этого более чем достаточно!
УДК 929« 19»
ББК 63.3 (4 Гем)-8
Историческое расследование
Соколов Борис Вадимович
АДОЛЬФ ГИТЛЕР.
ЖИЗНЬ ПОД СВАСТИКОЙ
Научно-популярное издание
Взгляды авторов серии не всегда совпадают с мнением редакции
Технический редактор Л. Стёпина
Корректор О. Левина
Компьютерная верстка Г. Балашовой
Подписано в печать 04.08.06.
Формат 84x108/32.
Бумага газетная. Гарнитура «Newton». Печать офсетная.
Печ. л. 12,0 + цв. вкл. 1,0. Доп. тираж 5000 экз.
Заказ №17684. С-213.
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2—953 000.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.007456.11.05 от 11.11.2005 г.
ООО «ACT-ПРЕСС КНИГА».
107078. Москва, ул. Новорязанская, д. 8а, корп. 3.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Саратовский полиграфический комбинат».
410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59.
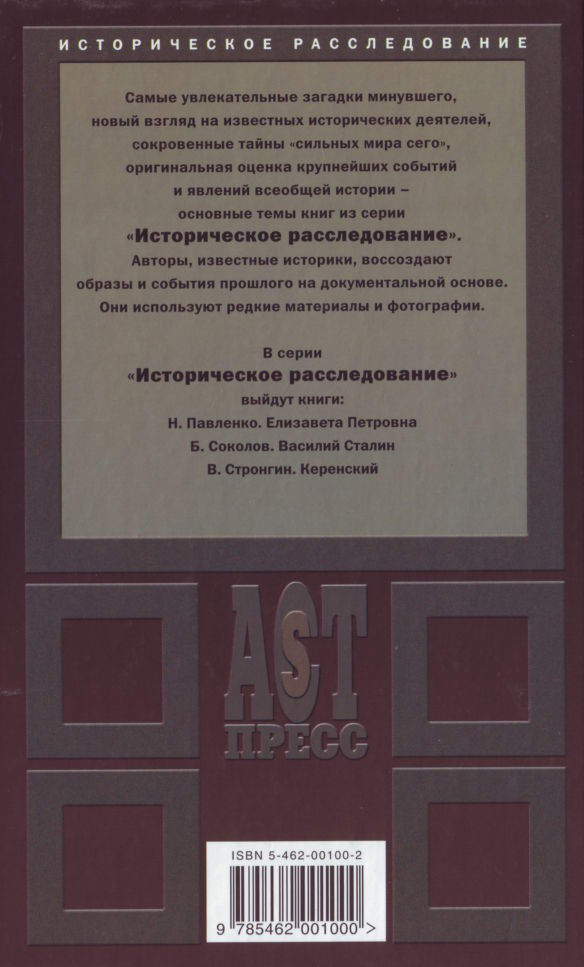
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
