Об утверждении членов Коллегии ВЧК.
Постановили:
13. Утвердить в следующем составе:
1) Дзержинский Феликс Эдмундович,
2) Петерс Яков Христофорович,
3) Ксенофонтов Иван Ксенофонтович,
4) Лацис (Судрабс) Мартын Янович,
5) Кедров Михаил Сергеевич,
6) Аванесов Варлам Александрович,
7) Эйдук Александр Владимирович,
8) Волобуев Константин Максимович,
9) Чугурин Иван Дмитриевич,
10) Медведь Филипп Демьянович,
11) Фомин Василий Васильевич,
12) Жуков Николай Александрович,
13) Уралов Сергей Герасимович,
14) Морозов Григорий Семенович.
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 8991, л. 2.
Печатается по подлиннику
5 сентября 1918 г.
ldn-knigi)
{244} Но я слыхал, своими ушами слыхал, как около 11-12 часов ночи у этого зачумленного дома останавливался грузовик или грузовики.. Машины застопоривались.. Становилось тихо... И в тишине этой зрел... Ужас.... И вслед затем... иногда ветром доносился до меня торопливый приказ: "Заводи машину!"...
И машина начинала гудеть и трещать, своим шумом заполняя тихие улицы...
Шла расправа...
Часа через два все было кончено. Грузовики, нагруженные телами жертв, с гудками и гулом уходили..
А завтра, послезавтра, через неделю и месяцы каждый день в урочный час повторялось то же...
Слова бессильны!... Но как я не сошел с ума!...
О, проклятье сну, убившему в нас силы!...
Воздуха, простора, пламенных речей,
|
|
|
Чтобы жить для жизни, а не для могилы, —
Всем дыханьем нервов, силой всех страстей"...
(Надсон)
XVIII
Итак, Россия со всех сторон была окружена врагами. Свирепствовала блокада. Россия была лишена всего необходимого, что ввозилось. Во главе правительств, применявших санкции в отношении большевиков, стояли выдающиеся государственные деятели, все те, кого и посейчас все считают великими гуманистами. И, во имя любви к человечеству, эти вожди стремились санкциями сломить упорство тех, кто захватил в свои цепкие {245} руки наше отечество, кто взял на себя всю полноту власти над полутораста миллионами народа. Но непомнящие родства, в лучшем случае ослепленные фанатики, а в громадном большинстве просто темные авантюристы, — они, взяв в свои руки эту громадную власть, не считали себя ответственными ни пред современниками, ни пред историей...
Что им суд современников, раз у них брюхо полно!...
Суд истории... Но что им за дело до истории — ведь большинство их самое то слово "история" путают со словом "скандал"... Чуждые сознания ответственности, исповедуя единственный актуальный лозунг старой пригвожденной к позорному столбу историей и литературой, торжествующей свиньи — "Чавкай", они, эта кучка насильников и человеконенавистников, были неуязвимы. Казнями, мученьями, вошедшими в нормальный обиход, как система, они добывали для себя лично все... Они чавкали... и могли чавкать и дальше, сколько угодно и им была нипочем блокада, которая била по народу..
|
|
|
Они смеялись над этими санкциями, которыми гуманные правительства гуманных народов и стран старались обломать им рога. Удар был не по оглобле, а коню, не по насильникам, а по их жертвам.
Санкции, преподносимые "любящими" руками человеколюбцев, всей своей силой, всем своим ужасом обрушивались на тех страдальцев, имя же им легион, которые извивались в предсмертных мучениях в подвалах Чеки и просто в жизни, которая и вся то обратилась в один сплошной великий подвал Чеки...
Таковы гримасы истории!
Таковы гримасы гуманизма!..
И гримасы эти продолжаются...
{246} Но перехожу к моим воспоминаниям, оставляя в стороне этих гуманистов — история, беспристрастная история скажет в свое время свое слово, произнесет свой беспристрастный приговор.
|
|
|
Блокада, в сущности, аннулировала комиссариат внешней торговли. И лишь в предвидении, что когда-нибудь мы должны будем вступить в мирные деловые сношения с соседями, диктовалась необходимость сохранения его аппарата, в который входили и такие, в данный момент ненужные учреждения, как таможня и пограничная стража, а также и пробирная палата мер и весов. Мне, стоявшему во главе наркомвнешторга, этого выморочного учреждения, приходилось самому решать вопрос, что должен делать этот комиссариат. И вскоре я нашел ответ — сама жизнь подсказала мне его.
Как-то ко мне на прием пришел один человек. Не знаю, от кого и как — очевидно, слухом земля полнится — он узнал, что может говорить со мной откровенно. По понятным причинам я не назову его имени. Он пришел ко мне с предложением, сперва ошарашившим меня своею неожиданностью. А именно. Сообщив мне конфиденциально, что у него имеются необходимые значительные средства в "царских" пятисотрублевках (Напомню, что советское правительство объявило все частные денежные запасы собственностью государства, разрешая иметь лишь (кажется) только 10.000 рублей на одно лицо. Остальное подлежало реквизиции. Находя при обыске деньги в размере, превышающем этот лимит, власти отбирали их, а виновные засаживались в ЧЕКУ. Это касалось, главным образом, "царских" денег, так как ни "керенки", ни тем боле советские деньги, печатаемые на ротаторах и выпускаемые в чисто космических количествах, не имели никакой цены. "Царские" же котировались на заграничных биржах, хотя и по весьма низкой цене. — Автор.) и люди и связи заграницей и небольшой {247} кредит, в частности в Германии, он предложил мне командировать своих людей заграницу для покупки и провоза контрабандным путем в Poccию разных товаров, главным образом, медикаментов, медицинских термометров, топоров, пил и т. под.
|
|
|
Я говорил уже выше, что при свирепствовавших эпидемиях у нас не было самых необходимых медикаментов, не было также разных хозяйственных инструментов... В частности, ощущался крайний, чисто бедственный недостаток в аспирине, вообще всякого рода салициловых препаратах, хинине, слабительных, йодистых препаратах, а также мыла и вообще дезинфицирующих средствах и т. под., а кроме того в термометрах: бывали целые больницы, в которых они совершенно отсутствовали... Равным образом, не было топоров, пил поперечных (для распилок дров)... Все эти предметы ценились на вес золота... Я привожу только те товары, недостаток которых ощущался остро-злободневно в виду эпидемий, отсутствия дров.
Правда, упомянутые товары просачивались через фронты и попадали на Сухаревку, где их "из под полы" можно было достать за бешенные деньги с риском попасть в ЧК (провокации свирепствовали не хуже сыпного тифа и его возбудителей — вшей)...
Словом, предложение это было таким, о котором стоило подумать.
Но скажу откровенно, я и сам боялся, за себя лично боялся, не было ли в этом предложении провокации.
— Я говорю с вами совершенно откровенно, господин комиссар, — продолжал этот человек. — Я не скрываю от вас, что мне удалось утаить царские деньги... Я верю вашему благородству... Я ведь рискую головой, я весь в ваших руках... А у меня семья...
{248} — Да, — ответил я, — вы говорите откровенно... пожалуй, даже слишком откровенно для человека, которого я имею удовольствие видеть в первый раз...
— А, вот, в чем дело! — прервал он меня. — Вы подозреваете меня в провокации...
— О, нет, — возразил я, — я слишком высоко стою для того, чтобы бояться вас...
— Вы можете навести обо мне справки, — сказал он, — хотя бы у Леонида Борисовича Красина, который хорошо знает меня... Я был поставщиком у "Сименс и Шуккерт", когда Леонид Борисович был там директором... Но — времена теперь такие — говорю вам и об этом между нами, под ваше честное слово...
В тот же день Красин подтвердил мне, что действительно хорошо знает этого человека, что мне лично бояться его нечего и что я смело могу принять его предложение.
Таким образом, с этого случая я стал усиленно заниматься делом контрабандной покупки, так что Красин шутя называл меня "министр государственной контрабанды". Но надо сказать правду, что это было нелегкое дело, что и здесь я встречал значительное противодействие со стороны "товарищей", о чем я уже выше много говорил.
Для того, чтобы дать читателю представление об этих затруднениях, опишу, как осуществлялось командирование этих поистине отважных людей в прифронтовые полосы. Надо упомянуть, что вскоре после того, как я занялся этой контрабандной торговлей, ко мне ежедневно стали приходить массами охотники, предлагавшие мне командировать их в прифронтовую (ту или иную) полосу для закупки товаров. И все они являлись не просто с улицы, а с рекомендациями, часто весьма высокопоставленных советских сановников, которые {249} за них ручались. Без таких рекомендаций я не принимал предложений... По доходившим до меня слухам (только слухам), а подчас и довольно прозрачным намекам самих аспирантов, лица, рекомендовавшие их и за них ручавшиеся, часто сами бывали заинтересованы в деле и снабжали этих охочих и, повторяю, отважных людей даже деньгами... Но я не производил сыска и расследования, и, раз необходимые формальности были соблюдены, я принимал их предложения. К числу этих формальностей относились оставление отъезжающими за себя заложников, которых он указывал и о которых затем наводились справки в ВЧК... Но я, признаться, не помню, чтобы с этой стороны были какие-нибудь препятствия...
Как правило, я заключал от имени Наркомвнешторга с таким лицом договор, которым оно обязывалось за свой счет приобрести такие то товары (следовал перечень товаров) и по доставке их в Москву сдать в комиссариат по ценам оригинальных фактур с прибавлением 15% прибыли в свою пользу.
Я выдавал таким лицам удостоверение в том, что они являются уполномоченными Наркомвнешторга, командированными туда то и туда то с такой то целью и, что я им разрешил иметь при себе такие то суммы, что все советские учреждения обязаны оказывать им всяческое содействие, беспрепятственно пропускать их и пр., что ни они сами, ни имеющийся при них багаж, товары и деньги, аресту и реквизициям не подлежат... Но самым главным документом являлся мандат, который, помимо меня, должен был подписывать Наркоминдел и председатель ВЧК, т. е., Дзержинский. С Дзержинским я обыкновенно предварительно сговаривался по телефону и обычно он немедленно же или одобрял моего кандидата или отвергал его... Не то было с {250} Наркоминделом, где господами были Чичерин, Литвинов и Карахан. Там всегда дело затормаживалось и иногда проходили недели, прежде чем я мог получить необходимую подпись... Особенно отличался Литвинов, который учинял форменные допросы моим кандидатам даже уже после того, как мандат был подписан самим Дзержинским... Стремление уловить меня и застопорить мою работу и сделать мне лично неприятность сказывалась во всю...
Но вот мандат был подписан. Мой уполномоченный уезжал навстречу всяким случайностям... Некоторые из них были и расстреляны по ту сторону фронта, главным образом, в Польше, где их принимали за шпионов... Впрочем, может быть, и не потому, а просто у людей не было достаточно средств, чтобы выкупиться, ибо контрабандная торговля в Польше была как бы узаконенным явлением и пользовалась даже почетом.
Так, некоторые из возвращавшихся с польского фронта, привозившие большими количествами товары, рассказывали мне, что контрабандное дело было там хорошо поставлено, благодаря продажности властей, что подкупленные жандармы — даже жандармские офицеры в чине полковника, — взяв крупную взятку, сами сопровождали контрабандные товары до нашего фронта, гарантируя своим присутствием безопасность и контрабандисту и привозимым им товарам. Ибо никто из пограничных чинов не смел осматривать провозимые обозы с товарами, раз при них находился высокий чин, свидетельствовавший, что обозы идут для надобностей жандармского ведомства. Но взятки были очень высоки.
Вначале моя "внешняя" торговля шла сравнительно слабо: контрабанда доставлялась враз по несколько {251} десятков пудов. Но постепенно товары шли все большими и большими партиями и, наконец, стали приходить вагонами... Не буду уж подробно описывать, но лишь упомяну, что такой успех, конечно, не мог не вызвать обычной зависти, а следовательно и противодействия...
Но к интригам и всякого рода вставлениям палок в колеса я уже привык — ведь это было обычное явление. Но меня глубоко огорчала дальнейшая судьба добываемых с такими жертвами товаров. По правилу, все приобретаемые мною, как народным комиссаром внешней торговли, товары должны были распределяться по заинтересованным ведомствам : так медикаменты я должен был передавать наркомздраву, съестные припасы — наркопроду, топоры и пилы главлесу и т. д. И, едва я передал в первый раз медикаменты заведующему центральным аптечным складом наркомздрава, как через несколько же дней на Сухаревке, где до того нельзя было достать этих товаров, вдруг в изобилии появились термометры (тех же марок, которые были доставлены моим агентом), аспирин, пирамидон и пр., которые к тому же продавались по ценам значительно более низким, чем мы их купили... Это объясняется тем, что с центрального склада товары, вместо того, чтобы идти по больницам, "просачивались" к спекулянтам, на Сухаревку. То же было и с продуктами, топорами, пилами и др.
Словом, я, в качестве «всероссийского купца» (монополия торговли!), закупал товары для надобностей государства, а их организованно воровали и за гроши сбывали спекулянтам... Я работал в интересах казнокрадов!..
Организуя контрабандную торговлю в государственном масштабе, я вскоре привлек к этому {252} делу и наши кооперативные организации. В то оголтелое время они, в качестве беспартийных организаций, находились у советского правительства не только в загоне, но и под большим подозрением в контрреволюционности. Никто не хотел иметь с ними дела. А между тем они представляли собой стойко организованные деловые общества с выработанными и установившимися в течение долгого ряда лет коммерческими приемами и навыками. А кроме того, как организации беспартийные, не входящие в ряды казенных учреждений советской власти, они в глазах иностранных правительств, бойкотировавших всякие советские казенные институции, пользовались не только терпимостью, но даже и поощрением, почему их агенты даже в период блокады имели возможность легально, по советским паспортам проникать заграницу. (Этим и объясняется тот факт, что при возобновлении торговых сношений, правительства иностранных государств, отказываясь признавать советское правительство и его агентов, вели какую - то недостойную комедию, требуя, чтобы командируемые заграницу советские агенты документально, т. е. по паспортам числились сотрудниками "Центросоюза" — организации, объединяющей беспартийные кооперативные общества, т. е. сами же узаконивали эту нелепую маскировку. Таким образом, все первоначальные торговые агентства заграницей считались заграничными отделениями "Центросоюза", и все мы (например, Красин, Гуковский, Литвинов, я и др.) по паспортам значились членами делегации "Центросоюза" И декорум этот практиковался довольно долго, причем нам, в отличие от рядовых сотрудников, выдавались дипломатические паспорта. — Автор.)
Естественно, что я, в качестве "министра от контрабанды", не мог не заинтересоваться этими обществами, которые, как я выше говорил, находились под сильным подозрением и в загоне, а потому фактически ничего не могли делать, не имея к тому же и денег, или не имея возможности ими пользоваться и вынужденные {253} их скрывать. Когда я заговорил о моих видах на эти общества с Красиным, он ответил мне, что в принципе я, конечно, прав, но что кооперации не в милости и что вовлечение их в дело может принести мне лично немало неприятностей. Тем не менее я решил в конце концов войти с ними в сношения...
— Ну, что ж, попробуй, конечно, — сказал Красин, сообщивший мне, что эти общества объединены в две центральные организации под сокращенными названиями "Центросекция" и "Центросоюз" и что во главе первой стоит Лежава.
— Ты помнишь Лежаву? — спросил меня Красин.
— Он пришел в наше время в ссылку в Сибирь по делу Марка Андреевича Натансона, т. е., по делу "народоправцев" ("Народоправцами" называлась незначительная революционная организация, основателем которой был один из выдающихся революционеров М. А. Натансон. Группа эта была основана в середине девятидесятых годов прошлого столетия. Программа ее была довольно путанная и представляла собою чистой воды эклектизм из социалистических и народнических теорий. Она просуществовала очень недолго. Все, или почти все члены ее, во всяком случае, главнейшие, были арестованы и сосланы в Сибирь. В числе их и Лежава, тогда молодой студент грузин, которого Натансон мне аттестовал, как пустого малого, большого фантазера, любящего рассказывать легенды о своих революционных приключениях, в частности, о том, как его арестовали. — Автор.).
Ну, так этот самый Лежава и является председателем "Центросекции"... Я ему позвоню и скажу, что ты имеешь на него виды, и какие именно...
Хотя Андрей Матвеевич Лежава и представляет собою полное ничтожество, но остановлюсь несколько подольше на нем, так как его советская история рисует довольно характерную картину того, как люди { 254 } низкопоклонством и применением к обстоятельствам делали и делают себе карьеру в советской России.
(ldn-knigi, дополнение:
http://www.hrono.ru/biograf/lezhava.html
Лежава Андрей Матвеевич (19.2.1870, Сигнахе Тифлисской губернии - 8.10.1937), государственный деятель. Сын приказчика. Образование получил в Тифлисском учительском институте. С 1882 работал приказчиком, в столярной мастерской, затем на телеграфе. В 1886 примкнул к народникам. С 1893 преподаватель воскресной школы в Москве. В апр. 1893 арестован за участие в организации подпольной типографии и после 2 лет в крепости отправлен на 5 лет в ссылку, где стал марксистом. С 1901 работал в транспортных и страховых компаниях. В 1904 вступил в РСДРП, большевик. Вел революционную работу в Тифлисе, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Москве. В дек. 1905 арестовывался. В 1917 работал в рабочей группе Московского продкомитета. В 1919-20 пред. Центросоюза. В 1920-22 зам. наркома внешней торговли РСФСР. С 1922 пред. Комиссии по внутренней торговле при СТО РСФСР (1922-23) и СССР (1923-24). По поручению ЦК составил "Тезисы о внешней торговле", которые были одобрены В.И. Лениным. В мае 1924 Л. был назначен наркомом внутренней торговли СССР, но уже в дек. переведен на пост зам. пред. СНК РСФСР и пред. Госплана РСФСР, который занимал до 1930. В 1927-35 одновременно пред. президиума общества "Автодор". В 1927-30 член ЦКК ВКП(б). В 1930-32 пред. Всесоюзного государственного объединения рыбной промышленности и хозяйства. В 1933 пред. Всесоюзного комитета по субтропикам при СТО СССР, одновременно с 1930 нач. Главного управления субтропических культур Наркомата земледелия СССР.
26.6.1937 арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян.
В 1956 реабилитирован.
Использованы материалы из кн.: Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва, Вече, 2000
Сталинские расстрельные списки:ЛЕЖАВА Андрей Матвеевич03.10.37 Москва-центр
http://www.memo.ru/memory/donskoe/d37-10.htm
ЛЕЖАВА Андрей Матвеевич. Род.1870, г.Сичнах, Грузия; грузин, чл.ВКП(б), обр.высшее, нач.Главного управления субтропиков Наркомзема СССР, прож.: г.Москва, Леонтьевский пер., 9-5.Арест. 28.06.1937. Приговорен ВКВС 8.10.1937, обв.: участие в к.-р. тер.организации. Расстрелян 8.10.1937. Реабилитирован 2.06.1956. )
В тот же день Лежава был у меня. Но не застал меня. Долго и терпеливо ждал в приемной, беседуя с моим секретарем и выспрашивая его, каков я? Я знал Лежаву лишь понаслышке от М. А. Натансона, его жены Варвары Ивановны и от А. Г. Гедеоновского, который вместе с Натансоном были основателями и руководителями партии народоправцев...
На другой день Лежава явился ко мне спозаранок.
Долго ждал в приемной, пока я смог его принять. Вошел он ко мне весь ликующий:
— Наконец то я могу лично пожать вам руку, Георгий Александрович, — начал он, и тотчас же предался приятным воспоминаниям о Натансоне, который-де ему много обо мне говорил. Конечно, это была ложь... Затем он перешел к делу:
— Вы себе представить не можете, Георгий Александрович, как подняло мой упавший дух сообщение Леонида Борисовича о вашем решении работать с "Центросекцией"... дать нам торговое задание. Ведь мы совсем обойдены и жалко прозябаем. Нас бойкотируют, знать не хотят. А между тем, при современных обстоятельствах мы могли бы быть весьма полезны советскому правительству и вообще России. Но что вы хотите, нам не верят, нас подозревают в контрреволюционности... И весь наш громадный, сложный, хорошо организованный аппарат бездействует... И как я рад, что именно вы стали "замом"... с вашим практическим умом... широтой взгляда, смелостью...
— Ну, Андрей Матвеевич, оставим это в стороне, — перебил я его, морщась внутренно от этих явно неискренних комплиментов.
{255} С этого дня Лежава стал бегать ко мне, иногда по несколько раз в день. Он терпеливо ждал в приемной, ловил меня, вечно звонил по телефону... Он очень любил разного рода конфиденции, любил часто говорить мне, что он не коммунист и что он не хочет входить в партию торжествующих, а предпочитает оставаться среди "угнетенных" и умереть беспартийным, что душа его и все мировоззрение против коммунизма, этой современной аракчеевщины...
В конце концов я заключил с "Центросекцией" договор на приобретение ею заграницей разных товаров и выдал "Центросекции" аванс в десять миллионов рублей (царскими знаками). Были указаны агенты "Центросекции", которые должны были быть командированы заграницу. Я их снабдил необходимыми удостоверениями, мандатами и пр. Среди них находился и видный бундовец, бывший член центрального комитета "Бунда", Михаил Маркович Розен, состоявший директором отделения "Центросекции" в Петербурге. Он был большой друг Лежавы и принимал деятельное участие в наших переговорах, для чего специально приезжал из Петербурга. Он произвел на меня самое лучшее впечатление своей искренностью, широтой и стойкостью взглядов. Я вскоре убедился, что он то и был душой "Центросекции", а Лежава был лишь, так сказать, почетным председателем...
Все намеченные к командировке, лица должны были в назначенный день выехать из Петербурга в Финляндию и дальше. Все было налажено, прифронтовые финские власти были предупреждены и дали согласие на беспрепятственный пропуск наших агентов...
Как вдруг от явившегося ко мне Лежавы я узнал, что Розен арестован петербургской ЧК-ой и {256} вместе с ним еще два-три служащих петербургского отделения "Центросекции"... Лежава был очень взволнован и стал умолять меня вмешаться в это дело, просить Дзержинского... Он ручался мне за то, что это какая то бессмыслица, что Розен честнейший человек, его большой друг и, хотя и не коммунист, но вполне лойяльный в отношении советского правительства...
Я вызвал к телефону Дзержинского, сообщил ему об этом аресте, жалуясь на то, что этот, по словам Лежавы, «бессмысленный» арест Розена тормозит дело исполнения крупного поручения, данного мною "Центросекции".
— К сожалению, Георгий Александрович, — ответил Дзержинский, — ваши сведения не совсем точны... Мне сообщили из Петербурга об этом аресте и я боюсь, что в данном случае дело довольно серьезное... Насколько я вижу из первого сообщения, Розен очень скомпрометирован... речь идет о крупном хищении...
— Но Лежава, — возразил я, — говорит, что головой ручается за Розена, этого старого испытанного бундовца...
— Господи! — схватил себя за голову с выражением ужаса на лице, шепотом сказал Лежава, прикрыв ладонью приемную воронку телефонной трубки. — Зачем вы упоминаете мое имя?... В таком деле?...
— Лежава в данном случае ошибается, — ответил Дзержинский. — Я тоже хорошо знаю Розена по старой революционной работе... приходилось встречаться... я и сам о нем очень высокого мнения... но и не такие люди, как он, соблазнялись... Подождем расследования.
— Так вот, я и прошу вас, Феликс Эдмундович, — сказал я, — нельзя ли, в виду того, что Розену {257} персонально дано ответственное задание, ускорить всю процедуру следствия... Я вас держал в курсе переговоров с "Центросекцией" и заручился вашим согласием на командировку указанных сотрудников ее... Вы знаете, что это многомиллионное дело...
— Да, да, все это я знаю, — перебил меня Дзержинский, — и, чтобы пойти вам навстречу, я сегодня же распоряжусь перевести Розена и других, привлекаемых по этому делу, сюда в Москву, и лично послежу за следствием...
Лежава, испуганный упоминанием его имени, взволнованно ходил взад и вперед по моему кабинету, хватаясь за голову.
— Ах, — воскликнул он, когда я повесил телефонную трубку, — зачем вы ссылались на меня?.. ведь не ровен час...
— Но, — перебил я его, — ведь вы же сами просили меня похлопотать у Дзержинского об освобождении Розена, говорили, что "головой ручаетесь" и пр. Ведь вы же его друг, знаете его много лет... Если бы не ваше такое энергичное заявление, я не стал бы вмешиваться... Ведь я знаю Михаила Марковича без году неделя... правда, он произвел на меня прекрасное впечатление...
— Ах, что там впечатление?.. Мне вовсе не улыбается перспектива... могут и меня привлечь... — повторял он взволнованно.
И дело Розена затянулось на несколько месяцев, и кончилось осуждением, и он был сослан. Но по мере того, как дело его принимало все более и более тяжелый для него оборот (из Петербурга приехала и его жена, врач, для которой я выхлопотал свидание с мужем и которая усиленно настаивала на невинности мужа), Лежава, постепенно все поднимавший голову и { 258 } приобретавший все более самоуверенный, доходившей по временам до наглости тон, все более от него открещивался, всеми мерами стараясь отделаться и от его впавшей в несчастье жены...
Исчезла та приторность, с которой он первое время обращался ко мне, и он стал говорить со мной все с большей и большей развязностью. Использовав тот толчок, который я дал ему, когда он и "Центросекция" находились в загоне, он стал все увереннее и увереннее плавать в мутном море советских сфер, всюду заискивая, где это было нужно. Выяснив, что я в кремлевских сферах не в фаворе, он еще более усилил свою небрежность в обращении со мной.
Делал, во время пресеченные Красиным и мной попытки наговаривать нам друг на друга. И постепенно становился на ноги. Под моим и Красина влиянием сам Ленин стал менять свое отношение к кооперативным обществам (в то время начались уже мирные переговоры с Эстонией и начала намечаться новая роль, которую смогут играть кооперативы). Наконец, Лежава был призван "самим Ильичем", поручившим ему заняться делом Объединения всех кооперативных обществ в одну организацию... Я его видел вскоре после этого "отличия". Он явился ко мне ликующий. Небрежно сообщил мне о свидании и поручении "самого Ильича", часто употреблял выражение "мы с Лениным"... На мой вопрос о Розене, он тоном настоящего "Ивана Непомнящего", пожимая плечами сказал мне:
— Розена?... Ах, да, этого... Ну, это грязное дело... просто воровство... Оно меня мало интересует — ведь я знал Розена только как служащего...
И, отделавшись этим великолепным моральным пируэтом от своего старого друга, он стал {259} рассказывать мне о своей работе по объединению кооперативов... Его старания увенчались успехом, все кооперативы объединилось под названием "Центросоюза" и, поддержанный "самим Лениным", он стал председателем его совета, в который было введено немало коммунистов...
Впрочем, и сам Лежава поторопился расстаться с «угнетенными», и легко и просто перешел в партию «торжествующих» и стал коммунистом.
Вскоре туда же перешел и его друг и приятель Л. М. Хинчук... И теперь Лежава уже поднялся на высокую ступень и, забыв о моей скромной приемной, где, как я выше упоминал, он дежурил часами, стал проводить целые дни в ожидальной комнате у Ленина... А Ленин очень это любил. И этим пользовались люди, добивавшиеся его милости. Так, например, Ганецкий (Фюрстенберг), известный своей деятельностью во время войны, как поддужный Парвуса, впав в немилость, провел в ожидальной у Ленина несколько дней, добился своей преданностью свиданья и получил и прощение и высокое назначение (полпредом в Ригу)...
Постепенно Лежава стал персоной. Вид у него становился все более солидный, искательство стало исчезать. Впрочем, до поры, до времени он и в отношении меня, нет-нет, да прибегал к искательному тону: ему была известна моя старинная дружба с Красиным... Таким образом, этот тип и дошел до степеней известных. Но об этом дальше.
XIX
Выше я упомянул, что в Наркомвнешторг входили и пограничная стража и таможня и палата мер и весов. Конечно, и таможня и пограничная стража, в {260} виду блокады, бездействовали. И еще до меня оба эти учреждения были значительно свернуты: большинство личного состава было оставлено за штатом — таким образом осталось на своих местах лишь по несколько десятков лиц, самых высококвалифицированных с тем, чтобы в случае надобности можно было развернуть эти учреждения в полную меру.
Во главе таможни находился бывший мелкий служащий ее
Г. И. Харьков, как комиссар и начальник "Главного Таможенного Управления". Дела он абсолютно не знал, но он был стопроцентный коммунист и потому считался вполне на месте.
Это был еще молодой человек, совсем необразованный, но крайний графоман, одолевавший меня целой тучей совершенно ненужных, многословных и просто глупых донесений, рапортов, записок... По старой, удержавшейся и в советские времена, традиции он считал своим долгом вести ведомственную войну с "Главным Управлением Пограничной Стражи", в котором по свертывании осталось всего тридцать человек наиболее ответственных офицеров.
Во главе пограничной стражи стоял тоже бывший мелкий служащий таможни и стопроцентный же коммунист, Владимир Александрович Степанов. Хотя он и окончил курс в университете, но остался человеком весьма ограниченным. Он был тоже графоман и тоже верен традиционной вражде к таможенному управлению. И Харькову и Степанову в сущности нечего было делать и оба они, по натуре пустоплясы и бездельники, изощрялись в своей взаимной вражде и не давали мне покоя своими взаимными доносами и кляузами. Когда они уж очень досаждали мне, я поручал моему управляющему делами
С. Г. Горчакову (ставшему впоследствии торгпредом в Италии), вызвать их обоих {261} вместе и разнести их в пух и прах. Это на некоторое время помогало, но через несколько дней начиналось то же самое.
Правда, Харьков был в общем довольно безобидный парень. Но не таков был Степанов. Человек уже лет за тридцать, из семинаристов, окончивший курс юридического факультета, суеверно религиозный, он был крайне честолюбив. Он считал себя обойденным жизнью и носил в своей груди массу озлобления. Казалось, это был человек, которого высшей радостью и счастьем было причинять зло ближнему. Как комиссар и начальник над беззащитными офицерами, все людьми бесконечно высшими его во всех отношениях, он вечно старался сделать им какую-нибудь гадость. Он был груб, мелочно придирчив, бестактен, лез к ним со своими полными бессильной злобы замечаниями и угрозами, — бессильной, так как, быстро раскусив его натуру, я не давал ему повадки и держал его очень строго, не позволяя ему по собственному его усмотрению налагать каких-нибудь взыскания на офицеров. И тем не менее у него вечно выходили с этими офицерами резкие столкновения, по поводу которых мне приходилось вмешиваться...
Но, как оно понятно, грубый и резкий с теми, кто от него зависел, он был до приторности угодлив и искателен в отношении высших. Скрывая, хотя и неудачно, клокотавшую в нем злобу, он перед высшими держался так, что сравнение его с маленькой противной собачонкой, стоящей на задних лапках, не в обиду собакам, всегда вставало предо мной, когда мне приходилось говорить с ним. И чувствовалось все время, что, будь у него возможность, он впился бы в меня, {262} как клещ... В разговоре он постоянно употреблял солдатские выражения "так точно", "никак нет", "рад стараться". И при объяснениях с начальством он старался придать себе выражение какого то радостного сияния и точно млел от тайного восторга и счастья. Но это был скверный человек... Вот один эпизод. Как то после обычного доклада, он принял сугубо невинный вид. Зная его обычаи и повадки, я не сомневался, что сейчас последует гадость...
— Это все, Владимир Александрович? — спросил я его.
— Никак нет-с, Георгий Александрович, — отвечал он по-военному, держа руки по швам. — Разрешите доложить, крайне важное дело-с... Осмелюсь доложить, что полковника Т-ва следует представить в ЧК к расстрелу-с...
Я знал этого офицера академика, толкового и заслуженного, хорошо воспитанного, умного и талантливого. Я его в свое время назначил помощником и заместителем Степанова, который ненавидел его мелкой злобой маленького озлобленного существа к высшему его. Но это было в первый раз, что он в своей злобе дошел до такого градуса.
— Что такое?.. к расстрелу?.. — переспросил я, не веря своим ушам.
— Так точно-с, Георгий Александрович, — томным ласковым голосом с улыбочкой отвечал Степанов, глядя мне прямо в глаза своими большими голубыми глазами каким то просветленным взглядом, от которого становилось вчуже страшно. — Так точно-с, разрешите представить его к расстрелу-с...
— Да, понимаете вы, что вы говорите!?.. внутренно {263} содрогаясь особенно от такого ужасного "с" на конце этого звериного слова, сказал я. За что?.. что он сделал?..
— Так что, Георгий Александрович, позвольте доложить-с... В прошлом году Т-в купил себе осенью толстую фуфайку на Сухаревке, за двести рублей-с...фуфайка ничего себе, хорошая, — слов нет-с, он тогда же еще всем нам ее показывал... А так что третьего дня он обменял ее на фунт сливочного масла... а масло то нынче стоит две тысячи рублей-с за фунт... Значить, это явная спекуляция-с, потому в десять раз больше-с... Так что по долгу службы-с я и докладываю вам — разрешите представить его к расстрелу-с...
С глубоким стыдом вспоминаю, что я не мог, не смел сказать этому, по выражению Салтыкова "мерзавцу, на правильной стезе стоящему", кто он и что представляют его слова, не посмел сказать ему — "замолчи, гадина!.." Ведь он был коммунист, полноправный член нового сословия "господ", а Т-в — офицер, т. е. человек, самым своим положением уже находившийся под вечным подозрением в контрреволюции.
Не смел, ибо боялся озлобить этого полноправного "товарища" и еще больше боялся вооружить его против беззащитного полковника... Меня душил гнев, меня душило сознания моего бессилия и желание побить, изуродовать этого человеконенавистника. А в уме и душе было одно сознание необходимости во что бы то ни стало защитить бесправного человека... И с нечеловеческим усилием воли, сдержав в себе желание кричать и топать ногами от бешенной истерии, подступившей к моему горлу, я стал резонно и спокойно, деловым тоном доказывать Степанову, что предлагаемое "наказание" не {264} соответствует "проступку". Я говорил о самом Т-ве, об его многочисленной семье, о его нужде... Боже, сколько ненужных, лишних и таких подлых слов я должен был произнести. Я вспомнил, кстати, что Степанов (еще одна из гримас современности!) был крайне и суеверно религиозен — в то время это не преследовалось — вечно ходил в церковь... И я говорил с ним доводами от религии, приводил ему слова Спасителя... Был великий пост. Степанов собирался говеть и я напомнил ему, что он должен, прежде чем исповедываться, "проститься с братом своим"...
И мне удалось в конце концов повернуть дело так, что Степанов стал униженно просить меня простить его...
Больше вопрос о расстреле Т-ва не поднимался. Но это не мешало Степанову вечно лезть ко мне со всякого рода доносами на «вверенных» ему офицеров. По положению, я, как нарком, имел право своею властью подвергнуть любого из служащих моего комиссариата аресту при ВЧК до двух недель. Конечно, я никогда не пользовался этой прерогативой. Степанов одолевал меня своими рапортами, в которых он "почтительнейше" ходатайствовал предо мной об аресте того или иного из офицеров и, несмотря на то, что я на всех этих рапортах неизменно ставил резолюции "отклонить", или "не вижу оснований", он неустанно надоедал мне ими.
Общая разруха и связанный с нею застой во всем, хотя и косвенно, но радикально повлияли и на деятельность палаты мер и весов, находившейся также в моем ведении. Во главе палаты стоял выдающейся ученый, профессор Блумбах, довольно часто наезжавший из Петербурга в Москву для докладов мне. Немолодой уже, {265} пуритански честный и чистый человек, живой и не падающий духом, несмотря ни на что, Блумбах представлял собою законченный тип ученого, преданного только науке и великого гуманиста. И в то время всеобщего полного бедствия кругом, он не уставая высоко держал свое знамя ученого.
Петербургский Исполком просто игнорировал существование палаты и ее научную деятельность: что им Гекуба и что они Гекубе... И научные труженики палаты были лишены отопления, как «бесполезный элемент», а также и рабочих пайков... И за всем тем Блумбах вел свою научную работу, ободряя своих сотрудников, вселяя в них мужество и энергию и приходя, когда он это мог, на помощь своим товарищам, обращаясь ко мне с разными просьбами, которые я по мере сил и удовлетворял. Но сил у меня было мало... Ведь я все время прохождения моей советской службы был в немилости, и товарищи, преследовавшие меня, переносили это отношение и на всех "подведомственных" мне чинов... И в результате сотрудники палаты бедствовали со своими семьями в нетопленных квартирах и замерзали и голодали в своих лабораториях, где царил мороз, где полузамерзшие люди скрюченными от холода руками с трудом могли работать насквозь промерзшими аппаратами и инструментами...
Отсутствие питания, особенно жиров ослабляло этих самоотверженных {266} тружеников науки и вызывало у них язвы на теле, на руках, ногах... (Отмечу попутно научно - любопытный факт, о котором мне не приходилось встречать в современной литературе. Организмы советских граждан были настолько, если можно так выразиться, "обезжирены" и так жадно усваивали жиры, если они попадали, что вводимое в желудок касторовое масло не вызывало обычного послабляющего, действия — оно целиком усваивалось и лишь после повторных значительных доз, т. е. после достаточного насыщения организма жиром, наступал известный эффект. Кстати отсутствие жиров вызывало у женщин на много месяцев задержку в менструациях, которая проходила лишь после того, как организм довольно долгое время начинал получать жиры. — Автор.)
На комиссариат внешней торговли было возложено и проведение перехода систем мер и весов на метрическую систему. Был издан соответствующий декрет, которым предписывалось закончить всю эту реформу в течение (если не ошибаюсь) четырех лет. Я по должности народного комиссара внешней торговли являлся председателем особого междуведомственного совещания, которое должно было произвести все работы по осуществлению этой реформы. При первом же свидании с Блумбахом я попросил его ввести меня в курс дела. Увы, оказалось, что, несмотря на строгие понукания Совнаркома, совещание собралось всего навсего один единственный раз чуть не год назад, и дело стояло.
Я попросил Блумбаха собрать совещание. Он очень обрадовался, и мы занялись этим делом. Но скажу вкратце — несмотря на ряд совещаний, дело, в сущности не сошло с мертвой точки.
Мы подошли вплотную к вопросу о необходимости заказать необходимое количество эталонов (Эталонами называются весьма точные образцы установленных мер и весов для проверки действующих в торговле, промышленности и вообще в жизни единиц мер и весов. Эталоны тщательно хранятся и хранение их обставлено строгими, законом установленными мерами в согласии с научными требованиями. Вообще хранение эталонов представляет собою в науке целую обширную отрасль. Основные эталоны (их немного) хранятся центральной Палатой мер и весов. — Автор.*) и снабдить ими губернские палатки мер и весов. {267} Основные эталоны были изготовлены научными сотрудниками Палаты, несмотря на все неблагоприятные условия, о которых я выше говорил. Блумбах вел переговоры относительно изготовления эталонов для губернских палаток мер и весов с разными заводами. Напомню, что все заводы были национализированы и, за отсутствием необходимого оборудования и при полной дезорганизации ни один завод не мог взять на себя исполнения этой задачи. Нашелся один маленький завод, который можно было приспособить, и администрация которого соглашались взять на себя изготовление, но она требовала материала (металла). Началась длинная и бесплодная переписка с массой ведомств... всякого рода трения и... конечно, интриги. Мне не удалось сдвинуть этого дела с мертвой точки и, получив в марте 1920 года другое назначение и расставшись с Наркомвнешторгом, я оставил его незаконченным.
Но еще несколько слов о Блумбахе. Как то он приехал ко мне из Петербурга с просьбой разрешить ему поехать в Саратовскую губернию для закупки для своих сотрудников провизии. Палата имела свой собственный специально приспособленный вагон, снабженный необходимыми аппаратами и инструментами и представлявший собою как бы маленькую передвижную лабораторию.
— Господин комиссар, — сказал Блумбах взволнованным голосом, — мы все умираем от голода и холода... За эту зиму умерли (такие то) сотрудники, все выдающиеся ученые... Уже месяцы, как мы не видали жиров... Посмотрите на мои руки... Видите — он все в язвах. То же и у моих сотрудников... И все это от отсутствия жиров... Ведь организм...
И он продолжал взволнованным голосом и со {268} слезами на глазах, показывая мне свои руки, покрытые струпьями... Высокий, худой, седой, он от слабости весь дрожал, этот благородный и искренний жрец науки, доведенный лишениями до крайности.
— Конечно, дорогой профессор, поезжайте, — сказал я, стараясь его успокоить. — Все будет сделано, что могу...
— Спасибо, господин комиссар, спасибо и за меня и за моих товарищей... Мы валимся с ног... Но мы будем до конца служить России и науке...
Конечно, я сделал все, что мог. Выдал всякого рода необходимые командировки, разрешения, удостоверения, аванс и пр. И в тот же день он уехал.
Вернулся он недели через две. Он бодро вошел ко мне весь сияющий.
— Вот видите, господин комиссар, как я поправился, — сказал он здороваясь со мной. — Я закупил разного рода провизии, сорок ведер подсолнечного масла... Теперь нам надолго хватит... И уже дорогой, благодаря подсолнечному маслу, я ожил... Смотрите, все язвы зажили... И мой ассистент тоже поправился и проводник вагона тоже, Все мы ожили и поправились...
Разрешите мне, господин комиссар, уступить вам одно ведро подсолнечного масла... Я вижу, что и вы, несмотря на ваш высокий пост, нуждаетесь в питании жирами... Нет, нет, не отказывайтесь... Это вам будет стоить всего...
Он торопливо назвал цену, конечно, заготовительную... Я согласился принять эту «взятку»... Ведь я действительно плохо питался... очень плохо... Но я поделился подсолнечным маслом с другими...
Моя "контрабандная" деятельность все развивалась. Это потребовало в конце концов необходимости {269} создания в прифронтовой полосе ряда специальных контрабандных агентур постоянного характера и выделения всего делопроизводства в центре в особое отделение под названием "Отдел агентур", который скоро стал одним из главных отделов комиссариата. Между тем по мере роста контрабандного ввоза, росли и зависть и стремление мне противодействовать. Все это, по обычаю, отлилось в ряд интриг и, наконец, доносов... По Москве пошли "шопоты", стали говорить, что я поддерживаю и культивирую всякого рода спекулянтов и что "контрабандисты" и всевозможные авантюристы находят у меня самый радушный прием. Конечно, в значительной степени эти нарекания имели под собой реальную, но неизбежную почву. Всякому ясно, что вести, и притом в государственном масштабе, ввозную контрабандную торговлю я мог только при помощи контрабандистов. И, само собою, à la guerre, comme à la guerre ("На войне, как на войне!"), я не мог требовать от этих отважных авантюристов par exellence (По преимуществу, преимущественно), чтобы они были в белых перчатках. Правда, познакомившись, и довольно близко, с этими контрабандистами и их бытом, я вскоре убедился, что у них имеется своя специальная этика, свои традиции, в которых было немало каких то рыцарских черт... Но это к делу не относится. Во всяком случае, эти люди мужественно и даже самоотверженно (напомню, что некоторые поплатились головой) несли свою в высокой степени полезную для того ужасного времени службу. Вопрос об их политической благонадежности меня не касался — это уж было дело ВЧК, которая в лице Дзержинского исследовала их с этой стороны и в положительном случае ставила свой гриф в виде его подписи на мандат.... Но так или иначе, в сферах пошли кислые разговоры... Я не знаю подробностей, {270} но знаю только, что с некоторого времени Дзержинский стал, относительно, очень придирчив к моим кандидатам, задерживая все дольше и дольше подписывание мандатов.
Задержки эти вынудили меня однажды обратиться к Дзержинскому по телефону с вопросом, отчего с некоторых пор, несмотря на то, что о своих кандидатах я его заранее предупреждаю и что таким образом он имеет достаточно времени для наведения о них справок, он так задерживает с проставлением на мандатах своей подписи.
— Да видите ли, Георгий Александрович, — ответил мне Дзержинский, — приходится быть сугубо осторожным... За последнее время ваши благожелатели стали "урби эт орби" ( ldn-knigi, лат.- urbi et orbi - городу и селу, всему миру) звонить всякие нелепости. Я лично, конечно, не обращаю на это никакого внимания но... идут доносы, и я хочу предложить вам одну комбинацию, которая, по моему, ликвидирует эту шумиху о том, что вы культивируете контрабандистов и авантюристов...
— Феликс Эдмундович, — перебил я его, — ведь надо же иметь в виду, что вести контрабандное дело можно только с помощью контрабандистов, или авантюристов, что то же самое...
— Ну, конечно, но дело в том, что надо положить конец этим интригам, — сказал он, — и я предлагаю вам ввести в ряды ваших сотрудников одного из видных сотрудников ВЧК, которому вы можете поручить ведать именно делами о контрабандистах... Как вы относитесь к этому проекту?..
— Я ничего не имею против, — отвечал я, внутренне похолодев от этого предложения.
— Ну, так вот вы могли бы назначить его заведующим тем отделом, который производит выбор {271} из предлагающих вам услуги, — продолжал Дзержинский, — он же, зная хорошо наш аппарат, легко сможет наводить необходимые справки и, раз он контрсигнирует мандат, вы можете смело его подписать с уверенностью, что уж ни с чьей стороны не будет никаких возражений: человек, которого я наметил для этой роли, такой, что, поверьте, никто и пикнуть не посмеет...
— Кого вы имеете в виду? — спросил я, весь насторожившись.
— Александра Владимировича Эйдука, — ответил Дзержинский.
Это было для меня настолько неожиданно, что я не удержался от невольного восклицания.
— Да, да, — с легким смешком ответил Дзержинский, — именно его... Не удивляйтесь и не возмущайтесь, хотя я и понимаю вас... Но для вас он будет в этой роли неоценимым человеком. Вы увидите, что раз он будет ведать контрабандистами, раз от него будет исходить одобрение и выбор их, все прикусят языки, никто не посмеет и слова сказать... И вы будете гарантированы от всяких нареканий... Ну, что же, идет?
Мне ничего не оставалось делать, как согласиться. Читатель поймет, почему я не удержал восклицания, услыхав от Дзержинского это имя... Эйдук!.. Это имя вселяло ужас, и сам он хвастал этим. Член коллегии ВЧК Эйдук отличался, подобно знаменитому Лацису (тоже латыш, как и Эйдук), чисто садической кровожадностью и ничем несдерживаемой свирепостью... Приведу один эпизод из его деятельности.
Эйдуку было поручено принять один сдавшийся на фронте белогвардейский отряд. Выстроив сдавшихся, он велел офицерам выйти из рядов и выстроиться {272} отдельно от солдат. К солдатам он обратился с приветствием. Повернувшись затем к офицерам, он сказал:
— Эй вы, проклятые белогвардейцы!.. Вы знаете меня... Нет? Ну, так узнайте.. Я Эйдук! Ха-ха-ха, слыхали?! Ну, вот, это и есть тот самый Эйдук, смотрите на меня! Х-а-р-а-ш-е-не-к-о смотрите... Сволочь, белогвардейцы (непечатная ругань)!.. Так вот, запомните: если чуть что, — у меня один разговор... Вот видите этот маузер (он потряс громадным маузером) — это у меня весь разговор с вами (непечатная ругань), и конец!.. Этим маузером я собственноручно перестрелял таких же, как вы, белогвардейцев, сотни, тысячи, десятки тысячи.. Я сам буду сопровождать вас в Москву!.. Смотрите у меня (непечатная ругань), и помните вот об этом маузере!..
И тут же, свирепо набросившись на ближайшего офицера и буравя его бешенным взглядом своих налившихся кровью глаз, он схватил его за плечо, сорвал с него погоны и, все более и более свирепея, стал топтать их ногами.
— Эй вы (непечатная ругань) сволочи белогвардейцы!! Долой ваши погоны, чтобы я их не видел больше!!! Срывайте... Живо у меня, а не то... ха-ха-ха, вот мой маузер!..
И для того, чтобы еще больше терроризировать этих сдавшихся и безоружных людей, он приставил к голове одного из них свой маузер и, как сумасшедший, стал орать:
— Только пикни, сволочь белогвардейская (непечатная ругань), и конец!.. Ааа, не нравится? Ну, так вот помни... У меня жалости к вам нет!..
Об ужасных подвигах Эйдука даже привычные {273} люди говорили с нескрываемым отвращением. И вот этот то человек был назначен ко мне. И мне пришлось пожимать ему руку... Он явился ко мне в меховой оленьей шапке (которую не забыл снять) и с болтающимся в деревянном чехле громадным маузером... может быть, тем самым... Он пришел не один, а со своим приятелем, неким Соколовским, которого он мне и представил.
— Феликс Эдмундович послал меня к вам, товарищ Соломон, — начал он, — для работы под вашим начальством... Вы уже говорили с ним по телефону и знаете, в чем дело... Я в вашем распоряжении. А это вот товарищ Соколовский, хотя и не партийный, но я головой ручаюсь за него и, если вы разрешите, я хотел бы, чтобы он помогал мне... Какое назначение вы мне дадите?
— Я сговорился с Феликсом Эдмундовичем, — ответил я, — что я вас назначу заведующим отделом агентур... Если вы согласны, я сейчас же распоряжусь заготовить приказ о вашем назначении... А товарища Соколовского... я, кстати, только теперь организую этот отдел... так вот, товарища Соколовского я могу назначить секретарем этого отдела... Вас это устраивает, товарищ Соколовский? Вы справитесь с этой ролью?...
— Кто? Он то? — живо перебил меня Эйдук. — Xa-xa-xal Да ведь он присяжный поверенный... Ха-ха-ха, конечно, справится!
И вот с этих пор и до того момента, когда я, по постановлению Политбюро, должен был сдать Наркомвнешторг, чтобы ехать в Германию, я продолжал свою работу по контрабандному ввозу товаров, находясь под наблюдением Эйдука, который действительно {274} наводил все справки о кандидатах, сам рекомендовал мне своих кандидатов, которых он хорошо знал... Словом, в этом отношении я был, как у Христа за пазухой. Держал он себя очень прилично, мне не досаждал, был исполнителен, и его участие в этой работе значительно облегчало мне дело...
В заключение описания работы Эйдука приведу маленький эпизод.
Как то он засиделся у меня до 11-12 часов вечера. Было что то очень спешное. Мы сидели у моего письменного стола. Вдруг с Лубянки донеслось (ветер был оттуда) "заводи машину!" И вслед затем загудел мотор грузовика. Эйдук застыл на полуслове. Глаза его зажмурились, как бы в сладкой истое, и каким то нежным и томным голосом он удовлетворенно произнес, взглянув на меня:
— А, наши работают...
Тогда я еще не знал, что означают звуки гудящего мотора.
— Кто работает?.. что такое? — спросил я.
— Наши... на Лубянке... — ответил он, сделав указательным пальцем правой руки движение, как бы поднимая и опуская курок револьвера. — Разве вы не знали этого? — с удивлением спросил он. — Ведь это каждый вечер в это время... «выводят в расход» кого следует...
Холодный ужас прокрался мне за спину.... Стало понятно и так жутко от этого понимания... Представились картины того, что творилось и творится в советских застенках, о чем я говорил выше (см. гл. XVII)... Здесь рядом, чуть-чуть не в моей комнате...
— Какой ужас! — не удержался я.
— Нет, хорошо... — томно, с наслаждением {274} в голосе, точно маньяк в сексуальном экстазе, произнес Эйдук, — это полирует кровь...
А мне казалось, что на меня надвигается какое то страшное косматое чудовище... чудовище, дышащее на меня ледяным дыханием смерти...
Оно гудело за окном моей комнаты, где я жил, работал и спал...
Гудела Смерть...
XX
— Товарищ Соломон? — спросил меня женский голос по телефону.
— Да, это я... слушаю...
— С вами хочет говорить товарищ Ленин. Я передаю ему трубку...
— Это вы, Георгий Александрович? — услыхал я голос Ленина. — Здравствуйте... Вот, в чем дело. У меня сейчас сидят Горький и Гржебин... Вы, кажется, знаете их обоих?
— Да, знаю... В чем дело? — спросил я.
— А, видите ли, лавры ваших контрабандистов не дают спокойно спать этим джентльменам... Они тоже хотят приобщиться к этой почтенной деятельности... Серьезно говоря, я одобряю их проект... Надеюсь, что и вы найдете его приемлемым... Речь идет о покупке большой партии бумаги в Финляндии — у нас ведь положение с бумагой аховое... Так вот, если вы согласны, назначьте время, когда вы можете их принять, чтобы сговориться...
Я назначил день и час, и они оба явились ко мне. Горький, с которым я некогда во время моего {276} пребывании в Крыму видался довольно часто, хотя отношения между нами были только поверхностные
к моему удивленно вдруг заговорил со мной крайне приятельски, даже интимным тоном, стал вспоминать о наших встречах... словом, принимая во внимание обстоятельства, при которых мы в данную минуту встретились, держал себя просто по-хамски. (В последний раз перед описываемым свиданием я встретился с ним в 1904 году. В России была «весна», газеты заговорили свободнее, шли политические банкеты. Но гнет царского режима еще давал себя знать. Я был в Петербурге, только что выйдя из под "особого надзора". Мне из провинции один приятель написал о каком то возмутительном случае произвола, прося использовать его для печати. В то время только что появилась в свете новая, яркая, правдивая и серьезная газета "Наша Жизнь". Я и снес свою заметку туда. Меня направили к заведующей провинциальным отделом Е. Д. Кусковой. Пробежав заметку, она резко (хотя и основательно) сказала мне: "Факт очень интересный. Но не зная вас, я не могу поместить его в газете... Кто вас знает — может быть, вы провокатор?.... Если укажете на известных мне лиц, знающих вас и могущих поручиться за вас, я приму заметку...". Конечно, она была права...
В той же комнат сидел Горький, которого я знал по Крыму, и В. Я. Богучарский, с которым я тоже познакомился в Крыму (Горький привел его как - то ко мне). Почему то Горький, присутствовавший при этой сцене, делал вид, что не знает меня... По крайней мере он ничем не подал вида, что я ему хорошо знаком. Меня это возмутило. Была неприятна и сцена с Кусковой (хотя я ее и не виню)... Что то во мне закипело и, обратившись к Кусковой и глядя прямо в глаза Горькому, должно быть, очень злым взглядом, я сказал: "Да вот, чтобы далеко не ходить, меня знает Алексей Максимович Горький, а также и Василий Яковлевич Богучарский". Я сказал это таким тоном, что оба они встрепенулись, а находившийся тут же Португалов, который ходил и двигался около Кусковой с выражением бесконечной преданности, даже вздрогнул и укоризненно посмотрел на меня... Тогда и Горький и Богучарский поторопились ко мне, стали
пожимать мне руки, говоря, что после стольких лет разлуки не узнали меня... Но я был зол. Я взял свою заметку и передал ее в "Сын Отечества" Г. И. Шрейдеру, который и напечатал ее. — Автор.), {277} Гржебин, которого я тоже немного знал, сейчас же бестактно стал предлагать мне написать мои воспоминания, как революционера, говоря, что он собирается издавать целую серию таких мемуаров... Кое-как отделавшись от всех этих ненужных и таких подозрительных при данных обстоятельствах "любезностей", я попросил их перейти к делу.
— Мы с Алексеем Максимовичем, — начал Гржебин, — предлагаем приобрести в Финляндии (такое то) количество бумаги, газетной и книжной... Мы берем на себя, все хлопоты, поездки, покупку, доставку, словом, все... Мы просим вас только выдать известный аванс под отчет с тем, что мы сдаем бумагу по ценам оригинальных фактур плюс 15% прибыли в нашу пользу... Конечно, в эти 15% входят все наши расходы по проезду и т. д., словом, все накладные расходы. Мы привлекаем к делу А. Н. Тихонова, который поедет вместе со мной в Финляндию... Вы же выдаете мне и ему все необходимые удостоверения на проезд в прифронтовую полосу... словом, всякие охранные, так сказать, грамоты для людей, денег, товаров и всего, что нужно....
— Хорошо, а какой аванс рассчитываете вы получить от Наркомвнешторга? — спросил я.
— Да небольшой, — ответил он, переглянувшись с Горьким, — всего десять миллионов...
— Десять миллионов, — повторил я.
— В царских знаках, — поспешно вставил молчавший все время Горький, — билетами по пятьсот рублей...
— Так, — сказал я. — Ну, а как будет с приемкой бумаги?
— То есть, с какой приемкой? — как бы не понимая моего вопроса, спросил Гржебин.
— Да с обыкновенной приемкой, — повторил я. — Я предлагаю сделать так. Всю приобретенную бумагу вы сдаете, доставив ее через границу вашими средствами на собственный риск и страх, в петербургскую таможню...
— Зачем же в таможню? — живо перебил меня Горький. — Мы думали именно, что вы дадите нам удостоверение, что бумага не подлежит таможенному досмотру...
— Ну, конечно, бумага эта, покупаемая для надобностей государства, таможенному обложению не подлежит. Это ясно, — сказал я. — Речь идет только о месте ее сдачи и склада. Ведь необходимо иметь достаточное помещение, где назначенная мною приемочная комиссия из компетентных людей могла бы произвести акт испытания, испробовать ее и т. д., одним словом принимать ее...
— Так видите ли, Георгий Александрович, — быстро вмешался Гржебин, — нам не нужно никаких приемочных комиссий... Мы думали, что бумага поступит в распоряжение Алексея Максимовича... он ее и примет... Ведь Алексей Максимович, надеюсь, вне подозрений...
— Ни о каких подозрениях и не идет речь, — ответил я. — Это просто общий порядок при коммерческих поручениях...
— Но ведь это чистая формальность, — возразил Гржебин, — бюрократическая формальность, — подчеркнул он. — В данном случае она не к месту. Ведь бумага, повторяю, поступит в распоряжение Алексея Максимовича...
{279} — Ну, об этом я не буду спорить с вами, — сказал я, — какая это формальность... Речь идет о том, что я, по конституции являющейся, так сказать, монопольным российским купцом, даю вам обоим, как контрагентам Наркомвнешторга, определенную поставку на определенных условиях, о которых мы имеем с вами договориться... И приемка товара мною или лицами, которым я делегирую эти права, является «кондицио сине ква нон» ( ldn-knigi, „ Conditio sine qua non“ лат. - необходимое, обязательное условие.) ...
— Да, но это противоречит тому, что мы говорили Владимиру Ильичу, который направил нас к вам, — возразил Горький.
— Хорошо, а что же вы имели в виду? — спросил я Горького.
— Мы имели в виду, — отвечал он, — что все дело пройдет под знаком взаимного доверия, чисто по-товарищески, что все будет под моим контролем...
— Но, Алексей Максимович, — возразил я на это, — ведь вопрос идет не о частной сделке между двумя товарищами, а о поручении даваемом частным лицам известным государственным учреждением.
— Хорошо, господа, давайте подойдем ближе к делу, — развязно и с явным раздражением перебил Гржебин. — Каковы ваши требования, Георгий Александрович?
— Да, я вот все время о них то и говорю, о требованиях наркомвнешторга, Зиновий Исаевич, — отвечал я. — А именно: первое — вы, как наши контрагенты, даете подробный отчет в израсходовании выданного вам аванса и второе — вы сдаете весь товар в таможенные склады петербургской таможни, где и происходит приемка товара, согласно известным условиям, которые и будут оговорены в договоре...
{280} Мы ни до чего не могли договориться, и Горький, сказав мне, что поговорит еще с "Ильичем", ибо последний одобрил совсем другие условия, "чуждые всяких этих бюрократических требований", ушел вместе с Гржебиным и больше я их никогда не видал. Я узнал лишь, что они пожаловались на меня Ленину, который по принципу «быть по сему!» велел выдать им десять миллионов царских рублей без «всяких этих бюрократических» формальностей за счет совнаркома... А спустя еще некоторое время я узнал, что Гржебин и Тихонов были арестованы не то до перехода в Финляндию, не то по возвращении из нее... И затем это дело во всем его объеме вышло из поля моего зрения и чем оно окончилось, я не знаю...
Как видит читатель из изложенного, мне в моей контрабандной деятельности приходилось бороться с людьми, стремившимися использовать протекцию, забегавшими к сильным советского мира и в конце концов, не мытьем, так катаньем добивавшимися своего, помимо меня... Вообще протекция царила и царит в советском строе не меньше, чем и во времена отжившего режима... пожалуй, даже больше, ибо она стала как то шире, откровеннее, циничнее...
В свое время советское правительство национализировало такие товары, как ношенное платье, меховые вещи, драгоценности (драгоценные камни, ювелирные изделия и пр.). Но сперва о платьях и меховых изделиях. Все это реквизировалось организованно и неорганизованно в государственный фонд. И в данном случае царил полнейший хаос, как в деле хранения этих товаров, так и особенно в расходовании их: здесь все было на почве протекций и взяточничества. Вступив в управление комиссариатом, я, исходя из того положения, {281} что все эти предметы — я говорю о наиболее ценных — представляют собою обменный фонд для внешней торговли (когда откроются границы), сделал попытку урегулировать дело расходования их. По соглашению с другими заинтересованными ведомствами мною был установлен лимит, выше которого товары должны были включаться в обменный фонд. Таким лимитом была установлена сумма в десять тысяч рублей. До нее склады имели право отпускать товары без моего вмешательства. Для приобретения же пальто или шубы и вообще меховых изделий, стоивших выше этой суммы, требовалось особое разрешение наркомвнешторга. Само собою, при низкой покупательной способности рубля (напомню, что он все время прогрессивно падал) предметы, стоившие ниже десяти тысяч, считались обыденными, в обменный фонд не включались и являлись предметами широкого потребления.
Я давал разрешение на приобретение шуб и пр., стоивших выше десяти тысяч рублей, лишь по представлении мне доказательств, что данное лицо по долгу службы нуждается в более теплой одежде, как например, лица медицинского персонала, командируемые на эпидемии, разные товарищи, отправляющиеся на лесозаготовки, служебные разъезды и пр. Однако, ошибочно было бы думать, что лица, имевшие действительно право на приобретение шубы и добившиеся, наконец, всех необходимых удостоверений и разрешений, беспрепятственно получали эту шубу. Нет, они находились еще в зависимости от полного произвола заведовавших меховыми складами. Я знаю не один случай, когда эти заведующие по собственному почину устраивали форменные обыски на квартирах несчастных аспирантов на шубу, чтобы удостовериться, якобы, в том, что у этого аспиранта {282} действительно нет где-нибудь припрятанной шубы. А во время этих обысков производились новые реквизиции, следовали доносы и угрожала ЧК...
Конечно, бывало немало и злоупотреблений, вроде того, что какая-нибудь приятельница какого-нибудь комиссара ("содком"), желая щегольнуть роскошным палантином или шубой, заручалась у своего покровителя удостоверением, что командирована по таким то делам и нуждается в теплой шубе стоимостью в 25-30 тысяч рублей... Зная, что это неправда, я не имел формальных оснований отказывать и должен был давать разрешение. Чтобы дать представление читателю о тех проделках, к которым прибегали при этом случае, расскажу об одном эпизоде, хотя и мелком, но очень характерном.
Секретарь входит ко мне и с перепуганным лицом (а был он духовного звания, почему и трепетал вечно) докладывает, что меня желает видеть по "экстренному" и весьма спешному делу сотрудник ВЧК-и, что он не может ждать очереди, так как у него поручение от самого Дзержинского.
— А много народу в приемной? — спросил я.
— Двадцать семь человек, — взглянув в листок с записями ждущих, ответил секретарь. — Простите, Георгий Александрович, он очень настаивает, говорит, что не может ждать очереди... разрешите впустить его вне очереди... кто его знает, что у него...
— Ну, ладно, пускай войдет...
И ко мне с развязным видом вошел "чекист". Это был молодой человек, лет двадцати, в кожаном костюме, ставшем формой чекистов, в брюках "галифе", обутый в высокие на шнурах сапоги и с болтавшимся у пояса маузером в футляре.
— Я к вам, товарищ комиссар, — сказал он, {283} без приглашения разваливаясь в кресле у письменного стола, — по весьма важному делу... экстренному... Э-э-э, вы позволите? — с развязной любезностью спросил он, вынимая из серебряного портсигара папиросу.
— Нет, я просил бы вас не курить, — сухо ответил я. — У меня столько народу бывает, что, если каждый будет курить, то дышать будет нечем... В чем дело?
Мой более, чем холодный, тон, по-видимому, несколько убавил в нем самоуверенности.
— Дело, видите ли в том, — сказал он, как то сразу подтянувшись, — что моя жена была сегодня в магазинах, бывших Павлова... Ей нужна шуба. Вот она и выбрала себе песцовую ротонду. Но ротонду без вашего разрешения не отпускают... Она стоит сорок тысяч... Я и приехал к вам за разрешением... чтобы доставить жене удовольствие...
Я в упор сверлил его глазами. По-видимому, от моего взгляда ему становилось не по себе.
— Так вот, это и есть то спешное дело, по которому вы просили принять вас вне очереди? — не скрывая своего раздражения, спросил я. — И вы еще сказали секретарю, что имеете поручение от товарища Дзержинского.
— А... это я, извиняюсь, так нарочно сказал... Пожалуйста, товарищ, разрешите моей жене эту шубу...
— По какому праву вы просите? Что, ваша жена врач, фельдшерица, которая должна ехать на эпидемию?
— Нет... но ведь она моя жена, — вдруг оправившись, с новым напором наглости начал чекист. — Ведь вы же знаете... я не кто-нибудь... я ведь сотрудник ВЧК-и... Это и есть мое право...
— Ах, вот что, — сказал я, едва сдерживаясь, {284} — это и есть ваше право... что вы служите в ВЧК-ии?... Я не могу вам разрешить...
— Как, вы отказываете?! — скоре с удивлением, чем с возмущением переспросил он, поднимаясь с кресла. — Отказываете? Мне?!.. сотруднику ВЧК-и — подчеркнул он и, перегнувшись через стол зловещим шепотом сказал: — А знаете ли вы, что я могу вас арестовать?..
Тут произошла безобразная сцена. Я вышел из себя:
— Ах, ты мерзавец! — закричал я. — Вот я сейчас позвоню по телефону Феликсу Эдмундовичу... Своей властью я сейчас тебя арестую и передам в руки ВЧК-ии...
Я был вне себя. Я схватил телефонную трубку и в то же время нажал прикрепленную снизу к письменному столу кнопку электрического звонка к курьеру.
Поняв, что зарапортовался, чекист стал униженно просить простить его, хватать меня за руки, умолял не говорить Дзержинскому... жаловался, что жена заставила его, что она сказала ему, что «вынь да положь», а чтобы ей была эта шуба...
— Что прикажете, Георгий Александрович? — спросил явившийся на мой звонок курьер Петр.
— Выбросьте вон эту слякоть! — сказал я с омерзением.
Я не случайно так подробно остановился на этом эпизоде. Нет, я хотел дать понятие читателю о том, что такое ВЧК и чекисты. По своему положению я мог быть арестован только по постановлению Совнаркома. И вот, мне рядовой чекист угрожает арестом! Пусть же по этому "невинному" эпизоду читатель {285} представляет себе, как они, эти чекисты, вели себя в отношении обыкновенных граждан, именуемых ими «буржуями", людьми бесправными, этими истинными лишенцами...
И пусть читатель уяснит себе, насколько можно верить тем оголтелым людям, которые говорят и пишут, что появляющаяся время от времени в зарубежной печати сведения с "того берега" о тех насилиях, которые позволяют себе эти опричники в отношении "свободных" граждан этой в высокой степени "свободной" страны, не что иное, как злые выдумки...
Выше я упомянул о национализованных в государственный фонд драгоценных камнях и ювелирных изделиях. Заинтересовавшись ими, так как они представляли собой высокой ценности обменный фонд, я с трудом, после долгого ряда наведенных справок, узнал в конце концов, что всё драгоценности находятся в ведении Наркомфина и хранятся в Анастасьевском переулке в доме, где находилась прежде ссудная казна. Сообщил мне об этом H. H. Крестинский, бывший в то время народным комиссаром финансов. Занятый главным образом партийными делами (он был секретарем Центрального комитета всероссийско-коммунистической партии, каковым в данное время является Сталин), делами своего комиссариата не интересовался и потому направил меня к своему помощнику, фамилию которого я забыл, но которого звали Сергеем Егоровичем. В условленный день мы с ним и поехали туда.
Мы остановились у большого пятиэтажного дома. Я вошел в него и... действительность сразу куда то ушла и ее место заступила сказка. Я вдруг перенесся в детство, в то счастливое время, когда няня рассказывала мне своим мерным, спокойным голосом сказки о разбойниках, хранивших награбленные ими сокровища в {286} глубоких подвалах... И вот сказка встала передо мной... Я бродил по громадным комнатам, заваленным сундуками, корзинами, ящиками, просто узлами в старых рваных простынях, скатертях... Все это было полно драгоценностей, кое-как сваленных в этих помещениях... Кое-где драгоценности лежали кучами на полу, на подоконниках. Старинная серебряная посуда валялась вместе с артистически сработанными диадемами, колье, портсигарами, серьгами, серебряными и золотыми табакерками... Все было свалено кое-как вместе... Попадались корзины сплошь наполненные драгоценными камнями без оправы...Были тут и царские драгоценности... Валялись предметы чисто музейные... и все это без всякого учета. Правда, и снаружи и внутри были часовые. Был и заведующий, который не имел ни малейшего представления ни о количестве, ни о стоимости находившихся в его заведовании драгоценностей...
Дело было настолько важное, что я счел долгом привлечь к нему и Красина. Мы съездили с ним вместе в Анастасиевский переулок... Он был поражен не меньше меня этой сказкой наяву. В конце концов, после долгих совещаний, было решено выделить это дело в особое учреждение, которое мы назвали "Государственным хранилищем" (по сокращенно "Госхран"). Была выработана особая регламентация и пр. Словом, была сделана попытка урегулировать и упорядочить этот вопрос и ввести его в известную норму, гарантировать от хищений. Между прочим, в числе мер, гарантирующих от хищений, при составлении правил хранения этих сказочных сокровищ, было установлено, что караульную службу должны нести красноармейцы из разных частей, ибо предполагалось, что таким часовым будет труднее сговориться для хищений. Поэтому же, {287} чтобы проникнуть из вестибюля в помещение, где были свалены драгоценности, нужно было пройти через массивную дверь, запиравшуюся громадным, очень хитро устроенным секретным замком, который можно было открыть только одновременным введением в него пяти ключей, по числу ведомств, имевших право входа в эти помещения. И ключи эти хранились у глав ведомств, т. е., у самых ответственных лиц. Входить можно было только всем сразу и в сопровождении часовых, снабженных сургучными оттисками печатей этих ведомств. Часовые сверяли эти оттиски с печатями, предъявляемыми представителями ведомств. По оставлении помещений хранения, все представители ведомств должны были, заперев дверь, снова наложить на нее печати...
Казалось бы, чего можно было еще требовать... А между тем... Предупреждая события и нарушая последовательность моего рассказа, , я делаю скачок и опишу один случай из моей жизни в Лондоне, где я был директором "Аркоса".
В числе сотрудниц была одна дама, уже немолодая, хорошая пианистка, бывавшая часто в дом у Красиных и у меня. К ней приехала из Москвы ее старшая дочь, жена чекиста, разошедшаяся с ним и жившая с одним известным поэтом советской эпохи, недавно покончившим жизнь самоубийством... Я не назову их имен, ибо дело не в индивидуальности, а в системе...
Она привела эту дочь к нам. Раскрашенная и размалеванная, она щеголяла в роскошном громадном палантине из черно-бурой лисицы. Ее мать была в обычном скромном платье, но на груди у нее был прикреплен аграф... Но для описания этого аграфа нужно перо поэта.. Это был "обжэ д'ар", достойный украшать царицу Семирамиду. Он представлял собою ветку цветка, {288} состоящую из трех маргариток почти в натуральную величину с несколькими листочками. Лепестки маргариток представляли собою прекрасные кабошоны из темно-синей бирюзы, осыпанные мелкими бриллиантами, с сердечками из крупных бриллиантов. Все было в платиновой оправе. Платиновые листики тоже были осыпаны бриллиантовой пылью, изображавшей росу. И цветки и листики, прикрепленные к платиновым пружинкам, дрожали при малейшем движении. Аграф этот, помимо высокой ценности камней, представлял собою высокую ценность одной только своей художественной работой.
Я, ничего не смысля в этих драгоценностях, был поражен красотой и роскошью этого аграфа и не удержался от выражений восторга. Дама эта, любовно посмотрев на свою накрашенную дочь, с гордостью сказала мне:
— А это она привезла мне подарок из Москвы. Не правда ли, как он красив? — И, сняв аграф, она протянула его мне. — Видите, это все настоящие бриллианты, и темная бирюза... и все в платине... и цветочки можно отвинчивать, если хочешь, чтобы аграф был поменьше... Посмотрите, как естественно трепещут листики... как хорошо сделана роса...
— Хорошо, — заметил я, — что вы не бываете при дворе английского короля, а то мог бы найтись собственник этого аграфа... Ведь это царская драгоценность... И как она попала к вам? — спросил я младшую из дам.
— А мне ее подарил муж, — ответила та, нисколько не смущаясь...
Но возвращаюсь к "Госхрану" и его пополнению. Реквизиции продолжались. При обыске у «буржуев» {289} отбирались все сколько-нибудь ценные предметы, юридически для сдачи их в "Госхран". И действительно, кое-что сдавалось туда, но большая часть шла по карманам чекистов и вообще лиц, производивших обыски и изъятия. Что это не фраза, я могу сослаться на слова авторитетного в данном случае лица, а именно, на упомянутого выше Эйдука, о котором, несмотря на его свирепость, все отзывались, как о человеке честном.
— Да, это, конечно, хорошо, — сказал он, узнав о вышеприведенных мерах, — но... — и он безнадежно махнул рукой, — это ничему не поможет, все равно, будут воровать, утаивать при обысках, прятать по карманам... А чтобы пострадавшие не болтали, с ними расправа проста... Возьмут, да по дороге и пристрелят в затылок — дескать, застрелен при попытке бежать... А так как у всех сопровождавших арестанта рыльце в пушку, то и концы в воду — ищи, свищи... Нет, воров ничем не запугаешь... ВЧК беспощадно расправляется с ними, просто расстреливает в 24 часа своих сотрудников... если, конечно, уличит... Но вот уличить то и трудно: рука руку моет... И я положительно утверждаю, что большая часть отобранного при обысках и вообще при реквизициях, похищается, и лишь ничтожная часть сдается в казну...
Мои попытки озаботиться подготовлением в прок запасов обменного фонда, что находилось в связи с провозглашенной монополией внешней торговли, само собою, встречали массу затруднений. Боюсь, что я навожу на читателя скуку своими вечными указаниями на личные трения, которые вмешивались в государственные дела... Но что делать, когда этот момент являлся и является лейтмотивом отношения советских сфер ко всякому делу, как бы важно оно не было. Вершители судеб {290} России щедры на всякие меры, направленные к осуществление торжества социалистического строя. Но при попытках реализовать эти мероприятия, начинаются все те же интриги, зависть, боязнь, что другой успеет. То же самое было и у меня, когда в моих заботах о накоплении обменного фонда, я обратил внимание на кустарные изделия.
Началось это случайно. В Наркомвнешторг обратилась как то организация (я забыл точно, какая именно), выдавшая женскими кустарными изделиями, с просьбой озаботиться приобретением особого черного шелка, из которого наши кустарихи плетут косынки, испокон веков вывозимые и притом в большом количестве в Испанию. Я заинтересовался этим вопросом, вступил в переписку с этой организацией. Хотя я и марксист, но вопреки установившемуся в части русских адептов этого учения взгляду, что в виду того, что кустарная промышленность, как осужденная законом конкуренции на гибель, не должна поддерживаться, считал и считаю, что в России (а также и в других странах с более высокой хозяйственностью) мелкая промышленность еще не сказала своего последнего слова и что ей рано еще петь отходную, и поэтому необходимо всеми мерами поддерживать ее.
Я стал наводить справки и узнал, что при высшем совете народного хозяйства имеется специальный кустарный отдел. Я пригласил заведующего этим отделом, который оказался моим хорошим знакомым Л. П. Воробьевым. Я развил ему мой план начать накопление в государственном масштабе кустарных изделий. Он очень обрадовался этой идее, и познакомил меня с современным положением этого дела в России, обратив мое внимание на то, что кустари и их промышленность не в авантаже, и потому отдел, которым он {291} заведует, находится в полном пренебрежении и что несколько раз уже поднимался вопрос об упразднении его. Но что только, благодаря Рыкову, о котором я ниже довольно подробно упоминаю, как о человеке, обладающем государственным взглядом, отдел еще существует. Чтобы не повторяться, скажу кратко, что мое выступление в защиту кустарной промышленности, встретило озлобленный крик и настолько горячее противодействие, что Рыков посадил под арест одного из своих подчиненных за слишком рьяное саботирование моего плана...
В конце концов мое дело увенчалось успехом и кустарный отдел ВСНХ-ва приобрел подобающее ему место. Я заключил с ним договор на изготовление всевозможных, главным образом, художественных изделий, поистине, высоко стоящей кустарной промышленности и таким образом, положил начало созданию обменного фонда кустарных изделий. И скажу кстати, что после возобновления торговых сношений с Европой, изделия эти стали играть и играют и до сих пор довольно значительную роль в советской вывозной торговле. Заключив этот договор, я выдал кустарному отделу, не имевшему специального кредита, аванс в размере (если не ошибаюсь) десяти миллионов рублей.
Упомяну кстати, что этим я дал движение и карьере Воробьева. Подобно Лежаве, он, тоже человек недалекий, стоял вне партии, и тоже говоря с гордостью, что не хочет идти в "стан торжествующих", так как он-де не разделяет основоположений ленинизма... Но все его "твердокаменные" взгляды очень быстро полиняли, и он стал почти моментально столь же "твердокаменным" коммунистом. И пошел вверх, правда, не столь значительно, как Лежава, но во всяком случае он достиг высоких степеней...
{292}
XXI
Вскоре по моему вступлению в Наркомвнешторг, в Петербург — это было в конце августа 1919 года — пробившись через блокаду, пришел шведский пароход "Эскильстуна" под командой отважного капитана Эриксона. Небольшой, всего в 250 тонн водоизмещения, пароход этот привез такие нужные в то время товары, как пилы, топоры и пр., заказанные еще до блокады. В то глухое время приход "Эскильстуны" представлял собою целое событие и совнарком поручил мне лично принять его. Пришлось экстренно выехать в Петербург.
Я не был в Петербурге, свыше двух лет. Все мое имущество было расхищено, квартира реквизирована. Друзья и знакомые, захваченные всеми перепитиями смутной эпохи, частью рассеялись, частью пришипились, частью вступили в советскую службу. Город поразил меня своим захолустным и выморочным видом. Трамваи почти не двигались. Извозчики попадались в виде археологической редкости. У Николаевского вокзала к приходу поезда собралось несколько (это была для меня бьющая в глаза и в сознание новость) "рикш" для перевозки багажа... Закрытые магазины, дома со следами повреждений от переворота... Унылые, часто еле бредущие фигуры граждан, кое-как и кое - во что одетых... Улицы и тротуары поросшие, а где и заросшие травой... Какой то облинялый и облезлый вид всего города... Как это было непохоже на прежний нарядный Питер...
Навстречу мне на вокзал явился с автомобилем комиссар Петербургского отделения наркомвнешторга Пятигорский, и я поехал в гостиницу "Acтория", предназначенную для высших чинов советской бюрократии.
{293} "Астория" поразила меня после Москвы своей чистотой и порядком.
Поразило меня и еще кое-что: едва я успел войти в отведенную мне комнату, как явившийся вслед за мной служащий, записав мое имя и пр., передал мне особую карточку на право получения в "Астории" в течение недели сахара, хлеба, бутербродов...
Съездив на пристань у Николаевского моста, где была пришвартована "Эскильстуна" и приветствовав капитана, я поехал в помещение отделения комиссариата, где ознакомился с делами его. Поверхностного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что Пятигорский был не на месте. Он же сам сообщил мне, что Зиновьев тоже недоволен им, и просил меня о другом назначении. Служащих в отделении было много и все они были в каких то слишком фамильярных отношениях с Пятигорским, некоторые были у него на побегушках по его личным поручениям. Отчетность была в крайнем беспорядке, как вообще и все делопроизводство...
Возвратившись в Москву, я повидался с Красиным и сообщил ему о моих петербургских впечатлениях.
— Что касается Пятигорского, — сказал он, — ты напрасно отменяешься сместить его. Хотя он и мой ставленник, но я за него не стою, мне тоже кажется, что он никуда негоден... вообще, это просто настоящий прохвост. Вот и Зиновьев жалуется на него...
— Да, но кем его заменить, — заметил я, — это не так то легко? Ведь в Петербурге наш комиссар — это персона: нужен и представительный и понимающий дело человек.
— Видишь ли, — как то нерешительно и смущаясь сказал Красин, — относительно кандидата на эту {294} должность... гм... А что бы ты сказал, если бы я предложил моего кандидата, или, вернее, кандидатку?..
— Ну, еще даже кандидатку... Нет, брат, я думаю, это не годится... куда тут еще с женщинами...
— В смысле представительства моя кандидатка вне конкуренции, — она всякому даст десять очков вперед... Словом, это Мария Федоровна Андреева...
— Как? Артистка?... бывшая жена Горького?.. Ну, час от часу нелегче.
— Она самая. Меня очень просит за нее ее сестра Екатерина Федоровна, и я обещал поговорить с тобой о ней...
— Но, милый мой, — возразил я, — ведь ее назначение это будет просто скандал... подумай сам об этом...
— Да, конечно, толки будут, — согласился Красин, — это что и говорить... Но ее кандидатуру выдвигает и сам Зиновьев и очень настаивает...
Андреева была назначена. И, как я предвидел, начались толки и пересуды, усмешки, намеки... Правда, большая часть этих слухов и пересудов доходила до меня лишь косвенно, но по временам мне приходилось и лично выслушивать крайне неприятные заявления. Так, однажды мне позвонил по телефону Рыков, который в то время был председателем Высшего совета народного хозяйства и одновременно председателем Чрезвычайной комиссии по снабжение армии. У меня с ним были нередкие сношения по делам, так как эта комиссия довольно часто давала поручения по закупке разных предметов. В данном случае речь шла по делу, касающемуся петербургского отделения. По обыкновению, сильно заикаясь, Рыков, изложив сущность дела, спросил меня:
— А ваше петербургское отделение справится с {295} этим заданием? Ведь у вас там новый комиссар... в юбке...
— Дело будет сделано, Алексей Иванович, — ответил я, пропуская намек.
— Да. Вы думаете она справится?... Ха-ха-ха, ну, и чудаки, назначили кого комиссаром!.. Ведь быть комиссаром по торговым делам, это не то, что петь на сцене "тру-ла-ла, тру-ла-ла"...
По правде говоря, я не мог не согласиться с Рыковым в этой злой оценке, продиктованной ему, помимо всего, его крайне недружелюбным отношением к Красину, о причине которого мне как то никогда не приходилось говорить с последним.
Рыков, во всяком случае, представляет собою крупную фигуру в советском строе. Хотя наши отношения с ним не выходили за пределы чисто официальных, у меня создалось на основании их вполне определенное мнение о нем. И я лично считаю его человеком крупным, обладающим настоящим государственным умом и взглядом. Он понимает, что время революционного напора прошло. Он понимает, что давно уже настала пора сказать этому напору "остановись!", и приступить к настоящему строительству жизни.
Он не разделяет точку зрения о необходимости углубления классовой розни и, наоборот, является сторонником смягчения и полного сглаживания ее, сторонником полного уравнения всех граждан, — иными словами, сторонником внутреннего умиротворения страны. Поэтому он враг того преобладающего значения, которым пользуются в СССР коммунисты, эта новой формации привилегированная группа — сословие, напоминающее своими бессудными и безрассудными поступками, своею безнаказанностью, какие бы преступления они не совершили, {296} былых членов "союза русского народа", которым, как известно, все было нипочем. Человек, очень умный и широко образованный, с положительным мышлениeм, он в советской России не ко двору. И понятно, он не может быть "сталинцем", не разделяет безумной политики "чудесного грузина", толкающего наше отечество в глубокую пучину катастрофы, всей глубины, всего ужаса которой мы и представить себе не можем. И понятно поэтому, почему правящая клика считает его не своим, чуждым себе, ибо его позитивное мышление не могло не привести его к сознанию необходимости остановиться на достигнутых и завоеванных позициях и, окопавшись в них, стать на путь творческой работы по восстановлению России. А это сознание не могло не привести его к тому, что на советском языке называется "правым уклоном".
Я лично знаю Рыкова очень мало. Но то, что я знаю о нем, говорит за то, что это лично честный человек. И это я могу доказать тем известным мне фактом, что в то время, когда громадное большинство советских деятелей, не стесняясь пользоваться своим привилегированным положением, утопали и утопают в роскоши и обжорстве, Рыков, страдая многими болезнями, просто недоедал. И вот, когда я был в Ревеле в качестве уполномоченного Наркомвнешторга, один из моих друзей — с гордостью скажу, что это был Красин, к которому Рыков относился, как я выше сказал, крайне враждебно и который просил меня не выдавать его — обратился ко мне с просьбой послать Рыкову разных питательных продуктов (Теперь, когда Л. Б. Красина нет в живых, я позволю себе нарушить эту небольшую тайну, которая вносит известную черту в характеристику покойного.. Несмотря на вражду, Красин, по-видимому, ценивший Рыкова, как государственного деятеля, позаботился о нем. — Автор.).
По словам Красина, Рыков {297} был болен чем то вроде цынги, осложненной ревматизмом, малокровием и крайне нуждался в усиленном питании... Но Рыков не хотел пользоваться своим положением (в то время был жив Ленин, ценивший Рыкова, Ленин, который и сам заслуживал бы обвинения в "правом уклоне" — вспомним введение "нэпа") и предпочитал подголадывать, хотя по своим болезням имел право на улучшенное питание... Я знаю, что о Рыкове говорят, как об алкоголике. Но странно то, что я за все время моей советской службы слыхал кучу рассказов о роскошной жизни, кутежах и оргиях разных советских чиновников, но никогда ни от кого не слыхал, чтобы среди них упоминалось имя Рыкова...
Но возвращаюсь к Андреевой. Вскоре после своего назначения она из Петербурга приехала представиться мне. Она, очевидно, нарочито была очень скромно одета, пожалуй, даже с нарочитой небрежностью.
— Вот и я, — с театральной простотой и фамильярностью сказала она, входя ко мне. — Имею честь представиться по начальству...
Я ответил ей очень вежливо, но без всякого поощрения взятого ею тона. Она поняла это и сразу стала серьезна.
— Хотя мы с вами и не знакомы, — продолжала она, — но я вас хорошо знаю по рассказам Леонида Борисовича и Алексея Максимовича... Вообще мы, старые коммунисты, хорошо знаем друг друга...
— Ну, я то вас хорошо знаю по моей службе в {298} Контроле Московско-Курской железной дороги, — ответил я, — когда я находился под начальством вашего мужа Андрея Алексеевича Желябужского. Помню, вы устраивали в Контроле спектакли и балы, на которые все подчиненные вашего тогдашнего мужа обязаны были являться, внося, кажется, по рублю... И вы блистали на этих балах, как королева: вы посылали секретаря Лясковского, как вы знаете, проворовавшегося, к тем, кого вы хотели осчастливить, с объявлением что желаете с ним танцевать... О, я вас очень хорошо помню... Но о том, что вы коммунистка, да еще старая, я и понятия не имел...
Все это я сказал не без ехидства. (Марья Федоровна Желябужская (по сцене Андреева, впоследствии жена Горького) была бичом служащих Контроля, начальником которого был ее муж и на который она вместе с ним смотрела, как на свою вотчину. Служащие должны были по ее поручению бегать к портнихам, модисткам и пр. и постоянно были заняты перепиской для нее ролей. Служащие же уплачивали ежемесячно врачу, которым не могли пользоваться, но который зато два раза в неделю являлся к Желябужским, как их домашний врач... Вообще это была скандальная пара.... Описание их похождений могло бы составить интересную страницу в воспоминаниях о чиновничьем быте... Это не входит в тему моих настоящих воспоминаний и упоминаю я об этом лишь вскользь, чтобы дать понять читателю, из кого состоят "старые коммунисты". — Автор.).
Она покраснела и сильно смутилась. Я предложил ей перейти к делу и она стала читать мне написанный в петербургском отделении рапорт о приеме ею в свое ведение отделения. Мне часто приходилось видаться с нею и, само собою, как комиссар, она ничего не стоила — орудовали за нее секретари... Но она, как известно, сделала карьеру...
Перед Новым Годом все ведомства, в силу {299} закона о монополии торговли, представили в Наркомвнешторг свои требования на заграничные товары. Эти сметы поражали своими чисто астрономическими суммами (напоминаю об обесценении рубля). Требования были обширны и, в виду блокады, представляли собою лишь академический интерес — контрабанда, конечно, не могла их удовлетворить. Происходили совещания с представителями заинтересованных ведомств, проверялись списки необходимых товаров. По тому времени это была совершенно бесполезная работа.
Но, просматривая эти списки, я случайно заинтересовался тем, что военное ведомство требовало на какие то колоссальные, даже по тому времени, суммы лент для пишущих машин и вставочек для перьев. Совершенно случайно я встретился с одним инженером, который сказал мне, что машинные ленты он может изготовить в нужном для всей России количестве домашними средствами, а также и вставочки для перьев. Через несколько времени он доставил мне приготовленный им образец ленты и представил смету, по которой выходило, что каждая лента обойдется всего в 67 советских рублей. По тогдашним временам эта цена казалась до смешного ничтожной, ибо в требовании военного ведомства они оценивались несравненно выше. И для производства всего необходимого количества лент требовалось всего около трехсот пудов льняной пряжи, около десяти пудов краски и еще кое-каких материалов. А вставочки он брался сделать из папье-маше, для чего ему требовалось несколько сот пудов бумажной макулатуры...
По конституции Наркомвнешторгу не представлялось права производить товары. Поэтому я заручился, если не ошибаюсь, разрешением Рыкова, как председателя Чрезвычайной комиссии по снабжению армии, сделать {300} эти опыты с лентами и вставочками. Чтобы получить необходимые материалы, я должен был обратиться в целый ряд ведомств. Все это были пресловутые "Главки" (кстати, их было свыше восьмидесяти). Так, льняную пряжу я мог получить только в ведомстве, носившем сокращенное название «Главлен». Во главе его стоял покойный Виктор Павлович Ногин, крупный партийный работник, старый революционер из рабочих. Для получения краски я должен был обратиться в "Главкраску". Для получения бумажной макулатуры — в "Главбумагу". Нужны были еще некоторые добавочные продукты в очень небольших количествах, химические и другие, и все это было рассыпано по разным "главкам".
К первому я обратился к Ногину, по телефону изложив ему суть дела. Он сразу согласился и сказал мне, чтобы я послал моего инженера лично к нему с запиской и официальной просьбой на бланке, и все будет сделано. Разговор этот происходил в присутствии инженера. Я дал ему записку и он тотчас же поехал. Явился он ко мне только через четыре дня...
— Ну, что, — спросил я его, — все устроено?
— Какой там, — безнадежно махнув рукой, ответил он. — Ничего не устроено.
И он поведал мне свою "льняную одиссею". Ногин принял его очень любезно и сразу же написал свою резолюцию на моей официальной просьбе "исполнить", передал ее своему помощнику, которого тут же вызвал и на словах прибавил: "Сделайте это без задержек". Тот увел инженера к себе. Долго расспрашивал, в чем дело?.. Опять полное сочувствие и направление к следующему по нисходящей иepapxии лицу... Там та же история: длинные объяснения и полное {301} сочувствие ... Но весь день прошел в этих хождениях по инстанциям.
— Видите, товарищ, теперь поздно, — сказал ему последний сотрудник, до которого он дошел в этот день. — Приходите завтра.
Но завтра пошли все те же мытарства, а кроме того потребовались какие то справки, но уже обратно по восходящей лестнице иepapxии. Прошел еще день. На третий та же история. Наконец, мой инженер добрался до лица, заведовавшего тем сортом пряжи, который ему был нужен. Опять длинные расспросы, для чего? Подробные объяснения. Дополнительные вопросы. Такие же новые объяснения. Опять наведение дополнительных справок.
Мой инженер выходит из себя.
— Да вот же, товарищ, — говорит он, — ведь вы имеете все резолюции на требовании Наркомвнешторга... Чего же еще?.. Вот резолюция товарища Ногина "исполнить", вот резолюции других сотрудников...
На четвертый день он добрался, наконец, до последней инстанции. Те же вопросы, объяснения, возражения, дополнительные справки по восходящей и нисходящей... Наконец, этот последний сотрудник поднял вопрос, по какому праву Наркомвнешторг требует пряжу? Мой инженер, уже вдребезги измученный, устало объясняет. Ссылается на разрешение Рыкова. Снежный ком снова катится к Ногину. Он занят, будет свободен через два часа. Через два часа Ногин резонно говорит: "Да ведь я же написал резолюцию "исполнить". Kакие же еще вопросы? Надо сделать — вот и все". Но последняя инстанция не согласна. По ее мнению нужно ткать ленты не той ширины, а в несколько раз шире, а потом в бобинах разрезать на ширину, требуемую машиной... Мой инженер возражает ему на это, {302} что резанная лента, пройдя один раз через машину, будет замохряться и будет застревать в машине... Длинный спор. Мой инженер говорит с досадой: "Послушайте, товарищ, ведь все технические условия одобрены уже товарищем Соломоном".
— Мне, товарищ, это не указ... У меня есть свое начальство... я должен справиться у него...
Это был последний разговор, после которого инженер пришел ко мне с докладом... Я разозлился и тотчас же позвонил Ногину. Рассказал ему вкратце все перипетии.
— Что за ..... (матерная брань). Ведь я же ясно сказал: "исполнить"... Подождите, Георгий Александрович. Я сейчас позову своего помощника и наскипидарю ему левый бок... Вы сами услышите. Жду и через несколько мгновений снова слышу матерную ругань — это Ногин "скипидарит" своего помощника. В конце концов он мне говорит: все сделано — я ему дал "импету"... Посылайте вашего инженера"...
Уверенный, что теперь уже все будет сделано, советую моему инженеру начать хлопоты в "Главкраске" и в "Главбумаге" одновременно... И в течение трех недель он скакал по всем этим инстанциям, бросаясь от одной к другой... Между тем я получил официальную на бланке "Главлен" бумагу за подписью (?!) Ногина же в ответ на мою бумагу, что моя просьба не подлежит удовлетворению...
— Что это?! Виктор Павлович, смеетесь вы, что ли, надо мной? — говорю я ему по телефону. Передаю содержание бумаги.
— Не может быть, — отвечает он тоном {303} искреннего удивления. — Вы уверены, что бумага подписана мною?
— Да как же не уверен... Вот она передо мной лежит и ясно подписано «В. Ногин»...
— Не может быть, — сопровождая свои слова руганью, говорит Ногин. — Это значит, что они мне подсунули... я и подписал... Эти св....чи просто не хотят, чтобы вы исполнили эту работу... Вот я их!!..
Снова "скипидар", который я слышу в телефонную трубку, уверения, что теперь все в порядке, пусть мой инженер приезжает за пряжей... Снова те же мытарства... Одновременно длинная переписка с "Главбумагой", которой-де самой нужны запасы макулатуры, указанные моим инженером и пр. и пр. А между тем эта макулатура, сваленная на каком то дворе без призора, гниет под дождем... Такие же ответы от "Главкраски"... Около двух месяцев прошло, и я так ничего и не добился...
Впрочем, нет, добился: через два месяца после начала "этого дела" мой инженер неожиданно по доносу "Главбумаги" был арестован по обвинению в намерении спекулировать с макулатурой... Пришлось хлопотать о вызволении его... Тем дело и кончилось.
XXII
Зимою, если не ошибаюсь, в январе 1920 года между советской Россией и Эстонией начались мирные переговоры. Начал их Красин, передавший затем председательствование в советской делегации
А. А. Иоффе. Кроме Иоффе, в делегацию входили Гуковский и Берзин. Мир был заключен, и немедленно же в Эстонию был назначен в качестве торгового агента Исидор {304} Эммануилович Гуковский, личность весьма "историческая". Это был старый партийный работник, оказавший, как говорили, во времена подполья много услуг революции. Всеобщий отзыв о нем был, как о человеке весьма честном. Он был близким другом нынешнего диктатора Сталина, тянувшего его и стоявшего за него горой. Известно, что Сталин лично в денежном отношении честный человек. По его протекции Гуковский был одно время народным комиссаром финансов. Однако, вскоре его полная неспособность к этой ответственной роли стала ясна всем, и он был смещен. Затем его назначили членом коллегии Рабоче-крестьянской инспекции (т. е. Государственного контроля), во главе которой стоял Сталин, мало интересовавшийся этим делом и всецело ушедший в военное дело. Он все время находился при Троцком, не Бог весть, каком храбром "фельдмаршале", которого он, человек храбрый и мужественный, в сущности, и заменял и толкал, предоставляя ему все лавры и позы главнокомандующего.
Мне пришлось впервые познакомиться с Гуковским именно в роли члена коллегии Рабоче-крестьянской инспекции. В этой роли он сразу выказал себя человеком лишенным широты ума, необходимой для государственного деятеля. Он выступил сторонником полного уничтожения таможни и пограничной стражи, как бесполезных в государственном аппарате.
Он писал мне грозные и явно нелепые письма (очень длинные и сугубо полемические), в которых и проводил свою идею. Выше мне пришлось упомянуть, что оба эти учреждения, в виду блокады, когда им нечего было делать, были свернуты, и что второстепенный персонал был оставлен за штатом с тем, чтобы из оставшихся высококвалифицированных сотрудников, как базы, {305} можно было, в случае надобности, быстро развернуть эти учреждения в полную меру.
А такая надобность, как и показало дальнейшее, должна была наступить при первом же мирном договоре и при первых же шагах на пути возобновления внешних торговых сношений. Кроме того, конечно, как и оказалось на деле, таможенный вопрос должен был играть известную роль при мирных переговорах.
Но Гуковский, оперируя истинами вроде того, что при социалистически организованном хозяйстве "нет места ни деньгам, ни пошлинам, ни всяким другим пережиткам капиталистического строя", настаивал на упразднении и упомянутых учреждений. Я возражал, ссылаясь на приведенные выше вкратце аргументы. Тем не менее, вопрос об упразднении таможни и пограничной стражи несколько раз становился на обсуждение Совнаркома, куда меня вызывали для защиты моей точки зрения. Но я все время вел политику обструкционную и не являлся на заседания. У меня осталось в памяти, что вопрос этот 14 раз ставился на повестку и к рассмотрению его ни разу не было приступлено "за неявкой товарища Соломона". Так это дело и дотянулось до начала мирных переговоров с Эстонией, когда, я думаю, даже и недальновидному Гуковскому стало ясно, что при необходимости вступать в сношения с капиталистически организованными государствами, нельзя обойтись без таможни и пограничной стражи.
Итак, Гуковский был назначен полномочным представителем Наркомвнешторга в Эстонии, правда, под маской "Центросоюза", о чем я выше упомянул. Одновременно он нес и консульские обязанности и даже функции посланника. Получив это назначение, Гуковский стал торопливо набирать штат, проведя его весь через непосредственное утверждение самого Ленина. Он {306} являлся ко мне, все время торопил с окончанием разных формальностей, и угрозы с именем Ленина не сходили с его уст. И в то же время на меня наседал и днем и ночью Чичерин, находящийся в состоянии перманентной истерики, возбуждаемой, по слухам, злоупотреблением алкоголя. В конце концов Гуковский уехал со своим штатом и с инструкциями, данными ему мною от Наркомвнешторга и Чичериным от Наркоминдела.
И вскоре же после его отъезда из Москвы стали ходить, сперва шепотом передаваемые, слухи о его действиях в качестве нашего представителя в Эстонии. Ко мне поступали какие то, мягко выражаясь, договоры с поставщиками, в которых были точно и ясно формулированы все пункты, защищающие интересы поставщика и устанавливающие нашу ответственность перед ним в виде неустоек и пр. Наши же интересы вовсе не были защищены или защищены пунктами, столь неопределенно и неясно изложенными, что оставалось масса места для недоразумений, кривотолков... Мы писали Гуковскому возражения, делали указания на характер его договоров, но все было напрасно: на возражения и указания он не обращал ни малейшего внимания, просто не отвечал на них. И договоры составлялись все в том же виде. Когда же стали поступать и товары, то оказалось, что все это представляло собой какой то случайный сброд неотсортированных товаров в случайной (не заводской) упаковке, состряпанной кое-как... Но, повторяю, он был неуязвим и все, принимаемые против него меры, не давали результатов.
Между тем стало известно с несомненной точностью, что Гуковский проводит время в кутежах, {307} пьянстве, оргиях, и что тем же занимается и его штат. Доходили сведения и о том, что все там «берут»...
Но Гуковский продолжал оставаться неуязвимым: все высшие постоянно получали от него "подарки" в виде разной провизии, духов, мыла, материи и пр. Но скандал его "работы" в Ревеле получил уже широкую известность и о ней писали и кричали газеты всего мира...
Но он оставался неуязвим, на глазах всего мира шли кутежи, оргии, взяточничество...
Окруженный шайкой своих "поставщиков", он продолжал закупать и посылать нам всякую дрянь вместо товара, грабя и пропивая народные деньги...
Но возвращусь несколько назад.
Когда я сидел в тюрьме в Берлине, я из газет узнал, что из советской России в Германию прибыл для участия в каком то съезде (если не ошибаюсь, "спартаковском") Карл Радек, переодетый немецким солдатом, возвращающимся из русского плена. Он был быстро опознан, арестован и заключен в "Моабит", и против него было возбуждено дело... Он сидел долго в тюрьме, затем долго был интернирован в Берлине и лишь зимою 1919 года (кажется, это было в декабре), возвратился в Россию, увенчанный лаврами и встреченный овациями в Москве, где и получил назначение в Коминтерн (Кажется, то же назначение, которое он получил теперь, после своего торжественного отречения от троцкистской ереси. — Автор.). С ним носились. Он был тогда в большом фаворе. Устраивались собрания, на которых он, смешно коверкая русскую речь, читал доклады, делал сообщения, и на которых публика его бурно чествовала... Я был на первом собрании, устроенном в переполненном зале "Метрополя". Несмотря на свой {308} отвратительный русский язык, Радек говорил очень хорошо, т. е., умно. Но в его речи уже чувствовался некоторый сдвиг с того твердокаменного большевизма, вечным апологетом которого, даже до глупости, он был раньше. При возникшем по поводу его речи обмене мнений выступил и находившийся в зале известный меньшевик Абрамович.
Как известно, меньшевики свирепо преследовались в советской России. Те, которые еще почему-нибудь оставались, держали себя тише воды, ниже травы, не смея публично выступать с какими бы то ни было программными речами. Я никогда не разделял меньшевицких положений, но лично я относился к ним терпимо, как и ко всяким другим убеждениям. И само собою, я не был сторонником тех репрессий, которые применялись к ним ленинцами. И тем более я удивился и даже несколько болезненно сжался, когда слова попросил Абрамович. Речь его была умна. Он придрался к одному из высказанных Радеком практических положений, которое в концепции с другими и создавало то впечатление сдвига, о котором я выше упомянул.
— Я очень рад и приветствую от всей души, — говорил Абрамович, — то обстоятельство, что судьба толкнула Радека в сферу чисто практических вопросов, подойдя к которым он, как человек умный, не мог не сделать известных выводов. А эти выводы логически и привели его к отказу от некоторых наиболее абсурдных положений, которые он еще так недавно защищал с пеной у рта...
И далее, в очень умно построенной речи он, указав на то, что отказ от некоторой части ультрабольшевицких взглядов, представляет собою симптом того, что Радек становится на правильный путь в {309} понимании практических задач момента, заговорил о необходимости, отказавшись от политики уничтожения и разрушения всего, перейти к мирному строительству российской жизни...
В числе присутствующих был и Троцкий, еще так недавно вкупе и влюбе с остальными меньшевиками разделявший взгляды Абрамовича и других. И вот, он пропустил удобный случай не выступать с возражениями своему бывшему товарищу по партии. Он вскочил и с экспрессией потребовал слова и, точно его толкало что то изнутри, начал возражать.
Необходимо помнить, что Абрамович был из лагеря побежденных и преследуемых и потому, конечно, руки его были значительно связаны, он не мог свободно говорить и касаться программных вопросов. Но Троцкому чужды были соображения простой корректности и известного джентльменства. Ему нужно было блеснуть дешевенькими успехами красноречия. И он обрушился на Абрамовича, ставя вопросы, на которые меньшевик Абрамович не мог отвечать, не рискуя арестом... И, видя перед собой, связанного по рукам и ногам противника, уста которого были замкнуты, сознавая это, он упражнялся над ним своим крикливым красноречием. И закончил он свою речь словами:
— Нет, напрасно вы и вам подобные стараетесь сбить рабочий класс с его верного и точного пути к свободе! Напрасно вы стараетесь заманить его в свои сети! Вам это не удастся, что бы вы ни делали! Мы бодрствуем и мы всеми мерами будем бороться с вашей растлевающей ум и душу пропагандой!.. Вам не удастся — победите не вы, а мы!..
И он с резкой жестикуляцией под гром дружных аплодисментов сошел с трибуны.
{310} Я привел этот эпизод, так как он до известной степени характеризует мужество и храбрость советского "фельдмаршала"...
Встретившись со мной на этом собрании, Радек, с которым я был сравнительно мало знаком, спросил меня, не соглашусь ли я возвратиться в Германию для переговоров о возобновлении торговых сношений, сказав, что после своего освобождения из "Моабита", он успел для этого подготовить почву и что на днях он снова повидается со мной.
Но прошло два-три месяца, прежде чем он заехал ко мне. Пыхтя своей ужасной трубкой мне в лицо, он начал говорить на ту же тему. Он сказал, что, живя в Берлине, вел с влиятельными лицами разговоры о возобновлении торговых дел, что германское правительство в принципе согласно и готово начать переговоры, и что немцы выразили желание, чтобы именно я стоял во главе такой "мирной" делегации. Он-де уже говорил на эту тему с Лениным, который согласен. Далее он сообщил, что, кроме меня, в делегацию войдут, по его предположению, Воровский и Сокольников. Конечно, мне не особенно то улыбалась эта комбинация, и я сказал Радеку, что не думаю, чтобы в таком составе, принимая во внимание отношение ко мне Воровского и его любовь к интригам, из этой делегации вышел толк. Но он заявил мне, что Воровский, находящийся в опале, будет счастлив получить эту командировку и будет вести себя тише воды, ниже травы.
Словом в начале марта состоялось постановление Политбюро о моей командировке в Берлин, причем заместителем комиссара внешней торговли был назначен Шейнман, которому я и должен был как можно {311} скорее передать комиссариат, чтобы быть готовым немедленно выехать к месту моего нового назначения.
Однако, к этому времени тучи на политическом горизонте вообще стали рассеиваться, и вскоре правительство Ллойд Джорджа изъявило согласие войти в переговоры с СССР об установлении торговых сношений. Политбюро назначило особую делегацию для поездки в Англию, во главе которой был поставлен Красин. И 25 марта эта делегация, состоявшая из значительного числа разного рода специалистов экспертов, выехала из Москвы в Финляндию, чтобы оттуда морем ехать через Швецию в Англию.
Я сдал Наркомвнешторг Шейнману и, в ожидании момента моего отъезда, продолжал жить в помещении комиссариата.
В это время в Германии разыгрался путч Каппа, что, естественно задержало мой отъезд на неопределенное время. Уезжая в Англию, Красин предложил мне занять его апартамент в "Метрополе", где я и поселился после его отъезда.
И я стал ждать у моря погоды. Капповский путч был подавлен, но политическая ситуация резко изменилась в сторону неблагоприятную для возобновления торговых сношений, и отъезд нашей делегации был отложен на неопределенное время. Со сдачей комиссариата я остался без работы, неся лишь обязанности консультанта при комиссариате путей сообщения и председателя Штатной междуведомственной комиссии при том же комиссариате. Но эти занятия отнимали у меня очень мало времени и, в сущности, я ничего не делал.
С моим уходом из Наркомвнешторга у меня оборвалась официальная связь с ним. Но бывшие сотрудники видались со мной и от них я узнал о том, как управлял ими Шейнман. Это был тяжелый {312} человек. Он решил, что я распустил комиссариат и стал его подтягивать своими мерами. Имя близкие связи с ВЧК, он стал широко пользоваться своим правом сажать в тюрьмы этого учреждения сотрудников, которыми он почему-нибудь был недоволен. Много рассказывали мне о его жестокости. Мне врезался в память один из таких эпизодов.
Он рьяно начал следить, лично следить за тем, чтобы сотрудники приходили на службу не опаздывая, и все начальники отделов должны были утром, ровно в девять часов, подавать ему листы с подписями сотрудников. И те, кто являлись хоть на пять минут позже, имели объяснение с самим Шейнманом. Он был груб со всеми подчиненными. Не обращал никакого внимания на то ужасное положение, в котором они находились, на все переживаемые ими трудности на службе, по дороге и дома. Он требовал и никаких резонов не принимал во внимание. Кричал и угрожал.
— Я вам не Соломон, — кричал он на дрожащих «буржуев», упрямо, как бык, уставясь глазами в землю, — миндальничать не стану. Не желаю слушать всяких жалких разговоров о ваших бедствиях... У меня живо попадете в ВЧК.
И это были не пустые угрозы. Так, одна сотрудница, имевшая на своих руках параличную мать, сама заболела. Жила она, как и все «буржуи», т. е., в холоде, голоде и темноте. По закону, заболевшие служащие должны были, в случае неявки по болезни, немедленно же официально уведомить начальство с препровождением медицинского свидетельства. Разумеется, это требование для того времени было неисполнимо: врачей не было, достать доктора было почти невозможно, уведомить начальство о болезни было не через кого... И вот эта {313} сотрудница, проболев три дня, явилась на службу, еще не поправившись, слабая и от болезни и от хронического голода... И у Шейнмана хватило жестокости, несмотря на робкое заступничество начальника отдела (должность равносильная прежнему директору департамента), посадить ее на две недели под арест...
Но была одна высококомическая черта в политике Шейнмана. Он преследовал евреев. Так, когда одному начальнику отдела (тоже еврею) понадобился какой то новый служащий, и он представил Шейнману своего кандидата, тот не хотел его утвердить, заподозрив, что он еврей.
— Я не желаю, — сказал он, по обыкновенно, мрачно глядя в землю, — чтобы у меня на службе были евреи...
И это говорил Шейнман, которого звали Илья Ааронович... начальнику отдела, которого звали Натан Исаакович...
И все трепетали перед ним и прозвали его "Угрюм Бурчуев"... И сотрудники, наиболее дельные, торопились уйти со службы Наркомвнешторга, переходя в другие ведомства.
Между тем я сидел без дела. Вопрос о поездке в Германию все затягивался. Я постоянно справлялся у Крестинского, секретаря ЦК партии и Политбюро. Он мне отвечал, что они все ждут приглашения от германского правительства, напоминали ему, но ответа нет... Скажу кратко, что так этот вопрос и заморозился окончательно. Изнывая без дела, я стал приставать, с ножом к горлу, к Крестинскому, требуя себе работы, часто звоня ему по телефону и всегда получая от него ответ, что он "старается", но ничего пока предложить мне не может. Мне это наконец, надоело, и я однажды {314} явился к нему лично и тут впервые познакомился с этим сановником.
— Я пришел с требованием работы, — сказал я ему.
— Да, я все время думаю об этом, — отвечал он, — но дело это не такое простое... Ведь вы же не кто-нибудь, а бывший "зам", не может же Политбюро ткнуть вас куда попало...
— Послушайте, Николай Николаевич, — возразил я, — по моему, вы играете со мною в какую то дипломатическую игру... Я знаю, что Политбюро дало назначение таким то и таким то товарищам, несмотря на то, что это было, так сказать, деградацией...
— Да, но ведь указанные вами товарищи и были назначены на низшие должности в виде наказания за разные проступки... Вы же ничем не запятнали себя, и при таких условиях назначать вас на новую должность с понижением было бы несправедливо...
— Право, бросьте вы эту дипломатию, Николай Николаевич, — сказал я. — Я уже несколько раз по телефону говорил вам, что не гонюсь за высокими постами. Назначьте меня хоть делопроизводителем, мне все равно, на всяком месте я буду работать...
— Ну, это вы шутите, Георгий Александрович, — засмеялся он, словно я сказал какую то остроту. — Ведь вот что выдумали, из "замов" да в делопроизводители... нет, это невозможно... Имейте терпение, может быть, еще и в Германию вам ехать придется... Ведь окончательного ответа от германского правительства еще нет... Я во всяком случае "пораскумекаю", куда бы вас назначить...
— Чего там "пораскумекаю"... Вот уже два месяца я сижу без дела. — Ведь это же не продуктивно. Все {315} кричат, что людей мало, некому работать, а вы меня держите без работы...
Снова уверения. И я ушел ни с чем. Тут я вспомнил, что Лежава в это время был председателем "Центросоюза", и я зашел к нему предложить ему свои услуги. Он принял меня, хотя и любезно, но с нескрываемым превосходством, и ответил, что у него нет надлежащей должности для меня.
— Ведь знаете, Георгий Александрович, трудно найти вам приличный пост... Вы ведь бывший "зам"... нужно что-нибудь соответствующее....
Кроме того, он сообщил мне с видом очень таинственным и важным, что он сам в данную минуту на отлете, так как у него, дескать, идут переговоры с Лениным о новом назначении...
И действительно, вскоре Шейнман был уволен с поста Замнаркомвнешторга и на его место был назначен Лежава, который не уставая дежурил в приемной Ильича.
И таким образом, он вступил на широкую дорогу бюрократической советской иерархии. И, конечно, он стал до неприличия важен, — речь его теперь была полна значительности, все чаще и чаще, кстати и некстати, он упоминал как бы небрежно: "...да, так мы решили с Ильичем", или: «вот так именно я и посоветовал сделать Ленину..."
Смещенный с своего поста, Шейнман остался без нового назначения и очутился в положении такого же безработного, как и я... И время тянулось. И, хотя, кроме занятий в Наркомпути, не отнимавших у меня много времени, я, собственно, ничего не делал, я был занят по горло.
Ибо, переехав вновь в "Метрополь", я вновь попал в цепкие лапы моего "друга", товарища Зленченко, и вновь надо мной засияла сакраментальная фраза {316} "на основании партийной дисциплины"... Начались снова председательствования в товарищеском суде, в заседаниях ячейки, в общих собраниях всех живущих в "Метрополе", — все то, что называется "партийной работой".
Так дело и тянулось до начала июля, когда из Англии спешно приехал Красин для выяснения некоторых вопросов в связи с переговорами о заключении торгового договора с Англией. Ллойд Джордж был настолько заинтересован в этой поездке Красина, с которым у него установились очень хорошие личные отношения, что для ускорения проезда, предоставил в его распоряжение быстроходный английский миноносец, на котором Красин доехал до Ревеля.
Я не буду касаться вопроса об англо-советских переговорах: о них в свое время много писалось в печати. Наши верхи были недовольны деятельностью Красина в Англии, и недовольство это сводилось, главным образом, к тому, что он, находясь в Англии, мало обращал внимания на пропаганду идей мировой революции, что у него не было установлено почти никаких связей в этом направлении.
Апостолы всемирного натравливания класса на класс, играя на этой струнке, старались возбудить против него самого Ленина, не считаясь с тем, что к этому времени в речах Ленина и во всех его выступлениях уже начали пробиваться те идеи, которые и легли в его политику в конце его жизни, первым этапом каковой и явилась система умиротворения, сокращенно называемая "нэпом" (т. е., "новая экономическая политика"). В сферах стали поговаривать о необходимости отозвания Красина, что он-де не на месте... Ленин боролся с этим течением и настаивал на необходимости оставить Красина на его посту. Но разные {317} "дии минорес" ( ldn-knigi, „dii minores“ - лат. - буквально младшие боги; люди, занимающие второстепенное общественное положение.) вели свою кампанию весьма энергично. И в конце концов, хотя Красин и остался в делегации, он был смещен с поста председателя ее, а на его место был назначен не кто иной, как печальной и позорной известности Каменев.
Не могу не упомянуть, что Красин был глубоко уязвлен этими махинациями и, возвратившись от Ленина, где он узнал о замене его Каменевым, он возмущенно сообщил мне об этом. Сперва он заявил Ленину, что при таких условиях просит освободить его от переговоров.
Но Ленин стал уговаривать его и, если не ошибаюсь, Политбюро, в виду решительного отказа Красина, категорически потребовало, чтобы он подчинился этому нелепому решению — торжествовала "партийная дисциплина", третирующая членов партии, как безвольных и бесправных рабов и нагло издевающаяся над элементарным чувством человеческого достоинства...
Красин должен был подчиниться. И Каменев поехал в Англию. Как известно — скажу здесь же кстати — он оказался настолько на высоте надежд и чаяний своих сторонников, развил в Англии столь энергичную и планомерную политику ставки вовлечения английского пролетариата в мировую революцию, что уже через два месяца, по требованию Ллойд Джорджа, должен был экстренно уехать из пределов Англии.
Несмотря на свое назначение в Англию, Красин остался народным комиссаром внешней торговли. Хотя его пребывание в Ревеле было очень кратковременно, он не мог не заметить того скандального безобразия, каковыми были и деятельность, и личное поведение Гуковского. А потому чуть не первыми его словами, обращенными ко мне, были предложение и просьба, чтобы я {318} согласился заместить Гуковского в Ревел. И тут же он рассказал мне кое-что о Гуковском, о чем я уже выше упомянул. Но к этому он прибавил одну пикантную подробность, о которой я не знал:
— Знаешь ли, я видал, брат, виды, — сказал он, — но там в Ревеле y нас такая марка, что форменным образом не отплюешься... Гуковский, дорвавшись до высокого поста и, между нами говоря, подкупая все верхи (кроме неподкупных Ленина и Рыкова, к которым он благоразумно и не суется) своими подарками, чувствуя себя неуязвимым, разошелся во всю... И все там дерут, от последней машинистки до самого Гуковского... Мне и в Лондоне все в глаза тычут Гуковским, не исключая и самого Ллойд Джорджа... Заграничная пресса полна описаний его похождений... Словом, это скандал, перманентный скандал... А здесь я уже узнал, как ЦК, — а уж там все его друзья - приятели, потому что всем "дадено" — сам сконфузился, начал одергивать его... Ничего не помогает — Гуковский закусил удила... Убедившись в том, что Гуковскому наплевать на все замечания, на все дружеские "осаже", что с ним дружескими увещаниями ничего не сделаешь, ЦК прибег к педагогическим мерам: решил обратить его на путь истины и вернуть в лоно семейной жизни... Разыскали его жену и детей — у него их, кажется, трое-четверо — и, не предупредив его, командировали их всех к нему в Ревель... Ты представь себе наших "цекистов" в роли поборников семейного очага!... Ха-ха-ха... И вот в один прекрасный день весь этот "семейный очаг" и пожаловал к Гуковскому... Но, знаешь ли, и это не помогло, и все осталось по старому — и кутежи, и оргии, и певички...
— Но говоря серьезно, — продолжал Красин {319} после минутного молчания, — дальше терпеть это безобразие, этот скандал невозможно... Увидясь с Гуковским в Ревеле и перелистав несколько его контрактов, я сразу ему сказал, что считаю его не на месте, как представителя Наркомвнешторга и должен буду поднять вопрос о его замещении... Но он до того обнаглел, что нисколько не смутившись, ответил мне: "Ну, это мы еще посмотрим, как вы меня уволите?... Я без борьбы не сдамся... Меня весь ЦК знает... Смотрите, Леонид Борисович, не сломайте сами на мне зубы, хе-хе-хе!" И он так противно, как Иудушка Головлев, засмеялся своим дрянным смешком... Одним словом, — закончил Красин, — я решил просить тебя заменить его...
Мысль о большой работе и притом работе самостоятельной, конечно, была для меня очень соблазнительна.. Но тут было много "но". Я не сомневался, что в виду таких тесных и широко оплачиваемых подарками (на счет казны, конечно) связей Гуковского с высшими, лицами наших центральных органов (т. е., ЦК партии и с состоящими при нем и обладающим беспредельными диктаторскими полномочиями Политбюро, руководящим, в сущности, всеми управлениями страны и Совнаркомом, в который входят те же лица), мое назначение встретит самое враждебное отношение и Политбюро просто не утвердит меня. А если и утвердит, то начнутся вслед затем новые интриги, подсиживания и тысячи всевозможных трений и радостей, на которые так умеют пускаться наши "честные революционеры товарищи"... Высказав подробно все эти соображения Красину, я в заключение сказал ему:
— Вот по всему этому я и думаю, что я не кандидат, и что и для тебя, и для дела будет лучше остановиться на другом, более эластичном кандидате...
{320} — То есть, на ком именно? — спросил он, перебивая меня.
— Ну, милый мой, мало ли таких людей, — ответил я. — Да вот, недалеко ходить, Лежава — чем же не кандидат?
— Ну, нет, брат, этот номер не пройдет, — быстро возразил Красин. — Довольно с меня уже того, что мне навязали его, этого "или бац в морду", или "ручку пожалуйте" в мои "замы"... Чтобы я его пустил плавать в вольной воде — вот уж, ах оставьте!... Ни за что... Kроме подхалимства и, как следствие его, его высокой наглости, ведь в нем ничего нет — это весь его актив... А по уму это подлинный «без пяти минут государственный человек»...
Словом, Красин энергично наседал на меня, настаивая на своем, он уверял меня, что нажегшись на Гуковском, Политбюро, понимая, что оно и так уже село в калошу, проведя его кандидатуру, само чувствует себя достаточно сконфуженным и не будет возражать против меня...
Таким образом, хотя и с тяжелым сердцем и зная, что Ревель будет для меня "осиным гнездом" (о, как я был прав!), я согласился. И Красин тотчас же при мне вызвал по телефону Чичерина. Того не было в комиссариате, подошел Карахан:
— А, это вы, Лев Михайлович? — переспросил Красин. — А разве Георгия Васильевича нет?... Ну, так вот, я хотел ему сказать, что я не могу больше терпеть Гуковского в Ревеле и должен его заменить... Что?.. Ну, само собою, я и сам знаю, что это мое право... Но только я вас предупреждаю, что я сегодня же заявлю в Политбюро...
{321} Карахан перебил его вопросом, сущность которого была ясна из ответа Красина:
— Нет, благодарю вас, у меня уже есть свой кандидат... Это Георгий Александрович Соломон... Да, да, так и передайте Георгию Васильевичу... До свидания...
К моему великому удивлению, в тот же вечер Красин позвонил мне по телефону, часов около 12-ти ночи, и сообщил, что Политбюро утвердило мою кандидатуру без всяких возражений.
— Как? — воскликнул я от удивления. — Без всяких возражений?...
— Без всяких, — ответил он. — Вот слушай, я читаю тебе его резолюцию: "По представлению товарища Красина, освободить товарища Гуковского от должности полномочного представителя Наркомвнешторга в Эстонии и назначить взамен его на эту должность товарища Соломона..."
ХХIII
Итак я согласился принять это назначение. Но, зная, что все дела Гуковского запутаны, что мне там придется иметь дело с его штатом, который, по рассказам всех, и Красина в том числе, представлял собою не что иное, как хорошо спаянную шайку, члены которой связаны круговой порукой, я имел полное основание считать, как я это и сказал Красину, что попаду в Ревеле в настоящее осиное гнездо. Поэтому я оговорил мое согласие одним существенно важным условием: что я приму дела от Гуковского лишь после ревизии, которую произведут в его делах, а главное, в отчетности, ревизоры Рабоче-крестьянской инспекции. Красин вполне согласился со мной и официально, как народный комиссар Внешней торговли, написал {322} соответствующее требование в это учреждение.
Народным комиссаром Рабоче-крестьянской инспекции был Сталин, который, как я упоминал, состоя при Троцком в качестве политкомиссара и заставляя его «быть храбрым», не интересовался РКИ-ей, и в ней орудовал член коллегии Аванесов, состоявший одновременно членом коллегии ВЧК-ии. Как я говорил выше, Гуковский одно время тоже был членом коллегии РКИ-ии. Он был близок с Аванесовым. Был он близок и даже дружен также и со Сталиным, которого называл "Коба" (Яков). Не зная лично Сталина и имея о нем представление лишь по отзывам людей, заслуживающих доверия, как о человеке, лично честном и не корыстолюбивом, я не имел основания бояться, что он способен будет покрывать Гуковского, что он впоследствии доказал и о чем я и упомяну...
Аванесов исполнил мое и Красина требование и назначил ревизором молодого рабочего ("от станка") Никитина, сотрудника РКИ, который и явился ко мне. Я сам в молодости прослужил около семи лет в государственном контроле и потому имел некоторое представление о требованиях, предъявляемых ревизорам. Несколько вопросов, поставленных мною Никитину, и его совершенно невежественные ответы, сразу же показали мне, что парень этот не имеет ни малейшего представления о деле и технике ревизии. Мне было очевидно, что искушенный опытом, знающий все жульнические трюки Гуковский или купит этого юношу, или же вотрет ему так ловко очки в глаза, что ревизия, как таковая, не достигнет цели. Но, конечно, я не мог прямо высказать Аванесову свое мнение и, чтобы не задеть его лично, говоря с ним по телефону, указывал на молодость ревизора, на его неопытность для столь ответственного и {323} сложного дела, как ревизия ревельского представительства. Он уверял меня, что ручается за Никитина и в заключение, в виду моих упорных настояний и требований предоставить производство ревизии лицу более компетентному, сказал, что выдаст мандат также и Павлу Павловичу Ногину, которого я решил взять с собой в качестве главного бухгалтера.
Как и следовало ожидать, мое назначение вызвало в сферах, среди благоприятелей Гуковского, настоящий переполох. Началась оживленная переписка между Гуковским и его влиятельными друзьями, с которой, как увидит читатель, сам же Гуковский меня цинично и познакомил по моем приезде в Ревель.
Между тем, я усиленно готовился к поездке, набирая необходимый штат и знакомясь с делами Гуковского по переписке с ним и копиям его договоров с разного рода поставщиками.
Bсе эти данные находились в комиссариате внешней торговли, где царил уже окончательно обнаглевший Лежава, этот, по меткому выражению Красина, «без пяти минут государственный человек". Надо отдать ему справедливость: виляя и направо и налево, вечно опасаясь и сомневаясь, к какому берегу лучше пристать, он в свою очередь старался, чем мог и как умел, осложнить мою задачу. Он ставил мне препятствия при наборе штата, делая глупые отводы тех или иных кандидатов, он неохотно давал мне переписку с Гуковским для ознакомления... Ему вполне соответствовал и мой старый "приятель" В. А. Степанов ("...расстрелять-с"), который в это время замещал уехавшего в служебную командировку С. Г. Горчакова на посту управляющего делами комиссариата. Имел ли Степанов определенные инструкции или действовал по собственному разуму, но только в ответ на каждое {324} почти мое требование дать мне какую либо переписку по тому или иному вопросу, неизменно обращался к Лежаве за разрешением...
Набор штата был нелегким делом. При известии о моем назначении, ко мне устремилась масса людей, жаждущих уехать из России, желающих хоть немного вздохнуть от социалистического рая и просто хоть подкормиться. Приходилось много отказывать. Кроме того, необходимо отметить, что все мои кандидаты должны были пройти через фильтр Особого отдела ВЧК, который и не одобрил некоторых из моих кандидатов. Да и Лежава, хотя я и не особенно считался с ним, и частенько осаживал его без церемонии, тоже досаждал мне своими отводами. Некоторые из советских сановников в свою очередь старались навязать мне своих кандидатов и, отказывая им, я наживал новых врагов...
Но, наконец, все более или менее урегулировалось. Красин смещенный "из попов в диаконы" (Из председателей в заместители председателя делегации. — Автор.) уехал в Лондон 27 июля, пообещав мне по дороге повидаться с Гуковским и постараться урезонить его и смягчить горечь его смещения...
Мои сборы еще не были закончены. Чичерин тормозил, сколько мог, мой отъезд, задерживая выдачу мне дипломатического паспорта, государственной доверенности, всеми надлежащими лицами, кроме него, уже подписанной, паспортов моим сотрудникам, все наводя еще какие то дополнительные справки... Лежава, еще более обнаглевший и поднявший нос со времени деградации Красина, с своей стороны старался угодить Чичерину и другим друзьям Гуковского и тоже по мере сил и возможности делал все, чтобы "подсыпать перчику" {325} в мое существование... Тем не менее, я назначил свой отъезд на 29 июля. Все мои приготовления были закончены. Комиссариат путей сообщения предоставил мне с моими служащими отдельный вагон 1-го класса (из серии вагонов бывшего "Международного О-ва спальных вагонов"). Багаж наш был уложен в вагон, и в день отъезда я зашел проститься с Чичериным и Крестинским. Оба эти сановника приняли меня более, чем сдержанно, и оба же, точно сговорившись, усердно просили меня быть "мягким" с Гуковским, "не ставить всякое лыко в строку" (Крестинский), "понять и войти в его тяжелое положение" (Чичерин). Чувствовалось, что Гуковский свой человек для них, друг и приятель...
Наконец, поздно вечером я выехал из Москвы. После утомительных последних дней пребывания в Москве, проведенных в спешных и хлопотных приготовлениях к пути, причем все рвали меня на части, я с радостью остался один в своем купэ...
На другой день мы были в Петербурге, где я должен был остаться до утра следующего дня, так как у меня были кое-какие дела и так как, не знаю уж, почему, в Петербурге же я должен был получить из тамошнего отделения наркомпрода провизию для себя и для моего штата на дорогу. За этой провизией мне пришлось лично ехать в "Acторию", где находился заведующий складом. Моему сотруднику, назначенному мною «комендантом» вагона, он ставил разные препятствия и тот несколько раз зря ездил к нему. Мне тоже пришлось прождать этого "сановника" с четверть часа. Вышел он ко мне — это был молодой человек — полураздетый и, поздоровавшись со мной, сказал:
— Простите, товарищ, что заставил вас немного подождать... Но, — добавил он со сладкой {326} улыбкой, — не мог раньше... пхе, скажу вам правду... Вы думаете, что я был занят? Так я вам скажу, что вовсе нет... или, если хотите, я был занят... А чем я был занят?.. Так я вам это тоже скажу, — продолжал он, взяв скверненький тон интимной конфиденции, — ко мне пришла "девочка"... Ну, знаете, это не "девочка", а прямо "цимес". Ой, какая!.. Ну, вот я и был занят с ней... "гонял любовь"...
Я прервал эти откровенные излияния и потребовал скорее выдать мне провизию... Я привел этот разговор лишь, как картинку нравов...
Поздно вечером, закончив мои дела, я возвратился в свой вагон, лег спать, а утром в девять часов мы выехали в Ревель...
Я рад был уединиться в своем купэ. Мои сотрудники, которым я сказал, что устал и прошу меня не тревожить, не мешали мне. И я предался моим мыслям, моим воспоминаниям о недавно пережитом.
Перебирая все испытанное мною, начиная от Берлина и кончая последним днем моего пребывания в Москве, я чувствовал, как закипает во мне желчь и горечь от сознания, что я потерпел крах, полнейший крах во всех моих планах, чаяниях, иллюзиях, с которыми я пошел на службу советов. Я убедился, что мои или, скажу правильнее, наши с Красиным оценки людей, стоящих у власти, были не в меру оптимистичны. А ведь они то и творили жизнь "свободных" российских граждан, они то все вместе и каждый в отдельности, вместо идейно - государственной работы, основанной на старых, всосавшихся еще с юных лет в нашу кровь и плоть (говорю о себе и о Красине, с которым, понятно, мы часто во время пребывания в Москве беседовали на эти печальные темы) началах служения России, русской {327} демократии и вообще демократии, служения во имя свободы и счастья человека, не щадя себя, — вели неуклонную работу по угнетению человека.
Высокой идее освобождения человека, идее, лежавшей в основе всего российского революционного движения, независимо от партийной разновидности и эпохи, они противупоставили, в общем и на практике, осуществление лишь узких эгоистически-групповых стремлений. Мы, в юности еще впитав в себя учение Маркса и стоя на почве классовой борьбы, ставили ближайшим, чисто этапным идеалом ее, "освобождение рабочего класса", каковое должно принести "свободу, равенство и братство" всему человечеству, и мы верили, что в истинном осуществлении этих великих гуманитарных начал растают и исчезнуть рознь, вражда, всякого рода групповые или классовые перегородки, классовый антагонизм... исчезнут войны... Верили...
Но все, что я видел и испытал за время моей службы в Германии и Москве, все это ясно показывало, что господа положения, все вообще и каждый в отдельности, стремились лишь к осуществлению узеньких идеальцев своего собственного маленького "я", не останавливаясь ни перед чем. И, похерив, как ненужную роскошь всякую мораль или, вернее, заменив ее первобытной, оголенной от всего гуманитарного, моралью, которую наивно исповедует ботакуд: «хорошо, когда я украду, и плохо, когда у меня украдут», — наши деятели не могли не стать на почву мелкой зависти, ревнивой боязни, что другой, а не он, урвет лучший кусок. А отсюда один шаг до интриг, кляуз, группирования в шайки бандитов, взаимного подсиживания, взаимной великой провокации и коллективного грабежа, — всего того, что мы видим теперь в советской жизни нашего {328} отечества... Отсюда и великое человеконенавистничество, попирание свободы личности... тюрьмы... произвол... казни...
Я вспоминал. В моем представлении вставали эти одиозные образы: воровских, эйдуков, лежав, гуковских, литвиновых, караханов, чичериных... И я работаю с ними!.. Какой ужас!.. Конечно, среди моих товарищей были люди и иного склада, как Красин, Рыков... Но их была горсточка и все они были в загоне и тонули в общей массе этих "деятелей", наглых и сильных, и своею численностью, и своей наглостью...
Мне становилось душно в моем купэ... Одиночество угнетало... Я выходил в коридор вагона, чтобы быть с людьми... Говорил с моими сотрудниками... Снова входил в свое купэ... И снова думы и воспоминания одолевали меня...
Я вспомнил, что еду сменить Гуковского... Но я уже заранее знал, что в Ревеле меня ждут не розы. Я знал, что Гуковский без боя не сдастся. И он будет не один, с ним будут и Чичерин, и Крестинский, и Литвинов, и Лежава... А я буду один... Зачем же я еду? Для чего?.. Моя мысль, мысль человека, травимого и почти затравленного, искала выхода. Может быть, я не прав в отношении всех этих воровских, литвиновых и К°....
Я вспоминал общее положение. Идет война с Польшей, продолжается гражданская война. Несмотря на заключенный с некоторыми государствами мир, несмотря на ведущиеся переговоры с Англией, все иностранные государства относятся к советской России с нескрываемым одиумом... В этих условиях нельзя-де требовать, чтобы советское правительство могло стать на путь творческой работы, на путь умиротворения страны...
Все верилось, а главное, хотелось и нужно было верить и надеяться, что окончится лихолетье, окончатся {329} войны, и внешние, и гражданская, правительство войдет в жизнь мировых государств, будет втянуто в нее, само увидит, что пора сказать революционному напряжению "осади назад", исчезнуть взаимное недоверие классов, исчезнут, прекратятся расстрелы, казни, тюрьмы опустеют, исчезнет мучительство... И начнется новая жизнь, творческая жизнь, для которой нужны силы и люди и свобода. А те люди — все эти воровские и эйдуки, пригодные лишь для разрушения, а не созидательной работы, — будут выброшены за борт ее, и мы — те, которые умеют и хотят вести творческую работу — Красин, Рыков, я и другие, а они найдутся, сама жизнь вызовет их — воспрянем в дружной работе по умиротворению России, по уравнению всех ее граждан...
И снова, подогреваемый этими надеждами и рассуждениями, я приходил к решению, что не могу уйти, должен продолжать работать до того, казалось уже, близкого момента, когда смягчатся нравы, начнет исчезать озлобление, нарочито подогреваемая рознь классов, когда российская демократия потребует, сумет потребовать, властно и сильно потребовать, чтобы началась творческая работа, чтобы ей дали место в ней!.. Хотелось верить, нужно было верить!..
И я гнал сомнения и приходил к заключению, что должен служить, должен работать и бороться и нести свой такой тяжелый крест общения с гуковскими, воровскими, литвиновыми и иже с ними...
---------------------------------------------------------------------------
А поезд, мирно постукивая на стыках рельс, уносил меня с моими думами и надеждами все дальше и дальше от «берегов отчизны милой»... Я был далек от мысли, что уезжаю из России навсегда...
Но вот и граница — Ямбург... Мои сотрудники {330} трусят — как то пройдет проверка паспортов, не вернут ли кого-нибудь из них обратно? Задают мне тревожные вопросы. Я их успокаиваю. Входят чекисты. Я передаю им паспорта всех моих сотрудников. Проверка кончена. Bсе облегченно вздыхают, и мы переезжаем границу, обозначенную колючей проволокой. Едем дальше. Вот и Нарва.
Здесь меня встречает И. Н. Маковецкий, теперь уже покойный, который находился здесь в командировке от Гуковского для наблюдения за грузами, шедшими в Россию из Нарвы. Я его немного знал, так как он приезжал ко мне из Петербурга просить места. Зная, что едут люди голодные, он заранее распорядился в станционном буфете, и нас ждет обед. Мои сотрудники, совершенно ожившие после переезда границы и ободренные видом чисто и аппетитно накрытых в буфете столов, радостно усаживаются за еду. И они едят... едят много и долго — все так вкусно, все такое настоящее и всего вдоволь... Они едят, сказал бы я, с упоением и даже с обжорством — они ведь давно не ли как следует...
А мне не до еды, меня не соблазняют вкусные яства, мне не до них. Я весь ушел в себя. Я весело и любезно улыбаюсь моим радостно настроенным под влиянием хорошей пищи сотрудникам, отвечаю им бодро и оживленно, и под покровом своих ответов и улыбок скрываю от посторонних взглядов мое святая святых — мои тяжелые думы, мои разочарования, мои тревожные, опасливые надежды, мои сомнения, мои предчувствия...
После обеда Маковецкий просит позволения поговорить со мной. Он делает мне подробный доклад, откровенно говоря о порядках и безобразиях, царящих {331} в Ревеле. Он радуется, что я приехал, что возьму "твердой рукой" власть... Он плохо знает... нет, он совсем не знает, что я весь опутан сетью гнилых интриг, и что, хотя я буду вести твердой рукой взятое на себя дело... но чего мне это будет стоить!.. Я ободряю его: "да, говорю я ему, конечно... я им не дам поблажки"... Говорю, а черные кошки скребут и гложут мою душу...
Но поезд отходит. Я приветливо и с ободряющими словами прощаюсь с Маковецким... И я рад поскорее вновь остаться наедине с самим собою, рад, что в уединении моего купэ могу не улыбаться, не смяться, что могу по меткому выражению Кнута Гамсуна "иметь свое собственное лицо"... Мои сотрудники после вкусного и сытного обеда поулеглись и спят...
Эту ночь мы проводим еще в вагоне. На утро в пять часов мы уже в Ревеле.
Начинается новая страница моей жизни...
Новая!.. Нет, нет, увы, это все та же захватанная грязными пальцами старая страница, полная интриг, тех же кляуз и грязи и страдания...
Страница ВЕЛИКОЙ ПОШЛОСТИ, каковою является и вся советская система, культивирующая «ветхого Адама»...
Конец второй части
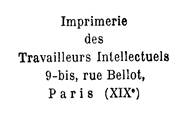
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 275; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
