Жизнетворчество, конструирование личности, поэтика поведения (вопросы теории)
Шамма Шахадат
Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков
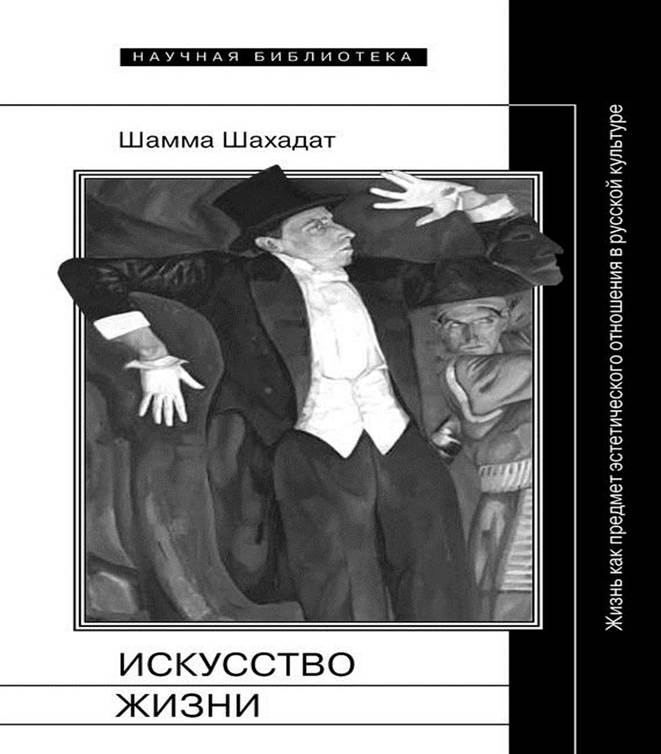
«Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков»: Новое литературное обозрение; Москва; 2017
ISBN 978‑5‑4448‑0816‑0
Аннотация
«Искусство есть искусство жить» – формула, которой Андрей Белый, enfant terrible, определил в свое время сущность искусства, – является по сути квинтэссенцией определенной поэтики поведения. История «искусства жить» в России берет начало в истязаниях смехом во времена Ивана Грозного, но теоретическое обоснование оно получило позже, в эпоху романтизма, а затем символизма. Эта книга посвящена жанрам, в которых текст и тело сливаются в единое целое: смеховым сообществам, формировавшим с помощью групповых инсценировок и приватных текстов своего рода параллельную, альтернативную действительность, противопоставляемую официальной; царствам лжи, возникавшим ex nihilo лишь за счет силы слова; литературным мистификациям, при которых между автором и текстом возникает еще один, псевдоавторский пласт; романам с ключом, в которых действительное и фикциональное переплетаются друг с другом, обретая или изобретая при этом собственную жизнь и действительность. Вслед за московской школой культурной семиотики и американской poetics of culture автор книги создает свою теорию жизнетворчества.
|
|
|
Шамма Шахадат
Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков
© Schahadat S., 2017
© Жеребин А.И., пер. с немецкого, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
* * *
Другая история
(предисловие к русскому изданию)
История не исчерпывается тем, что обычно составляет предмет посвященных ей сочинений: войнами и мирными договорами, ростом и упадком цивилизаций, революциями и контрреволюциями, успехами индустриализации и финансовыми кризисами. Помимо этого, существует и другая история – себя созидающего субъекта, которую Ю.М. Лотман и Стивен Гринблатт имели в виду, рассуждая о «поэтике поведения» и «self‑fashioning». По всей вероятности, не случайно то обстоятельство, что другая история открылась ученым из России и Северной Америки. Обе страны (Россия начиная с петровских реформ) стали социокультурными областями, параллельными Западной Европе, усвоившими себе ее ценности и вместе с тем вступившими в состязание с ней. Откуда, как не из такого рода наблюдательных пунктов, и можно было увидеть человека выходящим на историческую сцену, чтобы исполнить роль, и отчуждающую его от себя, и творящую его? Опознанный в этой своей ипостаси, он пришел на смену человеку экзистенциалистов, «заброшенному» в бытие и влачащему там существование, которое не поддается субъективированию, переупорядочиванию по чьему‑то личному плану.
|
|
|
Книга профессора Тюбингенского университета Шаммы Шахадат «Искусство жизни. Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков» придает представлению о другой истории обобщенный характер. Человек, конструирующий свой «я» – образ и выставляющий его напоказ в публичном пространстве, не просто явление какой‑то особо благоприятной для подобных экспериментов эпохи (романтической – у Ю.М. Лотмана, ренессансной – у Стивена Гринблатта). В той мере, в какой индивид претендует на то, чтобы распоряжаться большим временем, он воздвигает собственный мир – микрокосм, равнозначный, пусть и не равновеликий социокультурному макрокосму. Другая история – цепь индивидуально обособляющихся вкладов в обновительные процессы, протекающие во всечеловеческом символическом хозяйстве. Эти персональные инициативы сопутствуют истории, как она обычно понимается, на всем ее протяжении, после того как она перестает быть целиком сосредоточенной в акте мифического миротворения, не допускающего переделок, требующего не более чем воспроизведения себя в ритуале. Перейдя из баснословного и самодовлеющего прошлого в современность, история дает шанс каждому стать иным, чем он есть, хотя бы сполна этой возможностью пользовались лишь немногие. Один из самых ярких примеров ранних жизнестроительных практик – театрализованное поведение античных киников. Оно наложило печать на долгий ряд последующих попыток инсценировать жизнь, так или иначе бросающих вызов общепринятому, – от восточнохристианского юродства вплоть до новейших политических спектаклей, разыгранных участниками таких групп, как Pussy Riot и Femen.
|
|
|
В том расширительном толковании, которому Шамма Шахадат подвергает опыты по искусственному переустройству автоматизированного пребывания в мире, к ним относятся не только скандалы, эстетизация быта и всяческие формы биографических мифов, но и литературные мистификации, театральные постановки, тематизирующие самозванство и симуляции, или романы о лицах, решительно пересоздающих себя и попадающих в экстремальные условия. Под таким углом зрения homo performans как переводит жизнь в текст, так и выражает себя в текстах, результирующих это преображение.
|
|
|
Разросшаяся в объеме другая история обнаруживает способность к самостоятельному развертыванию, то есть к формированию традиций, протянувшихся поверх разных эпох. Одна из таких традиций, прослеженных Шаммой Шахадат, – устойчиво повторяющееся в русской социокультуре возникновение смеховых сообществ, будь то Всешутейший и Всепьянейший собор Петра I, «Арзамас» или содружество обэриутов‑чинарей и прочие сходные с ними явления в артистическом быте XX века. Этот карнавал, в котором элиты, (а отнюдь не бахтинские народные массы), выламываются из рутинной повседневности, возводится в «Искусстве жизни» – mutatis mutandis – к опричному братству, срежиссированному Иваном Грозным в виде кроваво‑абсурдной пародии на монашеский обиход. В случае опричнины перед нами еще одно, пусть крайне своенравное продолжение кинизма, шокирующе снижавшего, как заметил некогда Петер Слотердайк, высокоумную платоновскую философию.
Стремление другой истории быть суверенной выказывает себя и в том, что она то и дело впадает в самоотрицание, по своей диалектической сути защищающее ее от разрушения извне. Шамма Шахадат лишь намечает подход к исследованию поведенческих программ, нацеленных на деэстетизацию жизни, точнее, пожалуй, сказать, на ее эстетизацию ex negativo. Но даже только поставленная, эта проблема выглядит не менее важной, нежели изучение традиций, которые закладываются другой историей в порядке самоутверждения. Здесь можно было бы вспомнить и протест Блаженного Августина против театра и зрелищной маскировки под чужими личинами, и исихастское уединение даже от монашеского общежительства ради мистического приобщения божественной энергии, и толстовское «опрощение», и идеал «искренности», вынашивавшийся многими авторами 1940 – 1950‑х годов в преддверии постмодернистской абсолютизации симулякров, скажем, Джеромом Сэлинджером. Жизнетворчество, надеющееся избежать какой бы то ни было конвенциональности, вершащееся с установкой на аутентичность, реэстетизируется, теряет свое посягательство на доподлинность, когда оно получает отражение в литературе. Традиция русских смеховых сообществ как будто прервалась во второй половине XIX века. Но выведенная под именем «Domus concordiae» Знаменская коммуна, задуманная Василием Слепцовым в 1863 году вполне всерьез ради эмансипации женщин, превращается в лесковском романе «Некуда» в комическое предприятие, в невольный аналог коллективного шутовства, известного в прошлом.
Книга Шаммы Шахадат, изданная по‑немецки в 2004 году, становится достоянием русскоязычных читателей с более чем десятилетним опозданием, которое, однако, вовсе не умаляет ее актуальности. Без оглядки, уводящей в даль времени, было бы трудно разобраться в том, как наша современность прагматизирует и тиражирует жизнь на краю искусства и искусство на краю жизни. Усилиями политтехнологов и имиджмейкеров «поэтика поведения» делается товаром на рынке услуг, которые может купить любой, накапливающий социальный капитал, и прежде всех тот, кому недостает таланта, чтобы занять собственное место в истории. В условиях электронной коммуникации самосозидание перестало быть уделом избранных: примерить на себя «аватар» теперь не столько творческий акт, сколько сокрытие безликости, компенсация неразличимости, которая неизбежна там, где массе дается противоречащее ее природе право на индивидуальное авторство. С другой стороны, наши дни не приемлют безыскусной жизни, бывшей прежде таким же плодом персонального волеизъявления, как и изобретение «я» – образа. Чем больше масок блуждает в электронном пространстве, тем меньше ценности у «опрощения» и «искренности». «Голая жизнь» компрометируется в сочинениях Джорджо Агамбена и в лавинообразно множащихся трудах о Холокосте как следствие злокозненной и убийственной «биополитики».
Я представляю читателям книгу – не ее автора. Научные увлечения Шаммы Шахадат, занимающейся не только русистикой, но и полонистикой, интересующейся теорией перевода, историей интимности, гендерной проблематикой и многим иным, слишком разнообразны, чтобы разговор о них мог вместиться в короткое предисловие. Но если бы я принял на себя задание подробно рассказать о научном творчестве Шаммы Шахадат, я поставил бы в центр обзора постоянную у нее сосредоточенность на том, что можно назвать семантической соматикой – на выразительном человеке, на сценическом существе, вбирающем в себя Другого, дабы быть собой. Внимание Шаммы Шахадат обратилось к этому человеку уже в первой ее большой работе о театре Александра Блока[1], написанной в Констанцском университете в докторантуре у Ренаты Лахманн. Оно сказалось затем в исследованиях, посвященных киномелодраме, роли аффекта в социокультуре, этнологическому роману, застольным манерам, мотиву соблазнения в литературе и философии. «Искусство жизни» – важное звено в обозначенном ряду, но отнюдь не его подытоживание: он открыт для продолжения.
Игорь Смирнов
Введение
Во втором философическом письме (1829/1830[2]), адресованном Екатерине Дмитриевне Пановой[3], Чаадаев пишет:
Что касается вас, сударыня, то вам прежде всего нужна сфера бытия, в которой свежие мысли, случайно зароненные в ваш ум, новые потребности, порожденные этими мыслями в вашем сердце, и чувства, возникшие под их воздействием в вашей душе, нашли бы действительное применение. Вы должны создать себе собственный мир, раз тот, в котором вы живете, стал вам чуждым
(Чаадаев, 1991, 339 и далее).
Тема этого письма – воспитание нравственной личности, ибо Чаадаев убежден, что только она способна создать этически ценную культуру. Образ России, созданный Чаадаевым в первом письме, в высшей степени отрицателен; в дальнейшем это привело к тому, что Чаадаев был официально объявлен безумцем и должен был находиться под домашним арестом. Но второе письмо вносит момент конструктивный: оно содержит один из первых проектов искусства жизни, предполагающих взаимозависимость между нравственным воспитанием личности и созданием целой культуры. Поставив вопрос о том, каким образом Россия могла бы достичь уровня европейской культуры, Чаадаев начинает свой ответ с указания на значение внешности: страна, которая хочет стать европейской, должна прежде всего по‑европейски выглядеть. Но моделью, на которой Чаадаев разъясняет, каковыми должны быть эти преобразования, служит не страна, а женщина, его корреспондентка Панова: если она создаст себе новое окружение, купит новую мебель, например, то это и будет шагом к обретению этической, то есть, по мысли Чаадаева, европейской личности.
Программа Чаадаева предполагает неразрывную связь внешнего и внутреннего; именно внешность – будь то мебель, окружающая человека обстановка или его одежда – должна способствовать, по Чаадаеву, преодолению разрыва между идеалом и реальностью:
Мы живем в стране, столь бедной проявлениями идеального, что если мы не окружим себя в домашней жизни некоторой долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утратить всякую деликатность чувства, всякое понятие об изящном. Одна из самых поразительных особенностей нашей своеобразной цивилизации заключается в пренебрежении удобствами и радостями жизни
(Чаадаев, 1991, 340).
За подтверждением этих мыслей Чаадаев обращается к Платону, у которого в философских диалогах герои рассуждают в приятной обстановке.
У Чаадаева программа творческого искусства жизни лишь намечена – подлинную теоретическую разработку она получает позднее, в эпоху модернизма, в символистской концепции жизнетворчества, в авангардистской концепции жизнестроения. Именно художники‑модернисты, носители декадентского мироощущения, с одной стороны, связанные еще с реалистической моделью культуры 1860‑х годов, с другой – впитавшие влияние эстетизма, религиозной философии Владимира Соловьева и философии воли Ницше, обнаруживают особую восприимчивость к призыву творить собственную жизнь как произведение искусства.
Расцвет искусства жизни в России был подготовлен, таким образом, традицией эстетизации быта, которую поддерживали как реалисты, так и романтики; те и другие стремились к концептуализации и инсценировке жизни[4]. Тезис данной работы заключается в том, что формирование жизни как искусства представляет собой автопоэтическую стратегию, которая проявляется в различных исторических формах в зависимости от эпохи и эстетической программы художника.
Такова в общих чертах тема, развернутая в последующих главах данного исследования. Художники своей жизни, о которых пойдет речь, не только проявляют «заботу о самих себе» (например, Валерий Брюсов с его мистификациями), но и создают проекты идеального общественного устройства (например, авторы символистских романов). Обращаясь к традиции, искусство жизни актуализирует, как правило, две модели означивания и семиотизации тела – практику театра и практику ритуала. Но и театр, и ритуал выступают при этом в их переносном значении: художник своей жизни их инсценирует, как бы делает вид, что он играет спектакль или участвует в ритуальном действии. В этих инсценировках (представляющих собой инсценировки инсценировок) реализуется категория «как будто бы» – тот принцип, который формулировал с опорой на Файхингера Вольфганг Изер («Als ob» – Iser, 1993). И театр, устанавливающий дистанцию между природой и культурой, сигнификатом и сигнификантом, и ритуал, стремящийся эту дистанцию снять, – тот и другой воспроизводятся художником жизни в качестве инсценировки во второй степени.
В искусстве жить подвергается пересмотру граница между телом и текстом. Она нарушается, стирается или прочерчивается заново. В этом смысле анализ искусства жизни не укладывается в рамки литературоведения, ориентированного на изучение текста. Наряду с наукой о литературе (Kluckhohn, 1931/1966) он привлекает интерес философов (Schmid, 1998, 1998а, 1999; Tomä, 1998), культурологов (Bianchi, 1998, 1999) и исследователей поп‑культуры (Shusterman, 1994); связь с ним обнаруживают перформанс и акционизм (Bianchi, 1998, 1999; Sasse, 2003). В своей работе я исхожу не столько из задач определенной дисциплины, сколько из логики изучаемой культуры, стараясь показать, каким образом искусство жизни в России[5] подвергалось осмыслению в теоретических и литературных текстах и каким образом утверждалось оно в пространстве русской культуры. Примеры этого я нахожу в различных эпохах, от XVI века до авангардизма, однако в центре внимания находится прежде всего символизм, теоретически обосновавший принцип жизнетворчества; к нему сходятся линии предшествующего развития, и от него берет начало развитие последующее.
Книга включает три основных раздела: первый посвящен моделям, на которые опирались художники своей жизни; второй – пространствам, в которых искусство жизни реализовалось; третий – текстам, в которых его описывали.
Опорные модели
Первая теоретическая глава тематизирует отношения между категориями «жизнь» и «текст» с учетом исследований, проводившихся в рамках американского «нового историзма» (Гринблатт), а также в рамках русского формализма (Томашевский) и русской семиотики (Лотман, Гинзбург), выдвигавших проблемы литературного быта, литературной личности, поэтики культуры и поэтики бытового поведения. Предметом преимущественного интереса являются для меня те модели, на которых основывалось искусство жизни в трех формах его проявления – театральной, аутентичной и теургической. Художники, ориентированные на театральную модель, выстраивают историю своей жизни по законам спектакля и, демонстративно выставляя себя напоказ, культивируют дистанцию между собственным Я и выбранной ролью. Модели, аутентичная и теургическая, этому принципиально противопоставлены: первая, хотя и предполагает, подобно театральной модели, ролевую игру, направлена не на то, чтобы подчеркнуть разрыв между Я и ролью, а на то, чтобы его снять или замаскировать, отменить или сделать незаметным. Аутентичный художник своей жизни верит в подлинность созданного им Я , в свою способность его в себе отыскать или воспитать. Такие попытки характерны для поэтики сентиментализма, но также реализма и соцреализма, преследовавших цель создания чувствительного или нового человека, способного преодолеть дуализм человеческой природы. Что же касается теургического искусства жизни, то оно берет за образец alter ego театра, то есть ориентируется на ритуал. Ритуальное действо призвано здесь к тому, чтобы приблизить художника к Богу и восстановить изначальную гармонию бытия. Если художники театрального, как и аутентичного, типа выступают в роли узурпаторов божественного могущества и объявляют творцами самих себя, то задача художника теургического – слияние с Богом, обретение единства.
Глава вторая посвящена конкретным опытам воплощения этих моделей на примере русского театра. В эпоху модерна главной моделью для искусства жизни становится именно театр; он образует тот хронотоп, в котором искусство жизни получает свое теоретическое и практическое воплощение в форме манифестов, драматических произведений и их сценических постановок. Так же и ритуал, который в первой главе рассматривается как особая модель наряду с моделью театральной и антитеатральной, входит тем не менее в театральную парадигму эпохи модерна в форме дионисийской драмы, то есть «инсценированного ритуала».
Театральность и искусство жизни сопрягаются в этой главе по двум направлениям. Во‑первых, выявляется значение театра в качестве модели, по которой выстраиваются проекты жизнетворчества. Связующим звеном между театром и жизнью выступает в этом случае понятие трансформации. Во‑вторых, рассматривается ряд конкретных примеров, образующих традицию взаимодействия театра и творчества жизни. Так, в «соборном действе» (коллективной мистерии) Вячеслава Иванова происходит возрождение ритуала; А. Блок создает теорию драмы, в которой выдвигает зрителя в центр события преображения, означающего путь к синтезу, объединяющему сцену и жизнь, интеллигенцию и народ; театральные эксперименты футуристов направлены на трансформацию в равной степени как жизни, так и искусства; Николай Евреинов мечтает о театрализации не только театра, но и всей жизни; театр эпохи революции стремится реализовать принцип жизнетворчества/жизнестроительства в форме театральных кружков, массовых театрализованных представлений и субботников, причем утверждает иллюзию, будто бы новая жизнь и новый человек, которые еще должны быть созданы, уже существуют реально.
Жизнетворческие пространства
Искусство жизни располагается как бы на границе между текстом как знаковой системой и телом. С этим связано важное жанровое различие: одни жанры выдвигают на первый план тело, его презентацию в пространствах частной или публичной жизни, тогда как другие предполагают фиксацию тела и жеста в текстуальной форме. В пространстве жизнетворчества тело в буквальном смысле слова активизируется. Если в первом случае текст дополняет мир, то во втором он его обусловливает, причем различие между тем и другим имеет разные степени и допускает исключения (как в случае Алексея Ремизова с его текстуальными, существующими лишь на бумаге смеховыми сообществами). В главе рассматриваются два примера жизнетворческих пространств: «смеховые сообщества», которые нуждаются в текстах лишь в качестве поддержки телесного акта, и «царства лжи», которые создаются словом, держатся силой поэтического внушения. К числу других жанровых форм относятся, например, инсценированные диалоги, воспроизводящие платоническую традицию, или литературные салоны, где активность тела, реализующего предписанные модели поведения (любовь, дружба, образованность), связана с особым, отграниченным пространством.
История русских смеховых сообществ прослеживается с эпохи Ивана Грозного, с XVI века и до начала ХХ века. Под смеховым сообществом я подразумеваю группу лиц, созидающих определенную альтернативную эстетическую реальность и стремящихся воплотить ее в текстах и поступках. Статус смеховой культуры определяется ее противоречием или контрастом по отношению к культуре серьезной и официальной. Творчество альтернативного мира превращает смеющихся в художников, а смех – в эстетически значимый акт. Смеховое сообщество художников образует утопическое пространство, отделенное границей от реального мира и существующее по собственным законам – по законам смеха.
До настоящего времени «смеховые сообщества», регулярно возникавшие в России начиная уже с XVI века, еще не рассматривались в научно‑исследовательской литературе как константное явление исторического развития. Между тем история «смеховых сообществ» включает в себя столь различные явления, как опричнина эпохи Ивана Грозного, шутовство при дворе Петра Великого, литературное общество «Арзамас», организованное в начале XIX века, а в литературной жизни ХХ века – «текстуализированные» смеховые сообщества Алексея Ремизова, его «обезьяний орден» и авангардистская группа «Чинари».
Человек, который творит воображаемые миры, создает их либо из ничего, либо путем трансформации истинного мира в мир ложный. Подобно смеховым сообществам, «царства лжи» также представляют собой эстетические пространства, созидаемые в художественном процессе жизнетворчества. Вся эта глава развертывает тезис о том, что как литературные тексты, так и метатексты русской культуры одухотворены верой в магическую власть слова, способного, по древнему учению Кратила, творить новую действительность.
Жизнетворческие тексты
Если в главе о жизнетворческих пространствах «искусство жить» рассматривается постольку, поскольку оно обнаруживает себя в «реальном мире», то глава третья посвящена жизнетворческим текстам, существующим преимущественно в словесной форме, таким как литературные мистификации или символистский роман с ключом. Принцип трансформации и непрерывного перевода с языка слов на язык жизни и в этом случае играет определяющую роль, но медиальным средством передачи выступает здесь словесный текст, связь между искусством и жизнью устанавливается посредством слова. Таковы рассматриваемые в данной главе литературные мистификации, а также символистский роман, который во многих случаях имеет биографический ключ, представляя собой roman à clef.
Жанр литературной мистификации находится на одном поле с такими явлениями, как имитация, цитата, аллюзия, стилизация, подделка, псевдонимы. Особенность мистификации в том, что в пространство между текстом и автором вводится дополнительный уровень, на котором утверждает себя другой автор, «другое» автора. Благодаря этому смешиваются фиктивное и реальное, размывается разделяющая их граница. Примером литературной мистификации служит творчество Валерия Брюсова, чье мастерство мистификатора позволяет рассматривать его как переходную фигуру, впервые воплотившую в себе образ современного художника. С Брюсова начинается радикальное обновление образа автора, его имиджа, его imago . Мистификация, авторство и власть автора при этом хаотически сплетаются: мистификация становится предпосылкой рождения автора, а авторство означает для Брюсова не столько креативность и гениальность, сколько способность к организации материала и власть над ним.
Глава «Порядок жизни» конструирует типологию символистских романов, которые представляют жанр жизнетворчества в том смысле, что моделируют и реализуют процесс преображения реальности. В зависимости от характера взаимоотношения слова и действия мы выделяем в символистском романе произведения двух типов: романы поэтического типа, в которых слово переводится в сферу жизни, практического действия или наоборот, и романы метапоэтического типа, повествующие о жизни как о произведении искусства. Последние характеризуются ориентацией на символистский master plot, содержащий такую историю, в которой герой либо обретает, либо созидает свое Я . В центре любого символистского романа стоит проблема личной свободы; речь идет о возможности или невозможности для человека выстроить план собственной жизни и его осуществить. Роман самообретения исходит из веры в оригинальное, аутентичное Я , которое в ходе жизни выявляется и обретает свои очертания; роман самосозидания – из веры в возможность свободно творить свое Я , не считаясь с вымыслом о предзаданной индивидуальности. В этом случае Я получает неограниченную власть над историей своей жизни.
Поэзия и метапоэзия, самообретение и самоизобретение – таковы параметры, определяющие символистский роман и методику его прочтения. Когда граница между фактами и фикцией, жизнью и текстом постоянно и последовательно нарушается, причем именно эти нарушения образуют тему и смысл изображаемого, возникает совершенно особая разновидность романного жанра, требующая для своего описания выхода за пределы традиционного категориального аппарата и введения новых инструментов анализа, таких, например, как понятие виртуальности.
* * *
На этой странице своей книги я хотела бы поблагодарить Ренату Лахманн и Игоря Смирнова, оказавших мне неоценимую помощь в ее создании, Алексея Жеребина, осуществившего перевод книги на русский язык, а также Елену Глёклер за содействие в редакционной подготовке текста. Кроме того, я хотела бы выразить благодарность издательству «Новое литературное обозрение» за подготовку и выпуск русскоязычного издания. И, конечно, я благодарю мою семью, которой я посвящаю эту книгу: Грету, Антона, Рольфа.
I. Художники своей жизни. Модели и образцы[6]
Теоретическое введение
Ernest: Life, then, is a failure?
Gilbert: From the artistic point of view, certainly.
Эрнест: Так что же, жизнь – это всегда неудача?
Джилберт: На взгляд художника, несомненно.
Oscar Wilde . The Critic as Artist
В диалоге Уайльда «Критик как художник» сущность искусства жизни как эстетического феномена определена с максимальной точностью: это жизнь, воспринятая художником, преображенная им в искусство. Художник своей жизни – всегда тот, кто рассматривает свою жизнь как произведение искусства, формирует свой внешний облик и выставляет себя напоказ, как манекен в витрине, кто оформляет свое жилище как театральную сцену. При этом отнюдь не обязательно, чтобы он создавал художественное произведение в собственном смысле: Оскар Уайльд, например, написал лишь несколько литературных сочинений, интересовавших его современников гораздо меньше, чем тот реальный эстетический объект, которым был он сам как живое художественное явление[7].
Размышляя в «Дневнике соблазнителя (Или – или)» над искусством жизни, Кьеркегор открывает в нем вторую реальность, «мир внешних покровов, легких и эстетически прекрасных, совершенно другого свойства, чем мир реальный» (Кьеркегор, 2011, 332). Художник – тот, кто вносит эту вторую реальность в мир первой: «Ему хотелось прожить свою жизнь как поэтическое существование ‹…›, воспроизвести пережитое в неких поэтических формах» (Там же, 11), – пишет Кьеркегор о своем герое и затем продолжает:
Поэзия была тем «большим», что он сам привносил в реальную ситуацию; затем он заново переживал это «большое», подчиняя его поэтической рефлексии. В этом и состояло вторичное наслаждение, а ведь вся его жизнь была нацелена именно на наслаждение. В первом случае он личностно наслаждался эстетическим, во втором же он эстетически наслаждался собственной личностью. Стало быть, человек этот всегда вкушал поэтическое как раз благодаря той двузначности, внутри которой проходила вся его жизнь
(Там же, 332 – 333).
В приведенном описании важна тема эвдемонизма, ибо наслаждение искусством, или самой жизнью, или, например, властью над собой и над другими существенно характеризует искусство жить уже в Античности и сохраняет свое значение во всех его последующих исторических вариантах.
Как Оскар Уайльд, реальный человек‑произведение, так и «соблазнитель», вымышленный персонаж Кьеркегора, ведут свое существование на границе между жизнью и искусством, в точке пересечения двух миров, реального и поэтического, и сами становятся от этого парадоксальными гибридами, соединяющими в себе плоть и идею, искусство и действительность.
Но один художник своей жизни отнюдь не равен другому. Хотя практика взаимопереключений жизни и текста имеет длительную историю, именно эпоха зарождения модернизма в России заслуживает особого внимания как пример повышенного и подчеркнутого интереса к феномену искусства жизни. Трудно назвать другую эпоху, когда появлялось бы такое же количество текстов, в которых этот феномен становился бы предметом теоретических рассуждений, привлекая к себе внимание под разными именами – «жизнетворчество», «жизнестроение», «театрализация жизни». Своего рода манифесты, провозглашающие требование жизни как искусства, принадлежат Андрею Белому, Николаю Евреинову и Николаю Чужаку, каждый из которых отстаивал свой особый вариант поэтики жизни. Так, Белый делал ставку на теургию, Евреинов – на театр, Чужак – на антитеатральную аутентичность[8].
Прежде чем обратиться к детальному анализу указанных метакатегорий, следует определить методологические основания подобного анализа, поскольку они уже были намечены в ряде интердисциплинарных исследований, относящихся в равной степени к области литературоведения, культурологии и социологии. Лишь затем мы предполагаем рассмотреть жанровые модели, на которые ориентировались те или иные художники жизни, конструируя текст своей биографии. Таковы, с одной стороны, ритуал как модель теургического варианта жизнетворчества и, с другой – театр и актерство как образец театрального или антитеатрального вариантов. Исследование получает тем самым своего рода археологический характер, переходя от верхнего слоя породы все дальше в глубину: с метауровня научной литературы через уровень самоописания художников к тем глубинным архетипическим моделям, по которым они выстраивают эстетическую концепцию своей жизни.
Жизнетворчество, конструирование личности, поэтика поведения (вопросы теории)
Согласно Вильгельму Шмиду (Schmid, 1998, 73), тема жизни как искусства привлекает наибольший интерес в эпоху романтизма, когда Шлейермахер пропагандирует «искусство жить» в своих проповедях, а Фридрих Шлегель формулирует понятие «учение об искусстве жизни» и развивает его в своем романе «Люцинда». Первоисточником этого концепта является, однако, античная философия, видевшая в овладении искусством жизни свою главную задачу (Там же, 72).
Как бы сильно ни различались между собой школы киников, эпикурейцев и стоиков, их учения имеют немало общего, поскольку они культивируют идеалы дружбы и преодоления страха смерти, выдвигают требование аскетического обуздания плоти, самообладания (автаркии) и счастья (эвдемонии), заботы о своем благе и свободе духа (Там же). Киники делают акцент на самообладании, на автаркии, и, проповедуя аскетизм, добиваются самодостаточности, обеспечивающей независимость от внешних сил. Эпикурейцы стремятся к наслаждению, их любимый символ «сад наслаждений», причем утехи мыслятся как подконтрольные разуму и исполненные смысла; важна «избирательность в удовольствиях жизни» («не всякое удовольствие мы приемлем») в сочетании с предельным ограничением количества желаний, так как чем меньше желаний, тем большее наслаждение можно извлечь из каждого, и мудрость состоит в том, чтобы научиться извлекать максимум удовольствия из малейших поводов к нему (Schmid, 1998а, 31). Подлинных вершин в искусстве жить достигают Сенека и стоики с их принципом самообладания: «Стань хозяином самого себя», – гласит максима Сенеки, требующего от человека способности к самосозерцанию и внутреннего противостояния враждебным силам окружающей реальности.
Искусство жизни зарождается в том промежуточном пространстве, где жизнь превращается в текст, а текст предназначается для того, чтобы его проживать. В этом промежутке, который не есть ни текст, ни жизнь и в то же время есть и то и другое вместе, зарождаются гибридные жанры, которые также, не являясь ни исключительно телом, ни исключительно словом, соединяют в себе то и другое. Каждый художник своей жизни, рассматривающий свое тело как произведение искусства, одновременно является и творцом, и творением. Сознательное усилие преобразует «тело» как нечто материальное и природное в семиотическую систему, приобретающую свойство знака благодаря одежде, мимике, жестикуляции, поведению. Подлинную семиотическую активность такое тело‑знак приобретает, однако, лишь тогда, когда вступает в акт коммуникации[9], причем в качестве партнера может выступать не только другое лицо или общество, но и самое Я , обладающее способностью постоянного самонаблюдения и тем самым самоутверждения в собственном художественном значении – будь то посредством разглядывания себя в зеркале, будь то посредством интроспекции и текстуализации своего Я в форме дневника или романа с ключом. При этом нередко случается так, что материальное тело как бы вторгается в семиотизированное тело‑знак, которое отнюдь не защищено от выпадов со стороны материального мира, обнаруживающего свое присутствие в форме неконтролируемых жестов, скандалов или эпилептических припадков[10].
Являясь литературно‑социологическим гибридом, искусство жизни представляет собой тему, словно предназначенную для того, чтобы лишить литературный текст того привилегированного положения, которое он занимает в теории культуры, и подчеркнуть значение культурологической перспективы. Текст и жизненное поведение должны рассматриваться как два кода или два способа репрезентации[11] (представители русской формальной школы пользовались в этом смысле понятием «ряд») среди многих других. Художник своей жизни производит непрерывное медиальное преобразование, перевод и трансформацию своего Я в сферу знаков, телесных или текстуальных. Культурологическая перспектива важна здесь потому, что предполагает взаимосвязь между достижениями так называемой «высокой культуры» и «всей практикой жизни» (Раймонд Уильямс)[12]. Культура представляет собой контекст и область производства власти, требующие интердисциплинарного подхода. Подчеркнутый интерес культурологии ко всему маргинальному, например к анекдоту, «являющему собой парадоксально непривычную связь различных дискурсов в форме целостного интегрального текста» (Baßler, 2002, 306), настолько очевиден, что вызывает даже упрек в «игнорировании всех канонических текстов» (Kittler, 2000, 11)[13]. Так и исследования в области искусства жизни не признают никакой иерархии культурных явлений и направлены на поэтику культуры и быта.
Так называемый культурологический подход в современном литературоведении отчасти предвосхищен русским формализмом и семиотикой культуры, которые, хотя и не были достаточно известны на Западе, двигались в том же направлении, что и западная наука. Свидетельство этого – внимание формалистов к литературному быту, к биографической и литературной личности писателя (например, Томашевский, 2000) и обращение Ю.М. Лотмана к поэтике поведения (Лотман, 1992, 1992a, 1992b, 1992c). Таковы, далее, работы Л.Я. Гинзбург и Ирины Паперно, тематизирующие литературную личность и принципы ее конструирования в эпоху романтизма и реализма (Гинзбург, 1971; Паперно, 1996)[14]. Примыкают к ним и размышления Александра Эткинда о взаимосвязи «идей, людей и эпох» (Эткинд, 1994, 13)[15].
Все это находится так или иначе в русле исследований, тон которым задает в международном масштабе англо‑американская школа «нового историзма» с ее поэтикой культуры, представленной прежде всего работами Стивена Гринблатта[16] по английскому Возрождению[17]. Сами представители школы «нового историзма» видят истоки своего направления в теории интертекстуальности (Montrose, 1996, 63) и в дискурс‑анализе Мишеля Фуко (Baßler, 1996, 14 – 17). По существу, новый историзм разрабатывает ту же идею, которая уже намечалась у формалистов: идею соотнесенности поэтики той или иной эпохи с внелитературными рядами, также приобретающими статус поэтики (поэтики поведения)[18].
Но в этом общем дискурсивном пространстве, где пересекаются эстетика и социология, где поэтика неотделима от политики, русские теоретики больше, чем англо‑американские, сосредоточены на проблеме личности, ее самоутверждения в самых разнообразных контекстах и формах репрезентации[19]. Эта личность, как уже говорилось выше, расколота на две части – Я и тело‑знак, которое этим Я украшается, внедряется в акт общения и подвергается наблюдению. Слова Рембо, сделавшиеся сегодня общим местом – «Je est un autre», – формулируют важнейшее условие, в котором нуждается художник своей жизни:
Я начинающего поэта являет собой субъект, который лишь сам и делает себя поэтом, именно благодаря сознательному акту самополагания. Это становится возможным лишь потому, что Рембо, очевидно, со всей ясностью сознавал, что он не тождествен самому себе или что этого тождества может не быть
(Цвейте, 2000, 28)[20].
Если дело обстоит так, как полагает Арним Цвейте в отношении Рембо, если предпосылкой рождения поэта является утрата идентичности, сознание ее отсутствия, то всякий поэт должен быть и художником жизни; искусство и искусство жить связаны между собой неразрывно, и поэт, сочиняющий стихи, сочиняет тем самым и самого себя, живет и ведет себя в жизни именно так, как должен жить и вести себя поэт.
Предметом литературоведческих исследований поведение поэта становится с тех пор, как формалисты начинают заниматься проблемой литературного быта[21], включая в это понятие и такие «литературные факты», как «биографическая личность» и «литературная личность». Тем самым в поле изучения впервые вводится личность (persona) автора, его эстетически организованная, то есть подвергнутая деформации, биография[22]. В процессе рецепции, отмечает Ханзен‑Леве (1996, 416), реальная биография деформируется, претерпевает двойную трансформацию: биографическая личность реального автора превращается сначала в личность литературную, в образ поэта, в маску, имманентную литературному произведению, а затем, в ходе дальнейшей трансформации, в личность литературно‑бытовую, трансцендентную по отношению к произведению[23]. Тематизируя разрыв между образом поэта и его исторической личностью, формалисты стремились раскрыть приемы литературной мифологизации, создания маски (Hansen‑Löve, 1996, 417).
Проблема несоответствия между фигурой реально существующего автора и образом поэта получила дальнейшую разработку в трудах ученицы Тынянова Лидии Гинзбург и основателя русской семиотики культуры Юрия Лотмана. Их усилия были направлены на выявление принципов поэтики поведения и конструирования личности, которая формируется именно в зоне разрыва, на границе между эмпирическим человеком и литературным персонажем[24]. Но, решая одну и ту же задачу – выявления и описания связи «текст – жизнь», – Лотман и Гинзбург расставляют акценты по‑разному. Лотман исходит из понятия «театральности», принимая за исходную точку автора, который живет под маской своего героя. В отличие от этого, Гинзбург продолжает разрабатывать модель формалистов, внося в нее психологическое измерение, благодаря которому в составе личности наряду со статическим компонентом становится видимым и компонент динамический (Гинзбург ссылается при этом на Уильяма Джеймса и К.Г. Юнга), который формируется по законам «эпохального характера» и определяет человеческое Я в его исторической обусловленности[25].
Исходный тезис Лотмана – обусловленность форм бытового поведения воздействием литературных текстов (1992, 249) – получает затем у него более дифференцированную трактовку в связи с исторической эпохой: в эпоху классицизма, например, искусство и жизнь максимально разведены, и граница, их разделяющая, находится под строгим контролем. Напротив, в эпоху романтизма искусство рассматривается как модель и программа жизненного поведения; граница между ними становится прозрачной. В третьем же варианте, характерном для реализма, активным, моделирующим элементом становится сама жизнь; это она дает образцы, отражаемые затем искусством. Если в культуре романтизма тон задает искусство, то реализм идет от жизни (1992а, 269, 271 и далее)[26]. Как уже отмечалось, центральное значение Лотман придает понятию театрализации, раскрывая его содержание на примере восемнадцатого столетия, когда бурное вторжение западной культуры повлекло за собой появление феномена маски и ролевой игры. Платье иностранного покроя воспринимается как маскарадное; новые, насаждаемые Петром I нормы поведения в свете – как театральная игра. Усваивая иностранную, импортированную из Западной Европы манеру поведения, русский дворянин вырабатывал тем самым и двойственное отношение к самому себе (1992, 269).
Поэтика поведения, сложившаяся в России XVIII века, описана у Лотмана с широким использованием театральной метафорики: пространство повседневной жизни люди воспринимали как сцену, свои слова и поступки – как роль, жизнь – как спектакль (258, 263)[27]. В качестве своего рода театральных амплуа Лотман указывает на роли «богатыря», «острослова» или «гаера». Источником поведенческих образцов выступает также античная мифология. Так, Суворов ориентировался на Плутарха, прежде всего на его жизнеописание Цезаря, и Плутарх – как автор образцовых биографических сочинений – становится для Суворова наставником в искусстве жить[28]. От романтика, который также театрализовал свою жизнь, хотя и с опорой на другие образцы[29], по мысли Лотмана, человек эпохи классицизма отличается способностью выходить из своей роли, делать своего рода антракты, во время которых он снимал маску. Романтик же играет свою роль непрерывно, отчего граница между ролью и индивидом совершенно исчезает. Но во всех случаях, рассмотренных Лотманом, сохраняется правило, согласно которому жесты, одежда и поступки получают семиотическую нагрузку.
Обращаясь, подобно Лотману, к эпохальным вариантам отношения между искусством и жизнью, Лидия Гинзбург сосредоточивает внимание на переходной эпохе 1830 – 1840‑х годов, когда романтизм сменяется реализмом. В такие моменты, полагает Гинзбург, смена эпохальных типов личности наблюдается с наибольшей отчетливостью. В отличие от Лотмана, Гинзбург интерпретирует аспект театральности не как универсальное средство эстетизации поведения и, соответственно, общий признак «сконструированной личности», но как признак дифференциальный, маркирующий эпохальные различия. Театральность Гинзбург считает свойством именно романтической самоинсценировки личности[30], при которой роль и личность разделены известной дистанцией и творить свою жизнь как произведение искусства – значит исполнять определенную роль. Реалист же конструирует, по мысли Гинзбург, свою личность на основе принципиального совпадения внешнего и внутреннего человека; это означает, что Я формируется в этом случае ролью. Если романтик инсценирует свою жизнь как театральное представление, то реалист стремится к воплощению в себе нового человека[31].
Творческую работу над собственной биографией Гинзбург показывает на примерах Бакунина, Станкевича и Белинского. Литературе отводилась в этом процессе центральная роль; именно она была призвана создать проект новой личности, а сценой, на которой эта личность заявляла о своем существовании, служили литературные и философские кружки 1830 – 1840‑х годов (например, кружок Петрашевского или Станкевича). Реалистический проект нового человека предполагал, как показывает Гинзбург, столь искреннюю веру в его аутентичность, что мир внутренний как бы овнешнялся, что и приводило к исчезновению границы между индивидом и его ролью. Отношения между текстом и жизнью могли при этом выстраиваться двояким образом: либо литературный персонаж создавался по модели реального лица (например, Бакунин служил прототипом для художественных образов в романах Тургенева и Достоевского), либо реальный человек выстраивал свою личность (persona) по литературному образцу (Гинзбург, 1971, 45)[32].
Тип эпохальной личности реалиста, намеченный в работах Гинзбург, получает дальнейшую разработку у Ирины Паперно, которая вводит понятие «семиотика поведения» и раскрывает его на примере личности Чернышевского и людей поколения 1860‑х годов (Паперно, 1996).
Анализ эпохальных типов личности, проведенный Лидией Гинзбург, выдвинутая ею оппозиция между романтическим (театральным) и реалистическим (антитеатральным) эпохальными типами лег в основание той модели жизнетворчества, которую мы пытаемся выстроить в настоящей работе. Пользуясь альтернативными понятиями театрального и антитеатрального, или аутентичного[33], искусства жизни, мы видим свою задачу в том, чтобы, не ограничивая тему жизнетворчества теми или иными эпохальными вариантами ее решения, выявить те дискурсы, которые характеризуются установкой на преображение, созидание и оправдание личностью ее жизни при помощи искусства. Искусство жизни – здесь я опираюсь на положения, содержащиеся в изданном Паперно и Гроссманом сборнике «Creating Life» (1994), – является отнюдь не специфической особенностью того или иного времени, но представляет собой константу культурного развития, принимающую различные исторические формы, максимального выражения достигающую в эпоху fin de siècle и в первые десятилетия ХХ века. Именно в период символизма и авангардизма с их тенденцией к автометаописанию искусство жизни впервые выступает как особая форма эстетического освоения действительности.
Если в хронологическом плане центральным событием в истории искусства жизни является эпоха символизма, то в плане типологическом таким центром следует считать русскую культуру в целом, ибо именно Россия явилась тем культурным пространством, в котором действительность – история и человек – подвергаются наиболее интенсивной эстетизации и принимают характер художественного текста. Показательно в этом отношении высказывание Владимира Одоевского, уже в 1830‑е годы противопоставившего западное и русское отношение к историческим фактам:
Везде поэтическому взгляду в истории предшествовали ученые изыскания; у нас, напротив, поэтическое проницание предупредило реальную разработку ‹…›
(Одоевский, 1975, 182)[34].
Исупов, изучавший проблему эстетизации русской истории, исходит из понятия «эстетика поступка», которое подчеркивает равноценность высказывания и действия (Исупов, 1992, 7)[35]. Как показывает Исупов, эстетика поступка как топос русской культуры привлекала повышенное внимание русских философов и писателей во все времена, но в особенности на рубеже веков; после Герцена и Достоевского она получила дальнейшее развитие в философии космизма, в философии личности (в лице Сергея Булгакова и Льва Карсавина), в софиологии (Там же, 11 и далее).
В отличие от русской культуры, исходящей в своем самоописании из модели пространственной, на Западе принцип эстетизации рассматривается, как правило, в темпоральном аспекте, в связи с пониманием современной культуры как самоинсценировки (например, Fisher‑Lichte, 1998, 88). Если в русской культуре эстетизация есть средство дереализации реальности и транспозиции вещей в знаки[36], от реальности дистанцированные[37], то западное представление о социокультуре как инсценировке формировалось в ходе постмодернистских «дебатов о статусе и понятии действительности» (Там же, 89)[38]. Однако в эпоху постмодерна субъект инсценировки – субъект, объявленный умершим и самому себе недоступным, – принципиально отличается от того, который выходит на сцену в период символизма: постмодернист нуждается в том, чтобы расставить знаки и оставить след; символист же чувствует себя еретиком, который либо узурпирует божественную власть (декадентство), либо выступает как ее носитель и активный медиум (символизм)[39].
Исследования формалистов по проблеме литературной личности, продолжающие их работы Лотмана, Гинзбург и Паперно, с их вниманием к поэтике и семиотике поведения и моделированию личности, а также принципы школы «нового историзма», представленные в работах Стивена Гринблатта, – таковы главные компоненты дискурсивного поля, в котором концепт жизни как искусства, вопросы о взаимодействии искусства и жизни, биографического факта и художественного вымысла, текста и тела приобретают научный интерес. Именно они находятся в центре нашего исследования. Задача заключается в том, чтобы точнее описать взаимодействие жизни и текста как константных величин культуры и обосновать трехуровневую модель, согласно которой творчество жизни опирается на принцип либо театрализации, либо аутентичности, либо теургии. Жизнетворчество в трех его формах – театральной, аутентичной и теургической – представляет собой, по нашему мнению, феномен трансисторического характера, в различные исторические эпохи предстающего в многообразных вариантах, сохраняя, однако, свою природу, свою связь с театром или с ритуалом. Так, приведенные выше примеры – Оскар Уайльд и «соблазнитель» Кьеркегора – относятся к парадигме театрального типа, то есть моделью эстетического преображения жизни служат в этом случае театр и ролевая игра, предполагающая дистанцию между Я и ролью и концепцию жизни как произведения искусства; подобные примеры дает преимущественно эпоха декаданса (Брюсов) и постсимволистского авангардизма (Маяковский, Есенин, Хармс). Вторая и третья парадигмы жизнетворческого поведения – аутентичная (антитеатральная) и теургическая – принципиально отвергают ролевую игру и диаметрально ей противоположны. Художник аутентичного типа, хотя и отталкивается от понятия роли, видит свою задачу не в манифестации дистанции между ролью и своим Я , а, напротив, в том, чтобы эту дистанцию уничтожить и усвоить, интериоризировать роль до полного слияния маски с лицом. Если художник театрального типа свою роль (одну или несколько) играет, то художник, претендующий на аутентичность, в нее вживается, себя с ролью отождествляет. Игнорируя двойственность человеческой личности, отвергая как социологическое, так и антропологическое обоснование разрыва между Я и ролью, поэтика сентиментализма, реализма и соцреализма требует творческого воплощения идеала, будь то идеал «чувствительного» человека или человека «нового». Что касается теургического художника[40], то он также противопоставляет свое искусство жизни театральности, но ориентируется на ритуал, стремясь, в отличие от художников театрального и аутентичного типов, стать не демиургом‑узурпатором творческой воли Бога, а ее избранным выразителем[41]. При всех различиях между тремя вариантами жизнетворчества общим для них является принцип инсценировки, но если театральный тип выставляет ее напоказ, то аутентичный, как и теургический, художники своей жизни стараются ее завуалировать. Инсценировка, пишет Вольфганг Изер, «живет тем, чем она не является», «все, что в ней материализуется, обслуживает отсутствие, которое, хотя и получает отражение в присутствующем, как таковое актуализации не подлежит» (Iser, 1993, 511). И далее: «Инсценировка может тем самым рассматриваться как форма автоинтерпретации человека» (Там же, 512)[42]. Под инсценировкой Изер подразумевает базовый антропологический принцип: человек инсценирует себя как существо эксцентрическое, что отнимает у него всякую возможность быть аутентичным. Художники своей жизни инсценируют себя сознательно – и когда они играют роль (вариант театральности), и когда подчеркивают свою аутентичность и подлинность (вариант «антитеатральности»), и когда пытаются воссоединиться с божественным первоначалом, выступая носителями его творческой воли (вариант ритуальный)[43].
Прежде чем перейти к подробному анализу указанных моделей жизнетворчества, обратимся к некоторым программным текстам, в которых искусство жизни впервые было тематизировано как принцип поэтики и автопоэтики.
Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 329; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
