К очерку А. Иванченко «ТРУБКА КОРСАРА» 13 страница
Мы лезем по каменной стене, лезем упрямо, лезем на последнем дыхании, от злости и боли сжав зубы…
Разве такое забывается?

А сейчас «газик» бежит и бежит, накручивая на колеса километры дороги. Чем дальше, тем могущественнее горы и пропасти, тем больше снега, тем петлистее шоссе.
Впереди загораживает полнеба перевал Тюя‑Ашу. На северной его стороне у входа в тоннель приютилась лавинная станция Володи Зябкина.
– Не ждет, – улыбается Макс.
1
Но Володя ждет. Сработал, как в большой деревне, беспроволочный телеграф. В курточке, в остроносых ботинках, уже отброшенных модой, в треухе с оторванным козырьком, он прыгает через сугробы:
– Знал: вернешься!
Рядом с бараком лавинной станции стоит другой барак. Оттуда несется дружный лай собак.
– Самые трудные соседи… коммунальная, словом, квартира, – неизвестно чему улыбается Володя. – Медицина над ними колдует. Вот она!
На крыльце стоят две девушки.
– Элла! – знакомит Володя, картинно подняв руку. Приятная темноволосая девушка с раскосыми карими глазами, матово‑смуглым лицом кивает нам.
– Ниночка!
Почти девочка, тоненькая, в голубых брючках чуть ниже колен, в ярком свитере, с пышно взбитыми, выкрашенными в рыжий цвет волосами, приплясывает на пороге.
Собираемся в тесной комнатке Володи. Мы редкие гости, как с другой планеты, с летающих блюдец. Накрыт роскошный стол. Банки консервов, каша в мисках, капуста и весь запас красного вина «Киргизстан». Вместо стаканов кружки, неведомые черепушки, чашки от бритвенных; приборов.
|
|
|
Николай Васильевич поднимает руку:
– Друзья мои! Вы всегда упрекали меня за высокопарность. Но я таков, и меня не изменить… В этом, понимаете ли, все. Нет подвига, равного терпению. Нет счастья, равного удовлетворению. Нет дара, равного дружбе. Сегодня мы снова вместе. За то, чтобы на всю жизнь!
Меня охватывает почти забытое чувство полного и блаженного покоя. Я пью вино. Теперь снова дома. У нас дом не там, где родились и живем, а где друзья и работа – настоящая работа, наслаждение, радость и жизнь.
Хмель ударяет в голову. Я смутно понимаю Володю, который что‑то толкует о пике Нансена и Хан‑Тенгри.
– О женщина – сосуд нектара, источник наслаждений! – шутит Макс, галантно ухаживая за Ниночкой. – Не будь у нас женщин, мы бы стали пещерными людьми!
– Перестаньте болтать глупости! – Ниночка передергивает плечиками и садится напротив, оттеснив Володю. Но Володя, пытаясь дотянуться до меня, почти ложится на стол и твердит свое:
– Помнишь, как мы переправлялись через Сарыджаз? А?
Я все помню. Только сейчас не могу об этом говорить. Перед глазами стол плывет, тени от лампочки плывут, журнальные красотки на стенах плывут. Делаю усилие над собой, тогда из нечеткости окружающего выплывает то возбужденное лицо Макса с седой бородкой клинышком и блестящей лысиной, то Володя с капельками пота на носу и потемневшими кудряшками, то пухлые, чуть приоткрытые, как у Брижжит Бардо, губы Ниночки.
|
|
|
Я отвык от высоты. А Тюя‑Ашу почти на три километра возвышается над уровнем моря. В крови, отравленной вином, скапливается, говорят, много углекислоты, и поэтому голову начинает разрывать боль.
– Не курите, мальчишки! – доносится издалека голос Ниночки.
– А помнишь Сарыджаз? – бубнит Володя.
«Не уходи, тебя я умоляю! Слова любви стократ я повторю», – дребезжит тенорком Макс.
Потом и голоса уплывают, переходят в неясный гомон…
Кто‑то сильно сжимает плечо:
– Выйдем.
Я послушно поднимаюсь. Спотыкаясь о скамейки, выходим наружу. Света нет. Только луна. Она выбелила горную пустыню вокруг нас. Голубыми спинами горбятся вершины. За ними угадывается Ала‑Кок – «святая зеленая гора». Я ее никогда не видел зеленой. Здесь ничто зеленое не растет. Но может быть, древний путник, который шел караванной тропой и взбирался на вечно холодный наш перевал, все же нашел на ней верблюжью колючку и с радости нарек гору святой и зеленой. За Ала‑Коком бледнеет пик Отважный, отвесный и острый, как зуб. И дальше тянутся горы. Все горы и горы до самой Ферганы.
|
|
|
– Приложи льдинку ко лбу, пройдет…
Теперь я узнаю голос Макса. Ветер приводит меня в чувство. Голова не совсем чугунная, кровь стучит, движется.
– Надолго к нам?
– Не знаю. Только я… сильно о вас соскучился, сильно…
У меня возникает желание прижаться к груди старого друга и заплакать, рассказать ему, как бесполезно жил с тех пор, как расстались.
Николай Васильевич стискивает мои плечи:
– И мы, старина, тоже скучали. Мы как братья сейчас, даже ближе братьев…
– Ты иди, Макс, одному постоять хочется, – прошу я, потом прислоняюсь к холодной стене и закрываю глаза. Вокруг неземная, глубокая, жуткая тишина. Не шуршит даже поземка у ног. Лицо ощущает острую и прозрачную прохладу, которой ночью дышат зимние горы.
Теперь со мной друзья. И горы, и снега, и лыжные тропки к дальним лоткам у лавиносборов. Морозный воздух вливается в легкие. Внизу под перевалом зажигается крохотный огонек. Кто‑то отчаянный гонит машину в ночь. Часа через два он будет у нас. Огонек то пропадает, то маячит снова – карабкается на перевал. Какая‑же нелегкая несет тебя, шофер? Спал бы ты лучше, спал…
|
|
|
Тихо прохожу на кухню. Она здесь и столовая, и клуб, где ребята обычно «гоняют козла», и курилка. Зажигаю керосиновую лампу. В окне искрится сугроб. На полке горкой сохнут алюминиевые миски и кружки: Ниночка с Эллой успели убрать со стола. На лавке – два бидона с водой и оставшаяся от праздника гречка. На стенах те же журнальные красотки, выцветшие от времени. У печи спит пес. Я не помню, как звали его. Знаю только, что ребята привезли его из Токтогула в рукавичке и спал он сначала под животом у кота Зямы. Теперь Зяма кутается в рыжей длинной шерсти собаки, и лапа пса покровительственно лежит на нем.

Ухожу в свою каморку и залезаю в спальный мешок. Сном младенца спит Володя Зябкин. Мое лицо щекочет мех, и я никак не могу уснуть.
Слышу гул машины. Ее мотор воет, жалуется на крутой подъем и усталость. Так воют здесь, на Тянь‑Шане, волки, когда их пугает луна и не чуют они козлиных троп.
Загудело сильнее. Гул врезался в мозг, как скоростное сверло, взлетел до пронзительной высоты и оборвался лопнувшей струной… Шофер сбросил газ и свернул к нашему дому. Скрипнула дверь. В коридоре застучали обледеневшие валенки. Кто‑то из ребят встал, и шофер торопливо заговорил, чиркая спичку за спичкой, очевидно не в силах прикурить… Я догадался, что он просто свернул на огонек, потому как долго быть одному и плохо, и холодно.
2
Утром мы с Максом едем на станцию Ала‑Бель. Там начальником Юра Баранов. Машина бежит по укатанной снежной дороге. По обочине ползают бульдозеры, сбрасывают снег под откос. Кое‑где попадаются строчки лисьих следов. Несколько лет назад эти места были самыми дальними. Пропылит отара, промчатся дикие горные козлы, прокрадется лисица или волк – и снова все замрет, как сто и тысячу лет назад. А вот прошла дорога – и край ожил. Появились поселки. Они сейчас, в морозную, солнечную погоду, далеко видны по прямым сизым дымкам.
Станция Ала‑Бель стоит на высоте три тысячи двести метров над уровнем моря. Впереди только один столбик дыма висит над белой горой. «Газик» бежит к нему, а он как будто отодвигается. Но вот наконец поворот, и прямо из сугробов вырастают два домика. В одном живут дорожники – их мы видели на работе, в другом – наши ребята, лавинщики.
Обычно Юра Баранов носит бороду. Вырастает она у него черная, пышная, разбойничья. Только голубые, доверчивые, как у ребенка, глаза никак не подходят к этой бороде. Сейчас Юра выглядит опаленной курицей. И вправду, он спалил ее, а остатки сбрить пришлось. Руки перевязаны, но уже заживают. Месяц назад во вьюгу Юра растапливал печь и налил в темноте на дрова много солярки. Бросил спичку – сильный огонь перебросился к ведру. Едва удалось загасить…
После довольно долгого битья по рукам и спинам, расспросов и рассказов Юра заговорщицким тоном спрашивает:
– На лыжах пойдешь или на тракторе отвезти? Двадцать третий будем взрывать.
Лыжи, большие, тяжелые, с окованными железом краями и пластмассовой скользящей поверхностью, взбивают искристую пыль. В первую минуту идешь на одном дыхании, но потом чуешь, что‑то сильно сжимает горло. Пока легкие не привыкнут к уменьшенной порции кислорода, ты будешь ощущать неодолимую тяжесть и одышку.
Хорошо, что дорога идет под уклон и легко скользят лыжи. Мне знаком путь. Видел я его и летом, когда черное, набухшее небо висело рядом и тучи цеплялись за вершины не в силах перевалить через Ала‑Бель. Помнил и осенью, когда в желтых камнях пронзительно свистели улары, по склонам бродили круторогие козлы, отыскивая корм и нагуливая жир для длинной и голодной зимы. Сейчас дорога более пустынна, только горы такие же – вечноснежные, дикие, мрачные. В тени они фиолетовые, а там, где падает солнце, блестящие, как новая жесть. Снег покрыт ледяными чешуйками и звенит под лыжами. Распластав крылья, в далеком темно‑синем небе кружит орел, – наверное, выследил козлов.
На склоне одной из гор замечаю фигурки. До них еще километров пять, но они уже хорошо видны, и не стоит большого труда отгадать, что справа мечется беспокойный Макс, поодаль от него движется, отыскивая более пологий путь, Юра Баранов, а напролом вверх лезет могучий Витя Сокол, техник‑снегометрист.
На дороге стоят бульдозеры. Они перекрыли путь на то время, пока ребята будут спускать лавину.
Вот ребята подложили под лавиносбор взрывчатку. У огнепроводного шнура остался только Витя Сокол. Остальные зигзагами понеслись вниз.
Тороплюсь успеть к лавине. Но медики утверждают, что на высоте падает содержание сахара в крови и повышается количество молочной кислоты, которая сопутствует нашей усталости. Не знаю, что нам на высоте вредит, только ясно одно: работать здесь плохо. Дышишь, как старый астматик, чувствуешь, как слабо и болезненно ворочается сердце.
Юра из ракетницы пускает желтую ракету: внимание. Рассыпая искры, ракета летит над голубыми снегами и втыкается в камни. Витя поджигает шнур. Даже издалека нам виден дымок. Витя, опустившись на палки и тормозя ими, мчится к дороге.
– Закурим? – спрашивает Макс, приплясывая.
– Ты же не куришь!
– Да разве сейчас утерпишь?!
Теперь будем ждать. В такие моменты, давно всеми замечено, время тянется, будто собираясь умереть. Секундная стрелка нервно скачет по циферблату, а минутная приклеивается к корпусу часов. Ждать… На глаза набегают слезы. Сквозь них и секундная стрелка начинает прыгать, как раненый кузнечик… Макс бесцельно кружит вокруг скалы, Юра и Витя курят.
Особенно волнуется Юра. Он всегда волнуется. Живет и смотрит на мир глазами младенца. Сколько километров прошел по снегам, сколько видел лавин – и ничему не перестал удивляться. А у меня вдруг пропадает желание ждать этот стремительный поток снега и камней. Все будет так, как и должно быть. Чуда не произойдет. И мир не перевернется. И завтра, и послезавтра, и через год ребята будут делать одно и то же, как заводные. Работа лавинщика никогда не даст новизны. Она не пробудит мысль, не взбудоражит кровь. Наверное, и для Макса, сколько он ни волнуйся, недостаточно того, что мы делаем. Работа токаря, яркая гипотеза исследователя, смелая мысль конструктора неизбежно включаются в орбиту общечеловеческих отношений. А что потеряет или приобретет человечество, от которого мы так далеко, если мы спустим или не спустим с одной из тысяч гор лавину?.. Нет, тут я неправ! Это бродит в голове отравленная кровь, так как еще не привык организм к верхогорью…
Дымок, подсвеченный солнцем, все еще вьется над снегом. Наверное, взрыва не произойдет. Мало ли что может случиться с огнепроводным шнуром, взрывателем или толом!
– Вот было однажды… – шепчет Макс не для того, чтобы рассказать еще одну историю, а чтобы скоротать время. – На Ала‑Беле Юрка дал двухдневный отбой. Лавин и правда не предвиделось… Но я, понимаешь ли, поседел за одну ночь…
Взрыва еще не произошло, но что‑то вдруг заставило замолчать Макса. Не шелохнулся воздух, не вздрогнули горы. Мы напрягли зрение и догадались, что именно встревожило Макса. Оттуда, где вился дымок, взлетела галка и круто взмыла в небо. И как только она скрылась за вершиной, вскипел снег. Вверх взвилось огромное облако. Еще секунду сугробы на склоне лежали неподвижно, а потом по ним побежали черные трещины, и вся гора двинулась, потекла вниз.
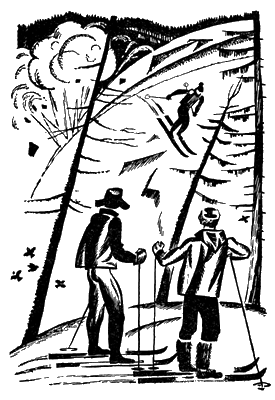
Неожиданно перехватило дыхание от ощущения чудовищной силы, которая рванулась навстречу нам, крошечным муравьям, даже микробам по сравнению с гигантской, бьющейся в снежной круговерти лавиной.
Потом долетел звук – глухой, грозный, тревожный, как восточный бубен. И вслед за ним по горам дробно покатилось печальное эхо. Кажется, отозвалась каждая вершинка, каждый камешек.
Что‑то невыносимо свирепое было в этой лавине. Она ползла навстречу дороге, вздымая могучую грудь, и под ней стонала вся гора. Сотни всплесков там, где снег встречался с камнем, делали ее похожей на ад боя, перемалывающего крохотную дольку земли, на которой могла еще теплиться жизнь.
В очень давние времена двинувшиеся с гор снега сравнивали с дьявольской игрой воображения. Должно быть, только самый страшный ураган, самое лютое землетрясение, испепеляющая лава вулкана, что погубила Помпею, могли соперничать с этой лавиной. До нас уже долетал ветер ее дыхания, лицо колол снег, летящий со скоростью пули во все стороны, мы с тревогой посматривали на другие горы, готовые от сотрясения разразиться такими же лавинами, но поднаторевший глаз Николая Васильевича не уловил опасности.
– Порядок! – воскликнул он и, помолчав, добавил задумчиво – Люблю, понимаешь ли… В этом все!
А снега еще клубились, вскипали, ворочали камни, но ложились у дороги в предсмертной агонии. Расчет был точный. Лавина не засыпала магистраль. Обессилев, она легла рядом. Но если бы ее не взорвали сейчас, то завтра, накопив достаточно снега и силы, она могла засыпать дорогу и стала бы могилой тому, кто ненароком очутился бы здесь в этот момент.
Юра вложил в ракетницу зеленый патрон и выстрелил: путь свободен. И как ни пустынна вначале казалась дорога, по ней сразу же устремились грузовики, автобусы, «Победы» и «Волги». С двух сторон они шли – из Фрунзе в Ош, в дальний угол Киргизской республики, и обратно.
Вот эту дорогу и охраняют от лавин ребята станций Тюя‑Ашу – северная и южная, Ала‑Бель, Итагар. Другие лавинные станции в стороне от дороги сторожат поселки и рудники. Сторожат денно и нощно, потому что лавины в горах, как и пожары, наводнения, ураганы, землетрясения, наносят людям страшный ущерб. Веками они угрожали жителям гор. Люди приписывали лавины колдовству ведьм. Колдунов и колдуний четвертовали, жгли на кострах, изгоняли из своих мест. Когда возникала опасность лавин, жители гор закапывали в снег освященные яйца, надеясь задобрить злые силы.
Шли столетия за столетиями, а лавины грохотали, уничтожая леса на склонах, хороня под снегом дома и людей, разрушая дороги, телеграфные и электрические линии. Снег на склонах нарастал, изменял структуру от действия солнца и вьюг, превращался в рассыпчатую массу, как песок барханов. Падал камешек, проходил человек – и сугробы срывались с обрывов, разгоняясь до скорости водопада. И казалось, не было такой силы, чтобы укротить их, сберечь то, что трудолюбиво воздвигали в горах люди…
3
– Так вот, была ночь, – продолжает Николай Васильевич рассказ, который он начал, когда мы ждали взрыва.
По обочинам торной, белой дороги, как грибы‑лесовички, пробегают столбики с мохнатыми снежными шапками. «Газик» мчится по самому краю сугробов, изрытых лезвиями бульдозеров.
Была ночь… А накануне вечером Юра Баранов дал телеграмму, что лавин не будет по крайней мере два дня. Барометр не падал, понижалась, как обычно при устойчивой погоде, температура воздуха.
Юра и Витя Сокол возвращались с ближнего лотка. Солнце уже зашло, и черная тень ночи наползала на горы. В рюкзаках позванивали жестянки метелемера, плотномера и других необходимых для снегометристов вещей. Выглянула луна, осветив снега голубым, ясным светом. А за ней, как хористки, высыпали веселенькие звезды и дружно замигали двум лыжникам, которые легко и свободно скользили по голубой долине к домику, одиноко и призывно светящему на перевале Ала‑Бель.
Юре, ленинградцу, эта ночь напоминала белые ночи июня в родном городе. И ему даже стало теплее. Воспоминания о родном доме, о родителях‑стариках, о любимой девушке, которая живет там и ждет, всегда согревали его доброе, хорошее сердце.
Но погода, особенно в горах, преподносит часто сюрпризы. Откуда‑то из долин и низин вдруг пробилась туча. Она отрезала ребятам дорогу. И сразу же подул ветер. Погасла луна. Стало совсем темно. Ветер почуял в туче союзницу, вскружил снег. Началась метель.
По равнине в пургу идти можно, был бы компас. В горах метель делает человека слепым и беспомощным. Без лыж ребята идти не могли, а с лыжами, заскользя, они в любой момент могли свалиться в пропасть или трещину, и никто никогда не смог бы их отыскать.
Ощупывая каждый метр, шли ребята, то и дело проваливаясь в сыпучем снегу. Но не хлесткая колючесть снега беспокоила Юру. «Ведь я дал двухдневный отбой лавинам», – сокрушался он.
– Может, машины не пойдут? Знают же шоферы, что могут начаться лавины, – сказал Витя.
– Пойдут, – ответил Баранов.
И как бы в подтверждение ветер донес далекий рокот мотора. Одолевая подъем, шел тяжелый грузовик. Юра выскочил на середину дороги и зажег фонарик, чтобы шофер заметил его и остановился. Скоро в снежной мгле тускло зажглись две желтые фары. Шофер затормозил, недовольно опуская боковое стекло и выстужая кабину.
– Мы из лавинной станции Ала‑Бель, – стараясь перекричать вой вьюги, сообщил Юра. – Куда едете?
– На Итагар. Везу овец.
– Зачем?
– У нас в совхозе выпало много снега, и мы перевозим овец на пастбище южнее, а то начнется падеж.
– Много машин?
– За мной идет караван. Из Фрунзе машинами помогли.
Несчастье одно не приходит. Туча свалилась лишь на Ала‑Бель.
Если бы погода испортилась на всей трассе, то другие станции тоже подняли бы тревогу. Но на других станциях была спокойная звездная ночь, и радисты уже отключились от эфира. И как раз в эту спокойную звездную ночь по магистрали Фрунзе – Ош идет караван машин с грузом в тысячи овец, истощенных от голода. Овцы не могут долго оставаться без корма и гибнут.
Юра и Виктор налегли на палки. Может быть, какая‑нибудь радиостанция работает и донесет весть об опасности до управления гидрометеослужбы, до Максимова, отвечающего в первую очередь за судьбы тех, кто находится в пути. А пока надо делать все возможное, чтобы спасти дорогу от лавин. Попробовать взорвать три лавиносбора, самых беспокойных на участке.
Внезапно вырастает домик станции. Все ребята на ногах. Радист Коля Дегтярев уже пытается вызвать соседние станции. Он стучит ключом в своей каморке, заставленной приемниками, батареями, передатчиками, и в такт его руке мигает зеленый глазок рации. Но станции не отвечают. В эфире, как и на дороге, есть свои правила движения. Отработав положенный срок, радист не имеет права мешать другим. Но сейчас Коля шлет позывные по коду «шторм». Сейчас те, кто его услышит, должны прийти ему на помощь, потому что решалась судьба большого каравана, пересекающего лавиноопасную зону на самом загривке Большого Киргизского хребта.
Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
