С.А. Толстая смотрит в окно комнаты, где лежит больной Л.Н. Толстой.
Слева стоят: В.Н. Философов и медсестра Е.Ф. Скоробогатова.
Фирма «Бр. Пате». Увеличенный кадр из киноленты.
Ноябрь 1910. Астапово
Здесь стоит коснуться другого устойчивого мифа: о якобы выраженном как-то Л.Н. Толстым, после отъезда из Ясной Поляны или же перед самой смертью, желании «покаяться» перед священниками, перед монастырским старцем, и вернуться к исповеданию православия. На самом деле, на основании имеющегося в распоряжении учёных источникового материала как по его визиту в Оптину Пустынь и Шамордино, так и по последним дням в Астапово, совершенно невозможно утверждать, что Толстой вдруг резко сменил гнев на милость в отношении изобличённой им многократно ложной веры. Это отдельная, огромная тема. В тесных рамках нашей небольшой книги давайте взглянем на неё глазами только двух свидетелей, но таких, которым можно и нужно доверять: уже много раз выручавшей нас в этой книге дочери Марии Николаевны Толстой, Елизаветы Валерьяновны, в замужестве Оболенской, и — безотлучной от кровати больного отца младшей дочери Саши.
Дадим сначала слово Елизавете Валерьяновне, находившейся в эти дни 1910-го года рядом с матерью и с наибольшей полнотой и точностью зафиксировавшей в памяти, а впоследствии в мемуарах, общение её матери с братом Львом.
«29 октября днём мы пошли с матерью походить. Погода была холодная, и было очень грязно, так что мы не выходили за ограду. Навстречу нам попалась монахиня, только что вернувшаяся из Оптиной Пустыни. Она рассказала нам, что видела там Льва Николаевича, который, узнав, что она из Шамордина и туда возвращается, сказал:
|
|
|
— Скажите моей сестре, что я нынче у неё буду.
Нас очень взволновало это известие. То, что он решился приехать в такую пору года и в такую погоду, не предвещало ничего хорошего. Мы поспешили вернуться и стали его ждать и гадать, что мог означать его приезд. Ждали мы долго; наконец, он пришёл к нам в шесть часов, когда было уже совсем темно, и показался мне таким жалким и стареньким. Был повязан своим коричневым башлыком, из-под которого как-то жалко торчала седенькая борода. Монахиня, провожавшая его от гостиницы, говорила нам потом, что он пошатывался, когда шёл к нам. Мать встретила его словами:
— Я рада тебя видеть, Лёвочка, но в такую погоду!.. Я боюсь, что у вас дома нехорошо.
— Дома ужасно, — сказал он и заплакал.
Рассказывая о том, что у них делается дома, о той невозможной жизни, которую он вёл последнее время, он так волновался, так часто прерывался слезами, что я предложила ему выпить воды, но он отказался и, помолчав немного, стал говорить спокойнее. Мы обе плакали, слушая его. Софья Андреевна совершенно измучила его ревностью к Черткову и подозрениями, что от неё что-то скрывают. Поводом к ревности были дневники, которые Лев Николаевич отдал на хранение Черткову, а не ей; поводом же к подозрениям было тайно от неё написанное духовное завещание, о чём она подозревала. Я того мнения, что это была большая ошибка, которая и ему доставила много страданий. Его мучила тайна, совершенно несвойственная его крупной, благородной душе. Жалею, что его друзья не удержали его от этого. Достаточно было взглянуть на него, чтобы видеть, до чего этот человек был измучен и телесно и душевно. Сильное волнение вызывало обмороки, сопровождавшиеся судорогами такими сильными, что его приходилось держать, чтобы он не упал с постели. После таких припадков он на короткое время терял память. Говоря нам о своём последнем припадке, он сказал:
|
|
|
— Ещё один такой — и конец; смерть приятная, потому что полное бессознательное состояние. Но я хотел бы умереть в памяти.
И заплакал.
[…] За чаем мать стала спрашивать про Оптину Пустынь. Ему там очень понравилось (он ведь не раз бывал там раньше), и он сказал:
— Я бы с удовольствием там остался жить. нёс бы самые тяжёлые послушания, только бы меня не заставляли креститься и ходить в церковь.
|
|
|
На вопрос матери, почему он не зашёл к о. Иосифу, он сказал, что думал, что он «отлучённого» не примет».
Надо полагать, дело тут вовсе не в “гордыне”, как фантазируют ненавидящие Толстого-христианина адепты церковного православия, а именно в бытовом характере предполагавшегося разговора. Как раз желание покаяться могло быть веской причиной для того, чтобы войти в Святые ворота монастыря и обеспокоить старца. Но этого желания не было!
«Весь остальной вечер он был спокоен, говорил о посторонних предметах, расспрашивал много о монастыре; как всегда, с особенным чувством умиления рассказывал об отказавшихся, от воинской повинности; сказал, что думает пожить в Шамордине; с интересом выслушал, что около оптиной можно нанять отдельный домик <курсив Е.В. Оболенской. — Д. Е.>, что там многие так устраиваются.
[…] Потом спросил меня, сколько нужно платить за две комнаты в гостинице, если он тут останется…»
(Оболенская Е. В. Моя мать и Лев Николаевич. Указ. изд. С. 314 – 316. Везде, кроме оговоренного выше случая, выделения курсивом в тексте наши. – Д. Е.).
Всё, кажется, более чем очевидно. Россия во все времена, и по сей день — страна бесприютная, холодная, грязная, злая… Человеку, бежавшему от домашних, членов традиционной русской семьи, могущих отыскать где угодно – невозможно, даже с большими деньгами, укрыться нигде… кроме разве стен монастыря. И не всякого монастыря, а такого, в котором тебя знают и уважают.
|
|
|
Именно сестра-монахиня была первой на крестном пути Льва Николаевича из Ясной в Астапово, кому он не только мог, не таясь, поведать такое сердечное желание, но и, в описанном Е.В. Оболенской состоянии нервного и слёзного припадка – просто не смог бы удержаться от этого. И дочери, разделявшей вероисповедание матери, просто невозможно и не для чего было бы скрывать этот факт в мемуарах. Но факты, сообщаемые ей, говорят о совершенно иных намерениях Толстого…
При этом, по сведениям сопровождавшего Толстого в качестве врача и друга Д.П. Маковицкого, Толстой сам не желал и этого, «бытового», сценария своего поселения в монастыре – предпочитая совершенно беззащитную деревенскую избу, которую и подыскивал в деревни близ монастыря. В связи с этим дочь М.Н. Толстой даже вразумляла его и очень разволновала:
«— Дядя, милый, трудно тебе будет жить в избе, да и не оставят тебя здесь; ведь […] на твой след напали, и тётя Соня просила Андрюшу <А.Л. Толстого> за тобой поехать.
На это он мне сказал:
— Вы так меня утешили, так успокоили, я теперь ещё больше утвердился в моём решении не возвращаться. Я не могу вернуться; пойми, в том состоянии, в каком сейчас, возвращение будет равносильно смерти. Ещё одна сцена, ещё один припадок — и конец!» (Там же. С. 316).
На самом-то деле Толстой не успел ни утешиться, ни успокоиться толком за менее чем сутки, прожитые до этого разговора в Шамордино. И ему уже не дали… Вечером этого же дня в монастырь приехала дочь Александра с письмами Толстому от жены и детей. По свидетельству того же Маковицкого, дочь понукала отца ехать дальше, пока его не «нагнали»; старец до поры и до времени сопротивлялся… По воспоминаниям Е.В. Оболенской, дочь Александра, переговорив с отцом, вышла от него озадаченная, недовольная, и пробормотала:
«— Мне кажется, что папа уже жалеет, что он уехал» (Оболенская Е.В. Указ. соч. С. 317).
К сожалению, “капля камень точит” – и нервы Льва Николаевича не выдержали к утру: он уступил настояниям дочери и рано выехал из Шамордина – даже не попрощавшись с М.Н. Толстой и её дочерью…
Не соответствует правде исторических источников и другой домысел: о том, что Толстой желал «покаяться» на смертном одре и даже специально «вызывал» для этого из Оптиной Пустыни старца.
Правда здесь только в том, что старец в Астапово приезжал… ноне по вызову Толстого, а по вызову, что называется, «сверху» — о чём имел глупость проболтаться сам. Николай Николаевич Гусев, многолетний друг Толстого, личный секретарь и до сего дня авторитетный в науке биограф, ссылаясь на документ («Рапорт начальника Московско-Камышинского жандармского полицейского управления генерал-майора Львова в штаб отдельного корпуса жандармов»), сообщает о приезде Варсонофия 5 ноября такие сведения:
«Варсонофий сообщил жандармскому ротмистру Савицкому, что “приезд его в Астапово явился результатом командировки святейшим Синодом и имел целью подготовить примирение Толстого с православной церковью… Он привёз с собой святые дары, и если бы Толстой сказал одно слово «каюсь», то игумен, в силу своих полномочий, считал бы его отказавшимся от своего «лжеучения» и напутствовал бы его перед смертью, как православного”» (Цит. по: Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. М., 1960. Т. 2. С. 834-835).
Косвенно подтверждает эти сведения и дочь М.Н. Толстой в своих воспоминаниях. Дело в том, что Елизавета Валерьяновна, узнав о болезни Толстого, тоже выехала в Астапово, и по пути туда, на вокзале г. Козельска повстречала Варсонофия и беседовала с ним. Вот как это было:
«…К вокзалу подъехала карета, из неё вышел о Варсонофий, игумен Оптинского монастыря. […] Мы сели в один вагон. Ещё не очень старый, красивой, представительной наружности, он мне не понравился, я не нашла в нём ничего духовного. Должно быть, желая щегольнуть передо мной своим светским образованием, он заговорил о литературе, о Пушкине, Лермонтове и т. д. Я не поддерживала разговора, мне было скучно, и мысли мои были не тем заняты. Но, подъезжая к Астапову, он, видимо, начал волноваться, стал расспрашивать про семью, сказал, что едет в надежде быть принятым Львом Николаевичем, чтобы напутствовать его перед смертью, и просил меня оказать ему содействие. Я ответила, что там жена и дети, а что я тут ничего не могу. Выйдя из вагона, я потеряла его в толпе и уже больше не видала его, чему, признаюсь, была рада. После я узнала, что он не был, конечно, допущен до Льва Николаевича, кажется, не видел и Александры Львовны, а только кого-то из сыновей» (Там же. С. 318).
Очевидно, что, будучи вызван самим Толстым, по его воле, а не послан кем-то, Варсонофий мог бы, ничего не скрывая, сообщить это, как радостную весть, православно-верующей дочери монахини Марии. Но он сам признался, что только надеялся быть допущенным к Толстому. Надежде этой, действительно, не суждено было сбыться.
Рассказывает Александра Львовна:
«Все мои родные и доктора наотрез отказали ему в желании видеть отца, но он всё же нашёл нужным обратиться с тем же и ко мне. Я не хотела и не могла видеть его и потому написала ему следующего содержания письмо: “Простите, батюшка, что не исполняю вашей просьбы и не прихожу беседовать с Вами. Я в данное время не могу отойти от больного отца, которому поминутно могу быть нужна. Прибавить к тому, что Вы слышали от всей нашей семьи, я ничего не могу. Мы — все семейные — единогласно решили впереди всех соображений подчиняться воле и желанию отца, каковы бы они ни были. После его воли мы подчиняемся предписаниям докторов, которые находят, что в данное время что-либо ему предлагать или насиловать его волю было бы губительно для его здоровья. С искренним уважением к Вам, Александра Толстая. 6 ноября, 1910 г., Астапово”. На это письмо я получила от отца Варсонофия ответ, который я здесь привожу:
“Ваше Сиятельство,
Достопочтенная графиня Александра Львовна. Мира и радования желаю Вам от господа Иисуса Христа.
Почтительно благодарю Ваше сиятельство за письмо Ваше, в котором пишете, что воля родителя Вашего для Вас и для всей семьи Вашей поставляется на первом плане. Но Вам, графиня, известно, что граф выражал сестре своей, а Вашей тётушке, монахине матери Марии, желание видеть нас и беседовать с нами, чтобы обрести желанный покой своей душе, и глубоко скорбел, что это желание его не исполнилось. Ввиду сего почтительно прошу Вас, графиня, не отказать сообщить графу о моём прибытии в Астапово, и если он пожелает видеть меня хоть на 2-3 минуты, то я немедленно приду к нему. В случае же отрицательного ответа со стороны графа, я возвращусь в Оптину Пустынь, передавши это дело воле Божией.
Грешный игумен Варсонофий, недостойный богомолец Ваш.
1910 г. Ноября 6 дня. Астапово”.
На это письмо игумена Варсонофия я уже не ответила. Да мне было и не до того».
Насколько «жаждал» Толстой покаяния у старцев и «скорбел», что не свиделся с ними – мы уже показали. Ничтожна вероятность того, что православная по вере дочь М.Н. Толстой не могла тогда же или позднее быть в курсе высказанного Толстым особенного пожелания – и оставить о нём сведения в своих мемуарах.
Воспитанный в православной вере И.А. Бунин, не знавший о процитированном нами выше полицейском документе, отрицает в книге «Освобождение Толстого» факт посланничества Варсонофия Синодом как раз на основании ссылки Варсонофия в письме Александре Львовне на высказанное Толстым в Шамордино желание видеть старцев. Но – с целью ли покаяния? Выше мы показали, что это маловероятно. Но слух о возможном покаянии Толстого из Шамордина быстро достиг столицы и св. Синода — и тот спешно и оплошно распорядился откомандировать в Астапово старца… Бунин, неосновательно, по прихоти публициста, настаивая на инициативе самого Толстого в этом посланничестве, выдаёт “с головой” в лукавстве и себя, и свою церковь.
Тщетны были и есть все их ухищрения. Толстой не переставал любить Истину — до последнего дыхания будучи уверен, что оправдан перед Богом будет этой любовью, а не членством в той или иной из лгущих церкви.

* * * * *
Итак, Толстой скончался безо всяких покаяний за разрыв с Православной церковью и попыток примирения с ней. Насколько долгие годы его упорства в познании христианской Истины и следовании ей стоили перенесённых им от ближних и семейных страданий – нам и через столетие после его кончины, пожалуй, ещё рано решать. Новейшие же находки учёных-библеистов и философов и в наши дни свидетельствуют: стоили. Для самых пытливых мы приводим ниже выдержки из научной статьи 2016 г. одного из них, И.И. Евлампиева.
«Л.Н. Толстой остаётся уникальным явлением в истории русской религиозно-философской мысли; как никто другой, он выразил присущую ей интенцию противостояния церковной, догматической религиозности и поисков истинного христианства, утраченного в истории. Эта интенция всегда присутствовала в русской мысли, начиная с П. Чаадаева, однако русские мыслители XIX в. не противопоставляли с достаточной ясностью истинное и церковное христианство. Они либо отвергали вместе с церковным христианством религию как таковую, либо были вынуждены идти на компромисс с церковной религией и давали повод думать, что, отвергая одну форму церковной религии (Ф. Достоевский — католицизм, П. Чаадаев и Вл. Соловьёв — православие), они принимают в качестве истинного христианства другую её форму. Только Толстой ясно выразил главное во всей этой традиции: различие христианских конфессий несущественно по сравнению с их отличием от истинного христианства — вся церковная религия является грубым искажением первоначального учения Иисуса Христа.
Не удивительно, что церковные критики заняли по отношению к учению Толстого непримиримую позицию, отвергая даже намёк на то, что в нём действительно может содержаться какая-то истина, более глубокая и древняя, чем в церковном христианстве. Но и светские мыслители, современники Толстого, в большинстве своём весьма критично отзывались об этом учении, и это отношение сохраняется до наших дней. Современные исследователи продолжают утверждать вслед за философами начала ХХ в., что учение Толстого является «нехристианским», что оно больше похоже на восточные системы и поэтому имеет весьма небольшое значение в современных дискуссиях по поводу религиозного обновления, необходимого европейскому человечеству.
Мы попробуем не согласиться с этим почти общепринятым мнением и ещё раз рассмотрим вопрос о том, насколько справедливо убеждение Толстого, что в своём учении он возвращается к истинному, первоначальному христианству.
[…]
Обобщая высказывания всех, писавших о Толстом, можно так сформулировать главные черты его учения, каждая из которых оценивается критиками как не соответствующая христианству в его церковной версии.
1) Прежде всего отмечается индивидуализм Толстого в понимании истоков религиозности. Человек, по Толстому, должен в своём собственном опыте открыть путь к вере, к Богу и обрести истинную религию. Такое понимание оснований религиозности заставляет Толстого отрицать церковь как необходимую «среду» для обретения веры.
2) Главной из способностей, ведущих человека к Богу, является, по Толстому, разум. Именно с помощью разума человек должен осознать несовершенство, ложность своей обычной жизни в мире, жизни ради интересов своей личности и прийти к необходимости отказаться от блага личности ради соединения с Богом. Из этого вытекает однозначно осуждаемый «рационализм» Толстого, его стремление выразить суть своего учения рациональным образом. Многие критики считали, что рационализм Толстого «архаичен», связан с эпохой Просвещения и ведёт к примитивному, «механистическому» пониманию человека.
3) Важнейший элемент религии — понятие о боге. Все, писавшие о Толстом, утверждали, что в этой части его представления резко трансформируются от индивидуализма к безличности, универсализму и пантеизму. Человек, достигший Бога, должен слиться с ним и полностью утратить свою личность. Бог Толстого не имеет личного начала и является некоей безличной всеобщностью. В этом пункте традиционно фиксировалось наибольшее отклонение Толстого от христианства.
4) Поскольку Толстой признаёт достаточно простым и доступным каждому путь от низшей жизни к высшей, к слиянию с Богом, в его учении отсутствует глубокое осознание зла мира и греховности человека. Идея греха и грехопадения полностью отвергается им.
5) Поскольку путь к высшей, религиозной жизни человек осуществляет сам, своими силами, ему не нужен посредник и помощник на этом пути (идея самоспасения).
6) Это означает отрицание роли Христа как искупителя людских грехов и спасителя. Одновременно Христос отрицается в функции Логоса, второй ипостаси Бога-Троицы, в качестве метафизической силы, участвующей в творении мира.
Христос для Толстого — это не Бог, а человек, великий учитель, который принёс людям учение о возможности внутри земной жизни стать совершенными, соединиться с Богом.
7) То учение, которое принёс Христос, носит строго ригористический, моралистический характер, принуждает к определенному поведению, якобы гарантирующему совершенство. В этом смысле, как считал Н. Бердяев, Толстой сближается с иудаизмом как религией закона. Человек здесь теряет свободу и, как следствие, собственную личность.
8) Толстой не знает личного бессмертия, он утверждает только «родовое» бессмертие человека, в слитности с Богом-Разумом. Никакого телесного воскресения личности он не признаёт.
[…]
Насколько суждения критиков Толстого соответствуют действительности? Для ответа на этот вопрос обратимся к его собственным сочинениям: «В чём моя вера?», «О жизни», «Христианское учение» и «Путь жизни».
Толстой, действительно, отвергает церковь как необходимое условие веры и предполагает, что человек обретает религию за счёт того, что своим проснувшимся разумом оценивает жизнь и осознаёт её неправильной, требующей радикального преображения. «Человек начинает жить сам только тогда, когда знает, что он живёт. Знает же он, что живет, когда знает, что желает блага себе и что другие существа желают того же. Это знание дает ему пробудившийся в нём разум» (39, 123). Отмеченные в пунктах 1 и 2 идеи действительно присущи учению Толстого. Однако требует существенного уточнения понятие разума, которое использует Толстой.
Против того что Толстой понимает разум как формальный рассудок, отвечающий за познание конечных вещей, свидетельствует его негативное отношение к науке. Огромная ошибка критиков Толстого состоит в том, что его философские взгляды возводят к Просвещению, к прямолинейному рационализму и механицизму XVIII в., хотя из всего Просвещения Толстой уважал лишь Ж.-Ж. Руссо, да и то только за его этику. Философские основания своего мировоззрения он заимствовал из гораздо более глубокой и сложной традиции - из немецкой философии конца XVIII - начала XIX в. (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель) и из учения А. Шопенгауэра. А в этой традиции разум не только не совпадает с рассудком, со способностью к научному познанию, но прямо противопоставляется этой способности. Научный разум познаёт конечные отношения конечных вещей, но он не может дать постижение человека, его жизни и Бога, поскольку они бесконечны и радикально отличаются по своей сущности от всего конечного.
Такого рода противопоставление мы находим, например, у Гегеля, который отличал спекулятивный разум как высшую, интуитивную способность от абстрактного рассудка как низшей, дискурсивной способности.
Именно интуитивный разум позволяет человеку обнаружить в себе самом бесконечное начало, которое он признаёт Богом, и это начало является общим для всех людей, составляет сущность жизни, оно едино, универсально и не может быть определено как личность, поскольку такое определение ограничит его:
«Всемирное, невидимое начало... дающее жизнь всему живому, сознаваемое нами в самих себе и признаваемое в подобных нам существах — людях, мы называем душою, само же в себе всемирное невидимое начало это, дающее жизнь всему живому, мы называем Богом... Души человеческие, отделённые телами друг от друга и от Бога, стремятся к соединению с тем, от чего они отделены, и достигают этого соединения с душами других людей любовью, с Богом — сознанием своей божественности. В этом всё большем и большем соединении с душами других людей — любовью и с Богом — сознанием своей божественности заключается и смысл и благо человеческой жизни» (45, 13).
Толстой считает, что соединение с другими людьми и с Богом не имеет никаких радикальных препятствий и может быть осуществлено во всей полноте. Концепцию грехопадения, столь важную для ортодоксального христианства, Толстой категорически отвергает, считает её привнесённой из иудаизма и нарушившей целостность христианского учения. Точно таким же искусственным заимствованием из иудаизма он признаёт концепцию Творения мира и человека из ничего. Человек потенциально является совершенным и божественным существом, поэтому процесс единения с людьми и с Богом должен быть простым для подлинно религиозного человека, и он должен воспринимать жизнь как радостную и благую. Даже смерть не может помешать радостному восприятию жизни, поскольку для человека, соединившегося с Богом, смерть становится чем-то условным и второстепенным, он осознаёт свою вечность — такую же несотворённость и неуничтожимость, как Бог:
«Усилия самоотречения, смирения и правдивости, уничтожая в человеке препятствия к соединению любовью его души с другими существами и Богом, дают ему всегда доступное ему благо, и потому то, что представляется человеку злом, есть только указание того, что человек ложно понимает свою жизнь и не делает того, что даёт ему свойственное ему благо. Зла нет... Точно так же и то, что представляется человеку смертью, есть только для тех людей, которые полагают свою жизнь во времени. Для людей же, понимающих жизнь в том, в чём она действительно заключается, в усилии, совершаемом человеком в настоящем для освобождения себя от всего того, что препятствует его соединению с Богом и другими существами, нет и не может быть смерти» (Там же. С. 16).
Таким образом, те идеи, которые зафиксированы в пунктах 3 и 4, также присутствуют в учении Толстого; тем не менее решительное утверждение критиков Толстого, что при этом он совсем отрицает значение личности, нельзя признать правильным. Ведь для Толстого личность человека — это тот элемент нашего земного мира, в котором проявляет и «живёт» Бог:
«Душа — стекло. Бог — это свет, проходящий через стекло... Не надо думать, что живу я. Живу не я, а живет то духовное существо, которое живет во мне. Я — это только то отверстие, через которое проявляется это существо» (Там же. С. 41).
Наш мир не является иллюзией. Хотя он не имеет самостоятельного значения — его значение целиком определяется тем, что в нём возможно проявление Бога, — но раз Бог проявляется и «живёт» в нём, значит, он нужен Богу и значим в отношении Бога. Поэтому и человеческая личность при всей своей вторичности, неуничтожима и важна — ведь если человек сумеет правильно распорядится ею, не культивировать её конечную обособленность, а полностью отдать на «службу» Богу, то она приобретет божественный характер, в смысле инструмента для реализации божественных целей.
Как можно видеть, взгляды Толстого на личность гораздо сложнее, чем приписываемый ему «имперсонализм», полное отрицание личности. Но точно так же достаточно сложны и его взгляды на зло в жизни человека. Толстой отрицает существенность зла только по отношении к высшей жизни и только в восприятии человека, который полностью раскрыл в себе измерение высшей жизни. Но большая часть людей очень далека от этого, поэтому в их жизни зло является мощным фактором, который невозможно игнорировать:
«Страдания и смерть представляются человеку злом только тогда, когда он закон своего плотского, животного существования принимает за закон своей жизни... Если бы человек жил вполне духовной жизнью, для него не было бы ни страданий, ни смерти» (Там же. С. 450-451).
В интерпретации образа Иисуса Христа Толстой наиболее радикально расходится с ортодоксальной традицией, здесь критики Толстого безусловно правы (пункты 5 и 6). Однако остаётся под вопросом, какое понимание больше соответствует истинному христианству, исходному учению самого Христа.
Учение Христа показывает людям, как им надо жить, но можно ли свести его к системе чисто моральных требований, норм, как считают критики Толстого? Безусловно, нельзя! Христос дает «закон», который направлен на радикальное преображение жизни людей. Обычный моральный закон не может иметь такой цели, поэтому система моральных предписаний — это только внешнее и формальное выражение учения Христа, а его внутренняя сущность — это процесс раскрытия человеком в себе единства с Богом и со всеми людьми (о чем говорилось ранее), приводящий к переходу от низшей, животной жизни к жизни высшей, духовной. Такое уточнение смысла учения Христа в его интерпретации Толстым делает абсурдными утверждения о близости его взглядов к иудаизму, что было характерно для резкой, почти злобной, критики Н. Бердяева.
Особенно важно понять, как Толстой понимал идею бессмертия, поскольку эта идея имеет огромное, если не главное значение для христианства. Многие считали, что Толстой вообще отрицает бессмертие, основания для этого утверждения находят в книге «В чём моя вера?», где он резко критикует иудейскую идею личного телесного воскресения на Страшном суде: «...никогда Христос не только ни одним словом не утверждал личное воскресение и бессмертие личности за гробом, но и тому восстановлению мертвых в царстве Мессии, которое основали фарисеи, придавал значение, исключающее представление о личном воскресении» (23, 391). Но это вовсе не означает отрицания идеи бессмертия. По Толстому, Христос не мог проповедовать воскресение, так как в его учении, строго говоря, нет смерти, эмпирическая смерть, как и зло нашего мира реальны только для людей низшей жизни; для тех же, кто соединился с Богом и вошел в высшую жизнь, смерть становится иллюзорной и понятие воскресения теряет свой догматический (т.е. иудейский) смысл. Бессмертие есть вечная жизнь, а не воскресение после смерти, понятой как радикальное прекращение нашего существования. Прерывается смертью только внешнее, эмпирическое бытие человека, но его сущность, связанная с высшей, духовной жизнью, не имеет начала (т.е. не является сотворенной) и не может иметь конца.
[…]
Можно констатировать, что в части представлений о бессмертии критики Толстого в наибольшей степени искажали его взгляды, эти взгляды оказываются гораздо более сложными и неоднозначными, чем это принято считать. Толстой сам указывал на это и оправдывал тем, что вопрос о бессмертии и вечной жизни — самый трудный вопрос нашей жизни, и вряд ли кто-то рискнёт утверждать, что точно знает ответ на него.
[…]
В ХХ в. исследователи раннего христианства осознали необходимость пересмотра той модели истории, которая были навязана христианской церковью; согласно этой модели учение Христа было полностью принято церковью и получило адекватное раскрытие в её догматике и в ее богословии. Книга 1934 г. Вальтера Бауэра «Ортодоксия и ересь в первоначальном христианстве» стала первой попыткой более объективного подхода к истории, здесь было показано, что исходными формами христианского учения являлись как раз те, что были позже объявлены церковью ересью, а сама ортодоксия появилась не раньше середины II в.
Открытие в 1945 г. библиотеки гностических текстов в селении Наг-Хаммади в Египте дало новый импульс к пересмотру ложного понимания раннехристианской истории. Современные исследователи вынуждены признать, что в середине II в. в христианских общинах на равных конкурировали две тенденции – ортодоксальное учение, позже восторжествовавшее и ставшее государственной религией Римской империи, и гностическое христианство, которое церковь в III -IV вв. объявила ересью, но которое на деле восходило к учению Иисуса Христа и апостолов не в меньшей степени, чем ортодоксальная традиция. Но и этого мало: чем дальше продолжается исследование гностических текстов и чем глубже мы понимаем систему идей, заключённую в них, тем более становится очевидным, что именно эта система идей и является тем, что нужно называть исходным, истинным христианством, что именно в этих текстах и выражена суть собственного учения Иисуса Христа, а церковная, ортодоксальная традиция, оформившаяся только к середине II в., является искажением указанного истинного христианства, причём это искажение было связано с внедрением в учение Христа элементов иудейской религии, против которой это учение и было направлено.
В рамках этой гипотезы истинное (гностическое) христианство наиболее полно выражено в Евангелии от Иоанна и частично в посланиях ап. Павла (нужно учитывать, что эти памятники были существенно отредактированы во II в., чтобы выглядеть согласованными с ортодоксальной традицией), а также в таких древнейших апокрифических текстах, как Апокриф Иоанна, Евангелие от Фомы, Беседа Спасителя, Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии, Евангелие от Иуды, Евангелие Истины и др. (все они были созданы в I - первой половине II в.).
Оставляя в стороне аргументы защитников указанной гипотезы, в соответствии с которой Иисус Христос сам был «гностиком», обратимся к ключевым идеям так понятого истинного христианства, которые постепенно становятся известными благодаря изучению новооткрытых памятников.
Исходным пунктом учения истинного христианства является понимание Бога, резко отличающееся от принятого в ортодоксальной традиции представления о троичном Боге, трансцендентном по отношению к нашему земному миру. Здесь отношение Бога и мира понимается в рамках пантеистической модели: все сотворенные, конечные объекты имманентны Богу, в то время как он сам трансцендентен по отношению ко всему существующему, поскольку является НЕ-СУЩИМ Богом, т.е. не имеет характеристики существования. Так Бог описывается в двух наиболее значимых с философской точки зрения памятниках — в Апокрифе Иоанна и Евангелии Истины. Здесь подчёркивается непостижимость, немыслимость, непознаваемость Бога, который называется Отцом и Духом незримым. Совершенно очевидно, что такой Бог не может быть признан личностью, поскольку это определение ограничит его и сделает хотя бы частично понятным, познаваемым. «Единое — это единовластие, над которым нет ничего. Это Бог истинный и Отец всего, Дух незримый, кто надо всем, кто в нерушимости, кто в свете чистом, — тот, кого никакой свет глаза не может узреть. Он Дух незримый. Не подобает думать о нём как о богах или о чем-то подобном» (Апокриф Ин. 2: 25-35). Здесь принципиально подчёркнута абсолютная непохожесть Отца на «богов» или «чего-то подобного», т.е. «Бог истинный» противопоставляется иудейскому Богу и всем языческим богам, являющимся такими же личностями, как и человек.
Акт появления мира из Бога в апокрифических памятниках совершенно не похож на акт Творения в ортодоксальном учении, он больше напоминает процесс эманации: в Боге происходит выявление его неведомого внутреннего содержания и превращения его в существующий предметный мир. В мире, пришедшем к существованию, не-сущий Бог, Отец являет себя существующим через человека, т.е. человек есть тот же Бог, но предстающий в формах существующего мира. Такое понимание соотношения Бога и человека ясно выражено в Евангелии от Иоанна. Христос здесь подчёркивает своё единство с Отцом, но одновременно он провозглашает единство-тождество со своими учениками, а через них и со всеми людьми. «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:10). «Ещё немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моём, и вы во Мне, и Я в вас» (Ин. 14:19-20; курсив мой. - Д. Е.). «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 14:22-23; курсив мой. - Д. Е.).
Христос, точно так же как и каждый человек, в учении истинного христианства есть явление неведомого Бога в существующем мире: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:17). Еще более ясно этот тезис высказывается Иисусом в конце тайной вечери, когда на вопрос учеников о том, когда Христос «покажет» им Отца он отвечает: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его... Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?» (Ин. 14:7, 14:9). Слова Христа означают, что он, а вместе с ним каждый человек, есть полное и исчерпывающее «явление» Бога в мире, и никакого другого Бога существовать не может — помимо человека «есть» только несуществующий Бог.
Уже из этого описания видно, что учение Толстого, расходясь с ортодоксальным христианством, очень точно воспроизводит исходные принципы истинного христианства: Бог является неведомым, непостижимым и не обладающим личностью началом; человек есть конечное, эмпирически зримое явление Бога в земном мире и поэтому только в себе самом он может обнаружить Бога, осознать свое тождество с ним и начать жить божественной жизнью.
Рассматривая другие, не менее важные принципы гностического христианства, можно обнаружить столь же точное совпадение их смысла с содержанием утверждений Толстого. В Евангелии от Фомы путь к истинной жизни для человека описывается как отрешение от забот и целей земного мира, от нашей земной личности. «Если вы не поститесь от мира, вы не найдете царствия» (Фома 32). «Иисус сказал: Будьте прохожими» (Фома 47). «Иисус сказал: Тот, кто сделался богатым, пусть царствует, и тот, у кого сила, пусть откажется» (Фома 85). «Иисус сказал: Тот, кто нашел мир (и) стал богатым, пусть откажется от мира!» (Фома 114). Ту же мысль выражает известное высказывание Христа в Евангелии от Иоанна о необходимости для человека совершить «рождение свыше»: «...истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3).
Это всё вполне соответствует призыву Толстого к необходимости отречения от блага своей животной личности ради вхождения в высшую, божественную жизнь.
Тот факт, что высшая жизнь означает не только потерю своей личной определённости, но и панэнтеистическое соединение со всем существующим через слияние с божественной сущность всего, с Отцом, выражено в нескольких высказываниях из Евангелия от Филиппа; вот одно из них: «Но ты увидел нечто в том месте — ты стал им. Ты увидел Дух — ты стал Духом. Ты увидел Христа — ты стал Христом. Ты увидел Отца — ты станешь Отцом. Поэтому в этом месте ты видишь каждую вещь и ты не видишь себя одного. Видишь же ты себя в том месте. Ибо ты станешь тем, что ты видишь» (Филипп 44).
Войдя в высшую жизнь, человек осознаёт свою несотворённость, вечность: «Господь сказал: Блажен тот, кто существует до того, как он появился. Ибо тот, кто существует, был и будет» (Филипп 57). Та же самая мысль содержится в Евангелии от Фомы: «Иисус сказал: Блажен тот, кто был до того, как возник» (Фома 20). Соответственно, смерть становится для такого человека несущественной, иллюзорной. «Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, каким будет наш конец. Иисус сказал: Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале: и он познает конец, и он не вкусит смерти» (Фома 19).
Последнее не означает, что животная личность человека становится иллюзорной и что эмпирическая смерть есть некий «фантом». Здесь пролегает очень важная разделительная черта между истинным христианством и восточными религиями, полностью отрицающими и личную форму человеческого бытия и связанные с ней понятия зла, страдания и смерти. В христианстве всё сложнее, но именно поэтому реалистичнее: земная личность человека со всеми её негативными определениями, включая смерть, вторична по отношению к той высшей жизни, которую человек открывает в себе, сливаясь с Богом, но она не иллюзорна. Именно поэтому человек, вошедший в высшую жизнь, точно так же, как и не вошедший, живущий животной жизнью, должен переживать страдания и смерть, но отношение к ним у этих людей будут прямо противоположным. Человек животной жизни будет рассматривать страдания и смерть как трагические и ужасные детерминации своего бытия, но он так и не поймёт их истинный смысл. А человек, вошедший в высшую жизнь, принимает их как знаки своей причастности эмпирическому бытию, но правильно понимает их — видит их относительность, неспособность нарушить его сущностную причастность Богу, единой и благой жизни. Именно в таком смысле нужно понимать парадоксальные высказывания из Евангелия от Филиппа: «Язычник не умирает, ибо он никогда не жил, чтобы он мог умереть. Тот, кто поверил в истину, начал жить, и он подвергается опасности умереть, ибо он живёт» (Филипп 4). «Те, кто говорит, что Господь умер изначала и он воскрес, заблуждаются, ибо он воскрес изначала и он умер. Если некто не достиг воскресения вначале, он не умрет» (Филипп 21). Тот, кто живёт животной жизнью, и умирает как животное, не поняв глубокого смысла смерти; только человек, вошедший в высшую жизнь, т.е. «воскресший» в соответствии с христианским учением, правильно понимает свою смерть и принимает её как должное.
Поздние дневники Толстого полны суждениями о смерти и её благом характере, которые по своему смыслу точно соответствуют этому представлению.
Пожалуй, самое разительное совпадение между учением истинного христианства и учением Толстого касается понимания бессмертия. При всей драматической напряжённости и неоднозначности своих размышлений в конце концов Толстой приходит к тому же пониманию бессмертия, какое было характерно для гностического христианства. Эмпирическая смерть не прерывает земное бытие души, а только трансформирует его, душа продолжает жизнь в новой форме в земном мире. Но цепь перерождений — это низший, негативный вариант существования души; она должна познать себя, стать совершенной, соединиться с Отцом и выйти в вечность, в абсолютное бытие Бога. Вот как это описано, в мифологическом стиле, в Апокрифе Иоанна: «...после того, как она <душа> выйдет (из тела), её отдают властям, тем, которые произошли от архонта, и они сковывают её оковами и бросают её в темницу <в новое тело> и кружат её до тех пор, пока она не пробудится от забвения и не достигнет знания. И подобным образом, когда станет она совершенной, она спасена. <...> Эта душа должна следовать за другой, в которой есть Дух жизни. Она спасена через него. Её не бросают в другую плоть» (Апокриф Ин. 27 4-20). Можно сравнить это описание с цитировавшимся выше суждением о двух вариантах посмертного существования из «Пути жизни», чтобы понять существенное совпадение представлений Толстого с гностической моделью бессмертия.
[…]
Итак, мы должны признать безосновательными попытки развести учение Толстого с христианством, должны признать, что его учение, вопреки мнению известных критиков, подобных Зеньковскому, Н. Бердяеву, С. Булгакову, И. Ильину и др., является вполне точным и глубоким выражением истинного христианства, в то время как сами эти критики остались в рамках исторической, существенно искажённой версии христианства, в рамках того, что лучше называть иудео-христианством» (Евлампиев И.И. Лев Толстой и поиски истинного христианства в русской философии // Философские науки. 2016. № 8. C. 90-107).
Сам Лев Николаевич Толстой назвал бы эту иудео-христианскую веру — «языческим религиозным жизнепониманием». Он посвятил анализу его самого и его деструктивного влияния на христианский мир страницы своих сочинений «В чём моя вера?», «Религия и нравственность», «Царство Божие внутри вас…», «Отчего христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», «К духовенству» и ряд других, к которым мы уже предлагаем нашему читателю обратиться самостоятельно.
Быть может, новейшая гипотеза И.И. Евлампиева с единомышленниками о гностических текстах и не будет подтверждена дальнейшими открытиями науки. Это не важно. Настоящий путь торжества в мире Божьей истины, как указал нам Лев Николаевич — это путь от языческого и еврейского жизнепонимания, давно отжитого, а в наши дни вредного и опасного людям, к всемирному, божескому, как называл его Лев Николаевич, признавая полнейшим выражением такого жизнепонимания именно учение Христа. Пусть исторический Иисус, Иисус человек, окажется на самом деле в той же степени носителем иудейских предрассудков, в какой оставался носителем предрассудков (например, как мы видели, в отношении женщин) и Толстой-христианин. Важно — положительное содержание проповеди этих двух великих учителей человечества. Если мы видим на древней стене кем-то начертанное мудрое изречение, нам важен его смысл, а не имя начертавшего и не грязь и щербины стены… не так ли?
Христианская проповедь Толстого мало была понята и принята его современниками. Нас же — и бедствия современной жизни, и научные открытия буквально «против рожна» принуждают пересмотреть и отринуть стереотипные и не правдивые их критики. Мы не одним разумом постигаем актуальность и спасительность благовестия исповедника и старца, Яснополянского Льва. Мы чувствуем сердцем его правоту — даже если сознание наше ещё заполнено внушёнными в детстве суевериями и обманами церковной веры. И нравственные выводы наши В ранней версии «Войны и мира» Толстой, сам ещё не очистившийся в годы написания романа от этой лжи, даёт, по сути, именно такой образ верующего человека, делающего для себя такие нравственные выводы — в сцене великопостного говения в церкви Наташи Ростовой. Отрывок прекрасно, образно отвечает на вопрос тех, кто, заблуждаясь, связывает добрую жизнь «святых людей» с членством их в определённой церкви, а не личным нравственным усилием праведных людей жить по познанной ими Истине Бога. Этим светлым и мудрым отрывком мы хотим завершить самую большую по объёму, трудную и важную главу нашей книги.
«На Страстной неделе Наташа говела, но она не хотела говеть со всеми в приходской церкви. Она с няней отпросилась говеть особенно в известной няне особенной церкви Успенья на Плоту. Там особенный был священник, очень строгой и высокой жизни, как говорила няня. Няня была верный человек, и потому Наташу пустили с нею. Каждую ночь няня в три часа со свечой будила разоспавшуюся Наташу. Она испуганно — не проспала ли — вскакивала, озябшая, умывалась, одевалась и, взяв ковровый платок, — “дух смиренномудрия”, вспоминала каждый раз Наташа, — узлом завязывала его вокруг себя. И в одну лошадку, на пошевнях, они ехали к заутрене, иногда шли пешком по темным улицам и обледенелым тротуарам. В Успенье на Плоту, где уже дьячки, и священники, и прихожане признали Наташу, она становилась перед иконой Божьей матери, вделанной в зад клироса, освещённой ярким светом маленьких свечей, и, вглядываясь в кривое, чёрное, но небесно-кроткое и спокойное лицо Божьей матери, молилась за себя, за свои грехи, за свои злодейства, за свою будущую жизнь, за врагов своих и за весь род человеческий и особенно за человека, которому она сделала жестокое зло.
Иногда к иконе, перед которой стояла Наташа и которая пользовалась большою верою прихожан, проталкивались, несмотря на сердитую защиту няни, не имевшей смиренномудрия Наташи, проталкивались мещане, мужики, низкого сословия народ и, не признавая Наташу за барышню, били её по плечу, покрытому ковровым платком, свечой и шептали “матушка”, и Наташа радостно, смиренно своими тонкими похудевшими пальцами бережно устанавливала всё отлеплявшуюся свечу и скромно, как дворовые, прятала свои без перчаток руки под ковровый платок. Когда читали Часы, Наташа старательно вслушивалась в молитвы и старалась душою следить за ними. Когда она не понимала, что бывало чаще, когда речь шла о лядвиях и поругании, она что-то поддумывала под эти слова, и душа её в эти минуты ещё больше исполнялась умилением перед своею мерзостью и перед благостью неведомого Бога и его святых. Когда дьякон, знакомый ей как друг близкий, дьякон с русыми волосами, которые он, всякий раз далеко отставляя большой палец, выправлял из-под ризы, когда дьякон читал “миром господу помолимся”, Наташа радовалась, что она миром, со всеми одинаково, молится, и радостно крестилась и кланялась и следила за каждым словом о плавающих и путешествующих (тут она вспоминала ясно, спокойно всякий раз о князе Андрее только как о человеке, и молилась за него).
О любящих и ненавидящих нас — тут она вспоминала о своих домашних — любящих, и об Анатоле — ненавидящих нас. Ей особенно радостно было молиться и за него. Она знала теперь, что он был враг её.
И постоянно ей всё недоставало врагов, чтобы молиться за них.
Она причисляла к ним всех кредиторов и всех тех, которые имели дела с её отцом. Потом, когда молились за царскую фамилию, она всякий раз преодолевала в себе чувство сомнения: зачем так много молиться за них особенно, и низко кланялась и крестилась, говоря себе, что это гордость и что и они люди. Так же усердно молилась она и за синод, говоря себе, что она также любит и жалеет священствующий правительствующий синод. Когда читали Евангелие, она радовалась и ликовала, произнося предшествующие чтению слова “слава Тебе, Господи”, и считала себя счастливою, что она слышит эти слова, имеющие каждое для неё особое значение. Но когда отворялись царские двери и вокруг неё шептали набожно “Милосердия двери”, или когда выходил священник с дарами, или слышны были таинственные возгласы священника за царскими дверями и читали “Верую”, Наташа наклоняла голову и радостно ужасалась перед величием и непостижимостью Бога, и слезы лились по ее похудевшим щекам. Она не пропускала ни заутрени, ни часов, ни всенощной. Она падала ниц при словах “Свет Христов просвещает всех” и с ужасом думала о том святотатце, который бы выглянул в это время и увидал, что делается над их головами. Она помногу раз в день просила “Бога, владыку живота её” отнять у неё дух праздности... и дать ей дух... Она с ужасом следила за происходившими на её глазах страданиями Христа. Страшная неделя, как говорила няня, страсти, плащаница, чёрные ризы — всё это смутно, неясно отражалось в душе Наташи, но одно было ей ясно: “да будет воля Твоя* “Господи, возьми меня”, — говорила она со слезами, когда путалась во всей сложности этих радостных впечатлений.
В среду она попросила мать пригласить Пьера, и в этот же день, запершись одна в комнате, написала письмо князю Андрею. После нескольких брульонов она остановилась на следующем: “Приготовляясь к высокому таинству исповеди и причащения, мне нужно просить у вас прощения за зло, которое я сделала вам. Я обещала никого не любить, кроме вас, но я так порочна была, что я полюбила другого и обманула вас. Ради бога, для этого дня, простите меня и забудьте недостойную вас”. Это письмо она передала Пьеру и попросила его передать князю Андрею, который, она знала, был в Москве.
Певчие пели прекрасно. Благообразный, тихий старичок служил с той кроткою торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задёрнулась завеса; таинственный тихий голос произнёс что-то оттуда. Непонятные для неё самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство давило её.
“Научи меня, что мне делать, как мне быть с моей жизнью”, — думала она.
Дьякон вышел на амвон, прочёл о трудящихся, угнетённых, о царях, о воинстве, о всех людях, и опять повторил те утешительные слова, которые сильнее всего действовали на Наташу: “Сами себя и живот наш Христу Богу предадим”.
“Да, возьми же меня, возьми меня”, — с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь уже, а бессильно и преданно опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров и надежд.
Неожиданно, в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклонённые молитвы в Троицын день, и поставил её перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и стал на колени. Все сделали то же, хотя с некоторым недоумением. Это была молитва, только что полученная из синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.
Священник читал тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце.
Наташа всей душой повторяла слова общей молитвы и молилась о том, о чем молились все, но как это часто бывает, она, слушая и молясь, не могла удержаться, чтоб в то же время не думать. При чтении слов: “Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в Тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг к другу любовью”, — при этих словах ей вдруг мгновенно пришла мысль о том, что нужно для спасения отечества. Так же как в вопросе о долгах отца ей пришло на ум простое ясное средство исправить всё дело тем, чтобы жить умереннее, так теперь ей представилось ясное средство победить врага. Средство это состояло в том, чтобы действительно всем соединиться любовью, отбросить корысть, злобу, честолюбие, зависть, любить всем друг друга и помогать, как братьям. Надо всем просто сказать: “Мы в опасности, давайте отбросим всё прежнее — отдадим все, что у нас есть, — жемчужное ожерелье (как в «Марфе Посаднице»), не будем жалеть никого — пускай Петя идёт, так как он этого хочет, — и все будем покорны и добры, и никакой враг ничего не сделает нам. А ежели мы будем все ждать помощи, ежели будем спорить, ссориться, как вчера Шиншин с Безуховым, то мы погибнем”».
Влияние ложной, церковной веры здесь — и в храмовом идолопоклонстве, и в молитвах Богу, понимаемому, как личность, и в военно-патриотическом заблуждении Наташи… Истина же — в явившейся ей идее богослужения повседневного, не в церквях, не в особенных условиях, а во всей жизни человеческой. При таком богослужении — общем единении и любви, с преданием себя в волю Бога, с верой, а значит и бесстрашием — не станет между людьми ни вражды, ни войн. Это — действительный путь спасения каждого человека (в первую очередь, спасения сознания к христианскому жизнепониманию), и, в конечном счёте, спасение жизни и трудов всего человечества.
_________________
«ТАК И ХОДИШЬ
МЕЖДУ СУМАСШЕДШИМИ»
(Лев Толстой о науке и искусстве)
Есть только одна наука:
наука о том, как жить человеку.
Л.Толстой
Как бы ни менялось отношение Толстого к искусству, его оценки всегда были независимыми, искренними и порой беспощадными. Самостоятельность, недоверчи-вость, нежелание слушать ничьё мнение — вот главные особенности взгляда Толстого на искусство. Он позволял себе критиковать незыблемые авторитеты, как, скажем, Шекспира, и в то же время мог похвалить рассказ никому не известного сочинителя. Так, например, 6 февраля 1856 г. молодой Толстой был зван на обед в кругу писателей кружка «Современник». По пути к нему присоединился недавний знакомый. Писатель Дмитрий Васильевич Григорович, специально попросивший Толстого в течение обеда «удерживаться от нападок на Ж. Занд, которую он сильно не любил, между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции». И вдруг, воспоминает Д.В. Григорович, уже под конец обеда Толстой не выдержал: «Услышав похвалу новому роману Жорж Занд, он резко объявил себя её ненавистником, прибавив, что героинь её романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы ради назидания привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам» (Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х тт. Т. 1. М., 1978. С. 77).
В зрелом возрасте Толстой высказывался о не понравившихся ему вещах уже не столь резко, но часто с иронией. На вопрос о рассказах входящего в моду Леонида Андреева ответил: «Он пугает, а мне не страшно», а на вопрос доктора Андрея Степановича Буткевича, не читал ли он новую вещь Метерлинка «Монна Ванна», ответил вопросом же: «За что? Разве я что-нибудь сделал?»
Часто произведения одного и того же автора вызывали у него совершенно противоположные оценки, как, например, было с Мопассаном, роман которого «Жизнь» он всегда ставил очень высоко, а в 1894 году писал дочери, Татьяне Львовне, что ему «стал противен Мопассан своей нравственной грязью» (67, 59). В статье об этом французском писателе он вывел три условия «для истинного художественного произведения». Он пишет, что «из этих трёх условий: 1) правильного, то есть нравственного, отношения автора к предмету, 2) ясности изложения или красоты формы, что одно и то же, и 3) искренности, то есть непритворного чувства любви или ненависти к тому, что изображает художник, из этих трех условий Мопассан обладал только двумя последними и был совершенно лишен первого. Он не имел правильного, то есть нравственного, отношения к описываемым предметам» (30, 4).
Этими тремя основными условиями Толстой чаще всего руководствовался в оценке серьёзных художественных произведений, а о творцах облегчённой и массовой литературы, всегда популярной у читателей, Толстой выражался просто: «кормятся». Откуда появилось это слово — вспоминал его старший сын, Сергей Львович:
«Однажды в начале 90-х годов на концерте двух сестёр Кристман я встретил своего знакомого оркестрового скрипача Семёна Ивановича Столярова и спросил его, как ему нравятся сёстры Кристман.
— Ничего, — ответил он, — кормятся.
— Что вы этим хотите сказать?
— Да видите ли, я кормлюсь скрипкой, они — голосом. Много таких артистов и артисток. Вы, может быть, думаете, что они преданы святому искусству? Ничего подобного. Просто — кормятся.
Я рассказал этот разговор отцу. Ему понравился упрощённый марксизм Столярова, и он не раз применял его выражение “кормятся” ко многим писателям и художникам, особенно к тем, к которым был равнодушен или произведения которых ему не нравились. “Кормятся”, говорил он про них. Этим он как будто хотел сказать: а о прочем умолчим» (Толстой С.Л. Юмор в разговорах… С. 20).
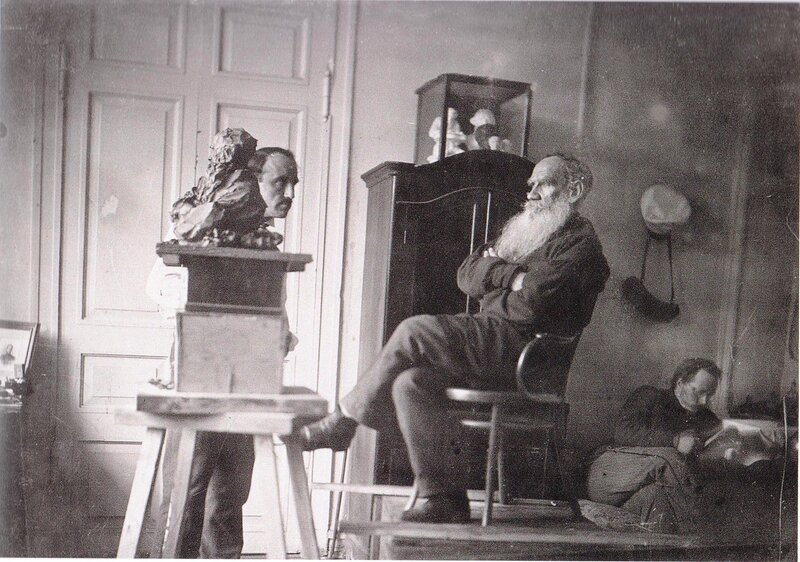
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 181; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
