Глава 3. Довоенные годы. Защита кандидатской диссертации.
Владимир Петрович
Шведов
Страницы жизни
К 100-летию со Дня Рождения
Владимир Петрович
Шведов
Страницы жизни
Санкт-Петербург
2008
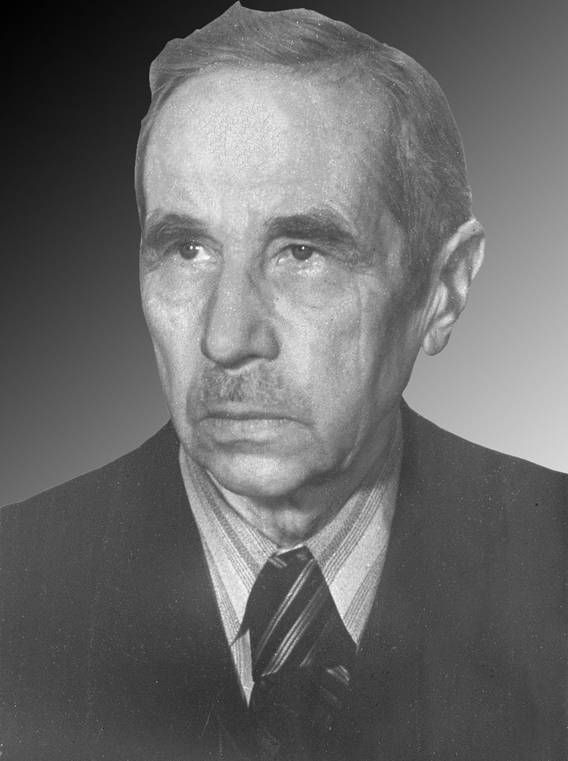
(1908 – 1998)
Введение
В течение своей жизни мне пришлось стать свидетелем многих событий, повлиявших на судьбу нашей страны и в большей или меньшей степени на другие страны мира.
Когда мне было шесть лет, началась в 1914 году Первая мировая война, в 1917 году произошли Февральская и Октябрьская революции, за ними последовала Гражданская война и годы ленинских и сталинских репрессий.
После перерыва страна вступила в период войн; в 1939 году началась финская война и военные действия по "освобождению" западных областей Белоруссии и Украины; в 1941. году - вторая мировая война и с ней один из страшных эпизодов- блокада Ленинграда; в 1950 году - корейская война.
Когда появилась смутная надежда, что в ближайшее время войн не будет, мы втянулись в афганскую, а затем в чеченскую авантюры.
В своих воспоминаниях я попытаюсь отразить, как эти события прямо или косвенно влияли на жизнь людей и, в частности, на мою собственную жизнь и на формирование моего мировоззрения.
В воспоминаниях я постараюсь избегать исторических оценок событий или философских обобщений, а попытаюсь нарисовать лишь отдельные картины прошедшей жизни, сохранившиеся в памяти.
Глава 1. Дореволюционные годы. Детство.
|
|
|
Я родился 16(3) января 1908 года в городе Санкт-Петербурге. Крещён в церкви св. Великомученицы Екатерины, что на Васильевском острове. Единственный сын.
Отец - Шведов Петр Михеевич родился в 1866 году также в С.-Петербурге. В семье кроме него было двое сыновей и одна дочь. В детстве у отца была неудачная операция, вследствие которой оказалась повреждена барабанная перепонка, и он всю жизнь плохо слышал. Учился он в училище технического рисования имени Штиглица, основанного в С.-Петербурге в 1879 году. До 1942 года сохранялись прекрасные карандашные рисунки отца. После смерти его отца, а мать умерла раньше, и отсутствия средств, он вынужден был оставить художественное училище и поступить учеником в переплетную гильдию города. После окончания учения он получил квалификацию переплетчика и диплом, отпечатанный на русском и немецком языках. По получении диплома он был принят на работу в Сенатскую типографию.
Сенатская типография, помещавшаяся в здании Правительствующего Сената, была основана Петром Великим в 1721 году. Число работающих в ней в 1902 году составляло 500 человек. Интересно отметить, что казна через ее посредство получала чистого ежегодного дохода в среднем 534000 рублей. При Сенатской типографии в 1903 году была организована врачебная часть, состоящая из врача, дантиста и фельдшера. В помещении I Сенатской типографии, для работающих в ней, устроена столовая. Обед из двух сытных (с мясом) блюд обходился рабочим в 13,5 копейки, а ужин из одного мясного блюда - 8 копеек. При типографии имелась библиотека. В 1901 году были открыты ссудо-сберегательная, и вспомогательная кассы. Для любителей пения и музыки в 1901 году - организован хор певчих и оркестр балалаечников. Для учеников в 1904 году закончили строительство дачи близ Сестрорецка.
|
|
|
В переплетно-брошюровочном отделении в 1902 году работало 65 человек, из них 14 учеников. Рабочий день начинался в 8 часов утра и кончался в 7 часов вечера с часовым перерывом на обед. Отец обычно, когда не было срочной работы, приходил на обед домой, зимой переходя через замерзшую Неву, в остальное время года – через, сгоревший впоследствии, деревянный дворцовый мост, начинавшийся у Сенатской площади.
В период Временного правительства, когда должны были состояться выборы в Учредительное собрание, отец собирался голосовать за кадетскую партию. К Октябрьской революции относился отрицательно, хотя и был членом профсоюза с 1905 года. Вероятно, это объяснялось не его политическими убеждениями, а экономическими причинами. Проработав около 40 лет в типографии, он имел право на получение пенсии в размере полного жалования, т.е., примерно, пятьдесят рублей в месяц, а революция оставила его практически без средств. За выслугу лет он в царское время получил сперва личное гражданство, а затем - звание "Потомственный почетный гражданин" и был награжден рядом медалей.
|
|
|
При советской власти он продолжал работать инструктором- переплётчиком в той же типографии, переименованной в школу-типографию им. Васи Алексеева. Во второй половине двадцатых годов несколько раз болел желтухой и лежал в больнице Марии Магдалины. В связи с ухудшением здоровья, в начале тридцатых годов уволился с работы.
Отец не курил, изредка, по воскресеньям в обед выпивал рюмку водки, но пьяным я его никогда не видел. Был вспыльчив, но незлоблив. По большим праздникам ходил в церковь, хотя и не был религиозным человеком.
Мать - Шведова (Смирнова) Анастасия Семеновна родилась в
С.-Петербурге в 1875 году. У нее было две сестры и брат, в молодости умерший от туберкулеза. Мать закончила приходскую школу, но писала грамотно и любила читать. Была религиозной. По разным, зачастую мелким причинам, плакала. Она часто болела и ходила по врачам.
|
|
|
В последние годы жизни у матери развился сильный атеросклероз, от которого она и скончалась в 1960 году в возрасте 85 лет.
Большой неприятностью, омрачавшей долгие годы жизнь родителей, было то, что по существовавшим церковным законам, они не могли обвенчаться, как родственники. Родственниками же они стали потому, что ранее, старший брат отца - Павел женился на старшей сестре матери - Софии. В то время дети невенчанных родителей считались незаконнорожденными, а это было по существовавшим тогда понятиям, большим позором. Детям приходилось в школе подвергаться насмешкам и издевательствам.
Через год, после тогда еще «фиктивного» брака моих родителей, у них родился и вскоре умер сын Александр и, спустя много лет, родился я. После многократных ходатайств, Синод разрешил венчание, уже перед моим поступлением в гимназию.
До 1918 года, мать, почти ежедневно, до позднего вечера, а иногда и ночами, помогала отцу, брошюруя и сшивая книги. В 1918-1922 гг. она работала в столовых общепита, сперва подавальщицей, а затем буфетчицей.
Мои детство, юность и молодые годы прошли на Васильевском острове, в небольшой отдельной квартире, где я жил вместе с родителями.
Из раннего детства возникают в памяти отдельные картины, эпизоды и впечатления, отрывочные и иногда не связанные между собой.
На сердце радостно. Ярко светит солнце, искрится снег, чуть поскрипывают полозья. Отец везёт меня через Неву с Васильевского на Петровский остров.
Сон смыкает глаза. В комнате тихий разговор, изредка возникают посторонние звуки: постукивание молотка, какие-то скрипы. Это работают отец с матерью.
У меня были мохнатый Мишка и маленький Мишук, к которому я относился как к ребёнку, как к существу слабому и беспомощному. Другое дело Мишка - это мой друг. Детскими огорчениями, обидами и главное мечтами я делился с ним. Мишку я фетишизировал и считал, что он не только мой друг, но друг могущественный, во власти которого управлять событиями и превращать чаяния в действительность.
В роли Мишки часто выступал и я сам. Когда мать расстраивалась, а это было очень часто, и вызывалось преимущественно нехваткой денег или кем-то, что-то неудачно сказавшим, она плакала, прижимала меня к себе и жаловалась. Я не всегда её понимал, но очень жалел и любил.
Мама считала, что у неё плохое сердце, теперь я понимаю, что это был невроз. В случае визита к врачу, она отводила и оставляла меня у тети Мариши – сестры отца. Тетя Мариша была не замужем и вела хозяйство большой семьи дяди Павла, который после смерти жены, остался с пятью детьми. Они жили на углу Среднего проспекта и Тучковой набережной в большой квартире. Кухня была с мансардой. Я помогал тете Марише стряпать. Она любила меня и почти не ругала, даже когда я уронил глиняный горшок с гречневой кашей и разбил его. Тётя Мариша мне ничего не сказала, а только погладила, чтобы успокоить. Были у неё темные волосы и темные глаза, небольшой румянец. Кончила она свою жизнь трагически. Во время революционных событий 1917 года у неё начались припадки, и она бегала за прислугой Дуняшей с утюгом или молча сидела в углу. Её пришлось отправить в психиатрическую больницу на Удельную. Моя мать дружила с ней, и вместе с матерью я навещал тетю Маришу в больнице. Она нас узнавала, радовалась нашему приходу, а потом начинала тихо плакать. Примерно через год она скончалась.
Мать в субботние и воскресные дни довольно часто ходила в церковь св. Великомученицы Екатерины и брала меня с собой. Мне ужасно не нравилось находиться без движения, и я приспособился стоять на коленях, откинувшись назад на ноги, что позволяло расслабиться и отдохнуть. С нетерпением ожидал конца богослужения и следил, какие поют молитвы. Когда начиналось: «Отче наш иже еси на Небеси…», я знал, что страдать оставалось недолго.
Тягостное и долго незабываемое впечатление оставляли похороны родных и знакомых, которые происходили на Смоленском кладбище. Тогда я очень боялся покойников. Особенно запомнились похороны дяди Гриши, младшего брата отца. Было мне тогда лет пять – шесть. Дядя Гриша работал в Синодальной типографии и мог набирать даже иероглифическое письмо. Рядом с его рабочим местом стоял бачок с бензином для промывки шрифтов. Кто-то бросил туда окурок, вызвавший взрыв, и, в возрасте сорока с чем-то лет, дядя Гриша погиб от взрыва.
Изредка мать возила меня в домик Петра Великого, где находилась чудотворная икона Христа Спасителя. Я хорошо знал все хранящиеся там вещи Петра I и обстановку его кабинета. При молебне горячо молился за папу и маму и чувствовал умиление.
Семейным праздником у нас считалось шестое декабря по старому стилю - день святого Николая Чудотворца, икона которого была семейной реликвией и переходила из рода в род. Перед этим праздником производилась генеральная уборка квартиры: мылись полы, постилались чистые половики и новые скатерти, менялось бельё, зажигались лампады. Утром выносилась и ставилась на стол икона. Днем приходил священник и служил молебен. Горели свечи, было очень торжественно.
На Рождество всегда покупалась ёлка, в украшении которой я принимал посильное участие. Когда были деньги, покупали копченый свиной окорок и запекали его в тесте. На масляной неделе пекли блины из дрожжевого теста, которые подавали с растопленным маслом, сладким творогом и сметаной.
В Великий пост мать, отец и я говели, исповедывались и причащались. Чаще всего это было на четвертой неделе поста. На страстной неделе ходили на чтение двенадцати евангелий, прикладывались к плащанице.
В заутреню ходили в церковь, иногда в «домовую» при Елисеевской богадельне или в университетскую. Красили яйца, мать пекла куличи не менее 12 -13 штук. По мнению родных и знакомых они получались очень хорошими. Пасху мама делала вареную и тоже не одну. Сырую пасху, которая была отменного качества, но скоро портилась, брали в кондитерской на 1 линии В.О.
Куличи и пасхи святили по одной штуке каждого вида, выставляя их на фанере вдоль тротуара, идущего от церкви по Кадетской линии, и священник с дьяконом окропляли их святой водой. Однажды, отец пришел крайне рассерженный и возмущенный – дьякон или священник наступил на пасху.
В рождественские и пасхальные дни мы отправлялись всей семьёй поздравлять с праздником родственников: кого в первый, кого во второй день.
Обычно адресов было два: семья Эль, состоящая из четырёх человек, и семья Шведовых - из семи человек. Я должен был подойти, шаркнуть ногой, не подавать первым руки и, когда со мной поздороваются, поднести яйцо (в Пасху). По неписаному ритуалу, помимо угощения, мне вручали шоколадное яйцо и один рубль денег, который я дома всегда отдавал матери.
В день моего рождения 16(3) января у нас бывали гости. Собирались все родные, а иногда и близкие знакомые. Например, приходили к нам братья мужа маминой сестры, крещеного караима (в крещении Бориса Владимировича), Исаак Ильич и Яков Ильич.
Впоследствии, Исаак Ильича, как бывшего нэпмана, должны были расстрелять, но его спасла жена или возлюбленная Зельма. За взятку она добилась, чтобы его признали душевнобольным, и увезла его в Ригу. Яков Ильич позднее стал директором табачной фабрики «Дукат» в Москве. Дальнейшая судьба их неизвестна, так как со временем все связи с ними прервались.
Кроме календарных праздничных дней отец и мать периодически отправлялись в гости к маминой сестре Марии Семёновне и её мужу – Борису Владимировичу. Жили они напротив, на 1-ой линии Васильевского острова. Семья была зажиточной, особенно по сравнению с нашей бедной семьёй. Глава семьи работал по приёмке гастрономических товаров в Торговом порту и зарабатывал более 300 рублей в месяц. Встречала всегда прислуга, странно даже тогда было слышать: «Барин, раздевайтесь». Игралграммофон. Гости были разнородные, детей не было. Приходила дама, накрашенная и напудренная, содержанка Бориса Владимировича, которую в домашнем кругу называли Елизавета. Тетя вынуждена была принимать её, а на другой день плакала, сидя у матери.
Тогда я не понимал, что участь женщины – жены, не имеющей никакой специальности, очень незавидна. Она была бесправна и, в случае развода, оставалась без всяких средств к существованию.
После недолгих разговоров шли к столу. На столе стояли разнообразные колбасы, обязательно копченый, украшенный всякой зеленью, сиг, стояли бутылки с различными заграничными винами. Пьяных я не припомню. После застолья переходили из столовой в гостиную и до поздней ночи играли в лото или в карты. Мне было скучно, но, когда я подрос, мне тоже давали карты для игры в лото и мелкие деньги.
Когда я заболевал, меня укладывали в постель и вызывали врача. Домашним врачом был господин Даль, пожилой немец, живший на 2-ой линии вместе с экономкой. Он был небольшого роста, одет в черный поношенный костюм. За визит он брал с бедных по 1 рублю, с зажиточных - по 3 рубля. В случае простуды прописывал аспирин, обязательно сильно пропотеть и после этого сменить бельё. При желудочных явлениях универсальным средством была касторка. Из более серьезных болезней я в детстве перенёс ветряную оспу.
В повседневной жизни большую роль играл двор-колодец в доме старой постройки. Почти все жильцы, независимо от иерархии, выпускали своих детей во двор. Были среди детей споры, были недоразумения, но никогда не было драк или хулиганства. Никто потихоньку не курил. Играли в прятки, в пятнашки, в «фантики». Каждый «уважающий себя» ребёнок имел коллекцию фантиков, среди которых были и редкие экземпляры. Фантики служили не только для игры, но являлись и предметом торга и обмена. При обмене яростно торговались, пока не приходили к мирному соглашению. Когда стали немного постарше, выходили на Средний проспект (движение было незначительным) играть в лапту. Окна нашей квартиры выходили во двор, и мать всегда могла следить за мной и звать домой к обеду.
Вспоминается один трагикомический случай. У нас жила молодая собака, нечистопородный гладкошёрстный фокстерьер по кличке Чарли. Погода была хорошая, и окно было открыто. Чарли лежал на подоконнике, наблюдал за нашей игрой и повизгивал. Вдруг неожиданно для нас, да, вероятно, и для себя тоже, он выпрыгнул из окна, упал и жалобно завизжал. При падении Чарли разбил себе морду и передние лапы. Я бросился к нему, подхватил на руки и понёс домой.
Когда на улице было холодно, или в тёмную пору года, я любил сидеть дома и играть в солдатики. Я никогда не просил денег на покупку сладостей, но приобретение солдатиков мне всегда доставляло большую радость. Уж больно хорошо они были оформлены. Например, англичане были в колониальной форме и шлемах песочного цвета, французы – в синих мундирах, кепи и красных штанах, индейцы – с перьями на голове, в мокасинах и с томагавками. Этих солдатиков изготавливали за границей не из олова, а из какого-то сплава.
Летом я с матерью уезжал на дачу. Средств было мало, но мы всегда снимали комнату в избе в окрестностях Петербурга. Сперва мы жили в Сергиево. Вспоминаются хождения в Сергиевский монастырь. Тогда там было несколько церквей. Монастырские служения протекали при большом скоплении народа. У ворот монастыря приходящих угощали бесплатно хлебным квасом и чёрным хлебом. Стояло по бокам аллеи, ведущей к храмам, много нищих. На монастырском кладбище были богатые захоронения с художественными памятниками, в частности, там были памятники временщикам Екатерины II Валериану и Платону Зубовым.
Несколько позднее мы жили в деревне Павкуля, расположенной на Ропшинском шоссе в 8 верстах от Стрельны. За вещами приезжал, а осенью отвозил их обратно, хозяин избы чухонец Андрей Михайлович. Обычно от вокзала ходили пешком. Проходили через немецкую слободу, где поражала зажиточность населения и наличие сельскохозяйственных машин. Затем шли через владения Великого князя Николая Николаевича, дяди царя. В деревне Павкуля лавки не было. За хлебом, солью и некоторыми другими продуктами ходили в д. Разбегаевка в 1,5 верстах от д. Павкуля. Масло, мясо и многое другое привозил в субботу отец. Нанимать телегу или двуколку он не мог и тащил поклажу 8 верст на себе. Молоко брали на месте, у всех хозяев были одна или две коровы. Через дорогу от нас проживало семейство Эль. Глава семьи приезжал, конечно, на кабриолете. Купаться ходили на речку Стрелку, в то время она ещё была с чистой водой. За земляникой и брусникой отправлялись в лес. Собирать ягоду можно было только до «стрелковой линии», дальше которой находился фазаний заповедник. Конечно, собирали и за линией, но если ловил егерь, то он вежливо заставлял высыпать ягоду. Пастухи иногда продавали убитых палкой фазанов. Однажды я увидел за домом маленьких, хорошеньких цыплят, но, когда я привел мать посмотреть на них, то фазаниха их уже увела. В деревне я ходил босиком, играл с деревенскими ребятами. Говорили в основном по-чухонски, иногда дрались, жаловались, что я кому-то пробил голову камнем, в свою очередь, у меня был сильно разбит кирпичом подбородок. Но всё это не мешало нам играть вместе.
С нашей собакой Чарли вечно случались неприятности, то лошадь вышибала ей зубы, то мальчишки ранили перочинным ножом. Зимой Чарли пропал, к весне отец завел новую очень симпатичную внешне собачку, которую назвали Нелли. Весной, когда отец вез её на дачу, она так на него набросилась, что пришлось её убить. Отец, вернувшись в город, отдал труп собаки в Пастеровский пункт. Исследования показали, что собака бешеная. Отцу, вместо отдыха, пришлось делать прививки.
В день рождения Бориса Владимировича устраивался настоящий праздник: летели ракеты, вертелись «колеса», горели бенгальские огни, прыгали «лягушки». Отдых в деревне не обходился и без моих шалостей, носивших иногда агрессивный характер. На нашей территории параллельно шоссе была неглубокая, но достаточно широкая яма. Для хозяйственных целей из неё брали суглинок, а я много времени проводил в этой яме, воображая себя индейцем. Как у всякого индейца, у меня были лук и стрелы (правда, самодельные). Однажды, по другую сторону шоссе, вдоль канавы ехал на велосипеде мой двоюродный брат Шура, было ему тогда 22 года, а мне 6 лет. Я замаскировался в яме, хорошо прицелился и выстрелил ему в голову. Он отклонился, потерял равновесие и полетел в канаву, я же праздновал победу над поверженным врагом. Мне тогда здорово попало.
Летом 1914 года началась Первая мировая война. В народе царили патриотические настроения, подогреваемые прессой, которые не минули и нашу семью, и, конечно, затронули моё мальчишеское воображение. Мы собирали фантики с изображением казака «Козьмы Пруткова», заколовшего много немцев, разыгрывали баталии солдатиков. Для меня явился событием приезд в деревню в 1915 году моего двоюродного брата Кости Шведова. Он приезжал проститься перед отправкой на фронт. Был он в новой офицерской форме с погонами, и у него была остро отточенная шашка, которой он срубал ветки. Потом я его видел и слышал его рассказы о войне в 1916 году, когда он приезжал в Петроград после ранения, контузии и отравления хлором. Запомнился его рассказ о неудачной атаке противника ротой, которой он командовал. Предвидя неудачный исход атаки без огневой поддержки, он обозвал подполковника, отдавшего этот приказ, дураком, и, чуть не угодил под суд. Атака же закончилась тем, что под сильным огнем, они залегли в поле среди трупов, и всю ночь слышались крики раненых и умирающих. За боевые заслуги Костя был награждён орденом «Владимира с мечами», дающим право на личное дворянство, и другими орденами. О его дальнейшей судьбе я знаю из рассказов его отца и старшей сестры. В конце 1916 года он был направлен командованием на строительство мурманской железной дороги, проводившееся силами военнопленных. Впоследствии, он участвовал в белом движении. Командовал полком в чине подполковника, был членом «Георгиевской думы», на предложение англичан выехать за границу - отказался, и погиб где-то в районе Медвежьей горы.
Другой мой двоюродный брат - Шура Эль, с которым я был близок с детства, окончил Владимирское юнкерское училище. Летом 1917 года Шура не смог приехать в деревню, чтобы поздравить меня. Он прислал мне открытку, которая сохранилась до сих пор, в ней он писал, что его задержали июльские события в Петрограде и, что он ждет отправки на фронт. На фронт он не попал, остался в Петрограде в качестве командира Красной Армии и занимался обучением призывников в бывшем Кадетском корпусе. Когда его родители уехали из Петрограда, он жил у нас. Однажды, когда Шура шел в казарму, я привязал к хлястику его шинели верёвку с бумажным пакетом на конце. По счастью у него обошлось без дисциплинарного взыскания. Благодаря мне он попал только в неудобное положение.
По приезде с дачи в Петроград в 1915 году, меня отдали в частную подготовительную школу. В классе было, если мне не изменяет память, примерно 10-12 человек. Уроки вела пожилая учительница. Подготовка велась по чтению, письму, четырём правилам арифметики и закону Божьему. С собой мне давали небольшую закрытую корзиночку с завтраком и небольшую керамическую бутылочку из-под ликёра, содержащую кофе с молоком. Однажды, перед началом уроков, я то ли по наущению кого-то, то ли самостоятельно, во все чернильницы врезанные в столы добавил в чернила кофе с молоком. Эффект был потрясающим – никто не смог писать. Виновника нашли, и мне сильно попало. Осенью я сдал вступительные экзамены в Петроградскую Ларинскую гимназию. На Васильевском острове тогда было несколько гимназий, часть из них - казённые, а часть - частные, кроме того, были реальные и коммерческие училища. Среди частных гимназий славились гимназии Мая и Шаффе, но плата за обучение в них по тем временам была очень высокая. В Ларинской гимназии плата зависела от того, были ученики пансионерами, полупансионерами или приходящими. Приходящие в 1915 году должны были платить 60 рублей (не помню за полугодие или за год). На вступительных экзаменах, которые были, в известной степени, конкурсными, я получил две пятерки и одну тройку и был принят в подготовительный класс. Приготовишек ученики старших классов дразнили: «Приготовишки - мокрые штанишки». На уроки необходимо было являться в строгой черной форме с черным ремнем и пряжкой с буквами ПЛГ. Перед отправкой меня в гимназию мать плакала, так как не было денег на покупку формы. Она сшила мне брюки из старой юбки. Форменное пальто мне не покупали - разрешалось ходить и в обычном пальто. Купили мне лишь темно-синюю с белой окантовкой фуражку с эмблемой (буквами ПЛГ из меди). Занятия начинались с молитвы. В предпраздничные дни нас строем водили в «домовую церковь» при гимназии. Стояли рядами по классам, преподаватели в мундирах стояли отдельно, впереди - директор школы Аркадий Андреевич Мучин. На некоторых уроках было скучно, и я удалялся на заднюю парту играть в солдатики. Однажды я так увлекся, что не заметил, как подошел отец Василий, который вел уроки закона Божия, и попросил отдать ему солдатиков. На перемене он подозвал меня к себе, погладил по голове, отдал солдатиков и сказал: «Не играйте больше в солдатиков на уроках». Интересно отметить, что одновременно со священником для православных приходили раввин для евреев, пастор для лютеран и ксендз для католиков. Насколько мы могли судить, а проходили мы Ветхий завет, большой разницы в содержании уроков у нас и евреев не было. Среди учеников различий между национальностями и сословиями не было, сказывалось только имущественное положение родителей. Дети более состоятельных родителей имели мундиры из тонкого сукна и были более выхолены. Достаточно сказать, что я дружил с бароном Тизенгаузеном, скромным, тихим, белобрысым мальчиком.
Другим моим товарищем был Валя Осипов, с которым мы встречались и после уроков, возились, боролись. К первым классам относится и моя неуёмная неорганизованная страсть к чтению. Я читал произведения Фенимора Купера, Майн Рида, Луи Буссенара, Луи Жаколио, бульварные брошюры про Шерлока Холмса и Ната Пинкертона. Как и ряд моих товарищей, собирался бежать в Америку. Ходили в обнимку и шепотом обменивались своими планами побега. В классе пользовались авторитетом сильные и ловкие мальчики, но считать их лидерами было нельзя. В первых двух классах я был тихим спокойным мальчиком, учился нормально и переходил из класса в класс. Февральская революция застала меня в первом классе. Слышалась редкая стрельба. Проезжали грузовики с вооруженными людьми. Ощущалась всеобщая радость и воодушевление, реяли красные знамёна, всюду были лозунги «Вся власть Учредительному собранию», «Война до победного конца». На перекрёстках вместо полицейских следили за порядком студенты с красными повязками на рукавах. На фронт посылали пополнение, готовился «Брусиловский прорыв». На вокзале провожал вместе с родными двоюродного брата вольноопределяющегося Васю Эль. Товарные вагоны и эшелоны были набиты весёлыми, поющими солдатами с красными бантами. Гремел военный оркестр.
Глава 2. Юность.
В 1920 году я был переведен в 204-ю трудовую школу (бывшую Филологическую гимназию), которую окончил в возрасте 16 лет в 1924 году, В том же году; по путевке союза печатников, которую выхлопотал отец, после сдачи экзаменов, поступил на химическое отделение физико-математического факультета Ленинградского Государственного университета. В университете помимо химии увлекся минералогией и кристаллографией. Увлечение было таким сильным, что я едва не перешел на геолого-почвенный факультет. В этот период было положено начало коллекции минералов, которую я собирал на протяжении примерно двадцати пяти лет. В 1930 году, после слияния химических факультетов университета, Политехнического и Технологического институтов был переведен в Технологический институт, который окончил 1 февраля 1931 года.
В 1927 году я женился на Евдокии Андреевне Бондарь, 1908 г.рождения. Она была сирота и воспитывалась у тети. Её родители умерли в б. Самарской губернии, во время голода в Поволжье. Брак был неудачным. Мать наотрез отказалась принять в свой дом молодую невестку. Через год мы разъехались, но продолжали встречаться. После моей демобилизации мы некоторое время жили вместе. В январе 1934 года родилась дочь Елена. Еще до рождения дочери мы вновь разъехались. Без ссоры, по обоюдному согласию, в декабре 1934 года, мы оформили развод. В конце 1977 г. Евдокия Андреевна скончалась.
Материальные потребности в этот период вынуждали заниматься репетиторством и принимать участие в экспедициях. Так, в 1929 году, я участвовал в гидрологических изысканиях в Маньчжурии.
По окончании института я был направлен на стекольный завод «Дружная Горка», где проработал в должности заведующего пирометрической и заместителя заведующего химической лаборатории вплоть до призыва в Красную Армию. Служил в Красной Армии в отдельном химическом батальоне.
23 октября 1932 года окончил школу одногодичников и был демобилизован. После демобилизации работал научным сотрудником Ленинградского отдела Всесоюзного института местных строительных материалов, а по ликвидации отдела перешел на образивный завод «Электрит».
В 1933 году после неудачной административно-производственной деятельности на заводе «Электрит» необходимо было устроиться на работу.

 Школа №204 Год окончания школы и послупления в Университет (1924 г.)
Школа №204 Год окончания школы и послупления в Университет (1924 г.)
Гидрологические изыскания ПадьДаика (1929 г.)
 Заведующий пирометрической лабораторией (1931 г.)
Заведующий пирометрической лабораторией (1931 г.)

С супругой (1937 г.)
Одним из самых близких товарищей по университету был Игорь Рудольфович Молькентин. Всегда подтянутый, хорошо одетый, доброжелательный, он заметно отличался от тогдашней молодёжи. Ездил на скачки, играл в преферанс с друзьями из Горного института. Жил он на 8 линии В.О. в хорошо обставленной квартире со старшей сестрой Верой Рудольфовной и матерью. Впоследствии, он женился на дочери известного профессора Горного института Б.И.Бокий Тамаре Борисовне.
Игорь в это время работал научным сотрудником 1-го разряда во Всесоюзном институте экспериментальной медицины. Он сказал, что во ВИЭМе создаётся новый отдел «Реконструкции методов гигиены» и обещал познакомить с его будущим руководителем - доктором медицинских наук, профессором П.Н.Ласточкиным. Павел Николаевич встретил меня очень любезно и согласился принять на должность научного сотрудника II-го разряда.
Отдел размещался в здании главного корпуса 1-го медицинского института. В отделе работали пять человек и, по совместительству, профессор А.Н.Никитин - специалист по профгигиене. В отделе, наряду с разработкой приборов, занимались лечением простудных заболеваний. В то время получило распространение лечение хлором в малых концентрациях. Я отвечал за создание терапевтических концентраций хлора в камере. За терапевтическим эффектом наблюдали, приглашённые в качестве консультантов профессора М.Д.Тушинский и М.В.Черноруцкий. Ввиду того, что статистические данные показывали, что сварщики металла гораздо реже болеют гриппом, П.Н.Ласточкин предположил, что причиной служит выделяющийся при сварке озон. Кроме того, озон применялся при окончательной очистке воды. Поэтому пришлось приступить к получению озона и определению его концентрации в воздухе. Первоначально использовал реакцию взаимодействия перекиси бария с концентрированной серной кислотой с последующей очисткой выделяющегося озона. Не обошлось без неприятного происшествия. Однажды лопнула колба и пары серной кислоты и SO3 стали распространяться по территории клиники больницы Эрисмана. Пришлось отказаться от химического получения озона и построить электроозонатор. Отдел просуществовал менее года и вопрос об его закрытии возник при переводе ВИЭМ в Москву. За период существования лаборатории я опубликовал три небольшие работы. Для решения вопроса о возможностях передислокации лаборатории или её закрытия дирекция тщательно знакомилась с результатами её деятельности. Решение о закрытии было связано частично с неудовлетворённостью директора деятельностью П.Н.Ласточкина. Я отправился защищать шефа к главе института профессору Н.Д.Бушмакину, ученику И.П.Павлова. Он внимательно выслушал меня и спросил: «Как бы Вы поступили, если бы во время показа протоколов экспериментальных данных, П.Н.Ласточкин тут же вносил в них поправки?» Перед таким неотразимым доводом я вынужден был замолчать. Несколько позднее, профессор Н.В.Красовская предложила мне перейти в её лабораторию и ехать в Москву, но, поблагодарив её, я отказался.
В 1933 году на курсах переподготовки начсостава мне пришлось вести занятия по курсу военно-химическое дело. Занятия с командирами запаса, работающими в ГИПХе и ГИВДе, проходили в кронверке Петропавловской крепости в стенах Артиллерийского музея. В связи с уходом из ВИЭМа, я принял предложение одного из слушателей (Клебанского) работать в ГИПХе. После соответствующих переговоров был зачислен старшим химиком по теме 115. Задания сменялись одно другим, сконцентрироваться на решении того или иного вопроса было нельзя, и работа перестала меня удовлетворять. Об этом периоде вспоминаются лишь отдельные моменты. Летом наладил производство в значительных количествах КHF2 (~ 20кг), нужный для получения фтора электролизом, при этом, в течение всего рабочего дня, был вынужден дышать парами H2F2. Позднее, при получении фторсульфоновой кислоты, вспыхнула масляная баня, и загорелся деревянный вытяжной шкаф, ликвидировать пожар пришлось самому. Осенью необходимо было проверить реакцию жидкого фтора с водой. Для этого я поместил эксикатор с водой в специальный шкаф со стенками из асбеста и проволочной сетки, надел прочный передник на халат, на противогаз - шлем для фехтовальщиков и на руки – резиновые и парусиновые перчатки. Взял гусёк, содержащий
~ 10 г F2 и влил фтор в воду. Раздался сильный взрыв, эксикатор разлетелся на мелкие осколки. Ломились пожарники, но, по условиям работы, их не пустили. Закончив опыт, снял с себя все «доспехи». Подошли другие сотрудники и, неожиданно для всех, произошел небольшой взрыв, напоминающий по звуку пистолетный выстрел. В результате этого инцидента я чуть не потерял зрение. Оказалось, что под влиянием влажности воздуха разлетелся в мелкую пыль гусёк, на стенках которого были следы фтора. Получение фторпроизводного люизита, которым мне пришлось заниматься впоследствии, прошло благополучно, хотя пришлось иметь дело со взрывоопасными ацетиленидами.
Ещё один случай, который мог привести к несчастию. Дипломант ЛГУ Нусберг перегонял диэтиловый эфир, при этом произошёл взрыв и пожар, охвативший часть помещения. Помню два своих движения: первое, инстинктивное, когда я бросился к двери и второе, сознательное, когда я вернулся и схватил с горящего стола бидон с бензином.
Глава 3. Довоенные годы. Защита кандидатской диссертации.
Наряду с лабораторными происшествиями, случилось событие, повлиявшее на всю мою дальнейшую жизнь. В лаборатории работала Тамара Трифоновна Козлова, которая, как оказалось, жила напротив нашего дома (Съездовская 25/10) и мы, сперва изредка, а позднее всё чаще стали ходить вместе домой. В тот период ещё все сотрудники, невзирая на возраст и служебное положение, обращались друг к другу на «Вы» и по имени отчеству. В начале весны с очень большим трудом мне удалось уйти из Государственного института прикладной химии. С 1 июня 1934 года я стал ассистентом кафедры гигиены Ленинградского Государственного Педиатрического медицинского института. Невзирая на это, мы продолжали встречаться с Тамарой Трифоновной, ходили в театр. В декабре 1934 года я лежал в институте профзаболеваний, и меня навещала Тамара Трифоновна. Она рассказала, что вместе с толпами ленинградцев ходила на прощание с убитым 6 декабря Сергеем Мироновичем Кировым. 19января 1935 года в крещенский сочельник мне необходимо было съездить на платформу «Строганово», на завод «Дружная Горка», чтобы договориться о получении химического стекла. Погода была морская, но хорошая, и я пригласил Тамару Трифоновну поехать со мной. Командировка на завод прошла успешно, но времени пришлось потратить довольно много. Как выяснилось, поезда вечером идут только от Сиверской, транспорта никакого не было, и я предложил Тамаре Трифоновне идти через лес по малознакомой, зимней, заснеженной дороге (приблизительно 8 – 10 км). По счастью, мы не заблудились, но на поезд попали около 23 часов. Дома, у её родителей было состояние близкое к паническому.
Летом мы с Тамарой Трифоновной решили поехать на родину заведующего хозяйством Педиатрического института А.Шагаева в деревню Замошье, расположенную невдалеке от озера Селигер. Тамара Трифоновна пригласила ехать с собой свою подругу О.Харитонову, вместе с которой они сняли комнату, я поселился невдалеке в другой избе. В Замошье с Шагаевым ходили на охоту, сами отливали дробь, я делал порох, но охотничьей собаки не было, и мы никого не выследили. Как-то раз, мы возвращались с охоты усталые, повесив ружья на плечи, когда к нашей досаде буквально у нас из-под ног выскочил заяц. Ездил с Тамарой Трифоновной и её подругой кататься по озеру на лодке, а заодно и рыбачить на дорожку. Один раз вытащил небольшую щуку, а другой раз подводил, отпускал, снова подводил и отпускал, пока не выловил большой пук сплетенных водорослей. Однажды, пошли на ночь с местным стариком и подростком ловить раков на «смольё». Один из нас светил, другой, зайдя в воду по колено, ловил, третий - собирал выброшенных на берег раков. Наловили на троих около 20 килограммов.
Вскоре, после возвращения в Ленинград, мы с Тамарой Трифоновной поженились. В октябре зарегистрировали брак, а примерно через 10 дней венчались в Николо – Богоявленском соборе, несмотря на возможность тех или иных репрессий со стороны властей.
Тамара Трифоновна родилась в 1913 году и проживала с родителями. Ее отец - Козлов Трифон Яковлевич, 1880 года рождения, белорус, до революции был служащим телеграфного агентства, после революции переквалифицировался на токаря и работал на Канонерском заводе. Умер в 1940 году. Мать - Козлова (Громова) София Николаевна родилась в г. Мышкине в 1887 году. Умерла в 1979 году.
Следующим летом мы уже не ездили в Замошье, а посетили г. Мышкин на Волге, родину матери Тамары Трифоновны. Мой напарник по прошлогодней охоте – Шагаев - ходил в этом году охотиться с директором Осташкинского кожевенного завода. Как-то раз, этот директор выстрелил «на шевеление» и всадил весь заряд в Шагаева, испугался и побежал. Раненый Шагаев закричал, он вернулся и стал выковыривать дробь из тела Шагаева, потом после примитивной перевязки, отвез его в больницу.
Возвращаюсь снова к тому, как я стал работать в Педиатрическом институте. В 1934 году оказалась вакантной должность заведующего кафедрой общей гигиены Ленинградского Педиатрического института, и я, вместе с П.Н.Ласточкиным, отправился на приём к директору института профессору Юлии Агафоновне Менделеевой. Встретили нас очень тепло, угощали дарами детской молочной кухни. Так я стал ассистентом кафедры, а моя дальнейшая работа была связана с личностью профессора П.Н.Ласточкина. Кафедра была небольшой и в первые годы её сотрудниками были заведующий, я, лаборантка и уборщица.
П.Н.Ласточкин (1892–1957г.г.) был учеником известного гигиениста Г.В.Хлопина (1863–1929г.г.), создавшего советскую школу гигиенистов. Представителями этой школы можно назвать профессоров В.А.Углова, Н.Ф.Галанина, В.А.Волжинского и других. Г.В,Хлопин окончил естественное отделение Санкт-Петербургского университета по химической группе в 1886 г. и медицинский факультет МГУ в 1893 году. Сам П.Н.Ласточкин, по-моему, окончил В.М.А., причём, несколько лет учился в медицинских учебных заведениях Италии, где его называли «Rondinello» (Ласточка) отчасти из-за фамилии, отчасти из-за свойств характера. В молодости у него наблюдались странности, например, П.Н. носил только оправу от очков и, когда его спрашивали, зачем он это делает, отвечал, что для красоты. Павел Николаевич был человеком интересным, доброжелательным, образованным, но крайне несобранным, фантазером, любителем женского пола и неряшливым в быту. Достаточно сказать, что окурки (а он много курил) он оставлял и на подоконниках, и на краях письменного стола, и даже на подлокотниках кресел. Профессор В.АВолжинский говорил мне, что среди учеников Г.В.Хлопина, П.Н.Ласточкин был наиболее талантливым, но по характеру он типичный опустившийся русский интеллигент. Сам П.Н. характеризовал человека вообще и себя в частности, как помесь свиньи с архангелом.
Может быть, эти особенности характера Павла Николаевича проявились в связи с тем, что ещё перед моим знакомством с ним, он занимал крупный пост в Красной Армии, но потом, в период репрессий, провёл несколько лет в заключении. Впоследствии, был полностью реабилитирован. Среди студентов П.Н. авторитетом не пользовался. Это объяснялось вольностями, которые он допускал на лекциях, романом с одной из студенток, или появлением на лекциях со следами краски на лице, которая текла в жаркий день с выкрашенных волос. Ориентируясь на судьбу своего учителя, Павел Николаевич решил сделать из меня (химика по образованию) гигиениста, для чего необходимо было дать мне медицинское образование. Он договорился с дирекцией, и меня зачислили экстерном медвуза. Я посещал все практические занятия по анатомии, гистологии, микробиологии и сдавал экзамены по этим дисциплинам, а также общей биологии и биохимии. Для того, чтобы выбрать тему моей кандидатской диссертации, П.Н. решил посоветоваться с В.Г.Хлопиным, который в то время возглавлял химический отдел Радиевого института, а директором был академик В.И.Вернадский. О В.Г.Хлопине я знал от его ближайших сотрудников и, отчасти, из своих наблюдений, но главным образом, из рассказов П.Н.Ласточкина, к сожалению, тоже далеко не полных.
В.Г.Хлопин (1890-1950гг), создатель радиохимической школы в СССР, ученик известного учёного Л.А.Чугаева (1873-1922гг), который был одновременно профессором неорганической химии Петербургского университета и органической химии Технологического института. Будучи школьником, я неоднократно встречал Л.А.Чугаева в университетских коридорах. Рассказывали, что умер он, заболев тифом. Л.А.Чугаев создал большую школу, главным образом, в области химии комплексных соединений. Его учениками, кроме В.Г.Хлопина, являлись И.И.Черняев
(1893 г.р.), А.А.Гринберг (1898 г.р.), В.В.Лебединский (1888 г.р.), Н.К.Пшеницын (1891 г.р.) и Г.В.Пигулевский (1888 г.р.).
В.Г.Хлопин окончил физико-математический факультет по отделению химии в 1912 году с дипломом первой степени. В течение летних семестров он стажировался в Геттингенском университете. Будучи студентом старших курсов, он работал в Гигиенической лаборатории Петербургского женского медицинского института, где под руководством отца выполнил две экспериментальные работы. Про отца В.Г. говорили, что он был крутого нрава. В возглавляемой им гигиенической лаборатории он периодически проверял полученные при исследовании результаты. В тех случаях, когда они его не удовлетворяли, он говорил сотруднику: «Завтра Вы можете не приходить на работу». Были и исключения, однажды он поставил студентке хорошую оценку за плохой ответ. На вопрос П.Н.Ласточкина: «За что?», Г.В. ответил: «За красоту поставил, за красоту». Павел Николаевич рассказывал, что изредка его учитель кутил с цыганами, а потом говорил, как хорошо дома – горят лампады, тихо. Нравы в В.М.А. в тот момент имели свои особенности. Этот период характеризовался значительным числом евреев, находящихся у власти в государстве. Поэтому товарищи иронически называли Хлопина – Хлопинзоном, а гистолога академика А.В.Заварзина – Заварзинером. Рассказывали, что на одном заседании профессора жаловались на недостаток газет. Комиссар В.М.А. ответил, что газеты везде расклеивали и их можно читать. На это Г.В.Хлопин подал реплику: «Учёные на стенах не пишут, и то, что написано на стенах, не читают». Г.В.Хлопина я в живых не застал и лично с ним не был знаком.
Виталий Григорьевич в молодые годы был женат, и от этого брака у него родился ребёнок, впоследствии умерший. Жена ушла и вышла замуж то ли за Пшеницына, то ли за Лебединского. Подробностей об этом периоде жизни я ни от кого кроме Павла Николаевича не слышал. Впоследствии, В.Г. связал свою жизнь с Марией Александровной Пасвик-Хлопиной. В молодости Виталий Григорьевич занимался боксом, задерживаясь на работе, любил пить пиво. Мне приходилось неоднократно встречаться с Виталием Григорьевичем, пока он руководил моей кандидатской диссертацией, и позднее. Стиль его руководства был особый: не подсказывать, не критиковать, а поддерживать и давать полную самостоятельность диссертанту. По свойствам своего характера Виталий Григорьевич не был организатором по современным представлениям, но он был руководителем, который своим отношением к науке и людям, своим авторитетом и обаянием сумел собрать вокруг себя группу энтузиастов-учёных. В числе его учеников необходимо назвать Б.А.Никитина, И.Е.Старика, Ю.Е.Полесицкого, А.П.Ратнера, М.А.Пасвик, Л.Э.Кауфман, П.И.Толмачёва, Э.К.Герлинга, А.Г.Самарцеву, М.С.Меркулову, М.Л.Ященко-Ковалевскую, В.И.Гребенщикову, А.М.Гуревич, Э.М.Иоффе, В.Р.Клокман и В.П.Шведова (См. сб. «35 лет Радиевого химического института им. В.Г.Хлопина»,. АН СССР, Л., 1957 г).
Можно привести несколько случаев, в которых Виталий Григорьевич проявил выдержку, хладнокровие и самоотверженность. В молодые годы в здании химического института (Университетская наб.7/9) он перегонял под вакуумом иприт. Неожиданно прекратила работу вентиляция. Чтобы не пострадали сотрудники, он схватил колбу и выбежал с ней в университетский двор. В результате действия паров иприта у него началось тяжелейшее воспаление лёгких. Уже возглавляя химический отдел РИАНа, он лично вскрывал ампулы, содержащие радий. Однажды ампула с бромидом радия лопнула, кристаллы RaBr2 попали ему на голову, и сотрудник пинцетом вынимал их из волос. При одном из посещений Радиевого института, я застал Виталия Григорьевича, взвешивающего какое-то вещество на аналитических весах. Он мне сказал: «Осторожно, я взвешиваю радий». Я спросил Виталия Григорьевича, а почему это делаете Вы, ведь у Вас есть сотрудники? Когда он закончил взвешивание, он встал, чуть подпрыгнул и произнёс: «Сотрудников постоянно осматривают врачи, а меня как директора, не осматривают, и поэтому я взвешиваю радий сам». Следующими особенностями В.Г.были внимание к окружающим и его простота в обращении, лишенная даже тени подобострастия перед начальством. Среди ближайших сподвижников Виталия Григорьевича, с его слов было известно, что в тридцатые годы его запросили из органов безопасности, кто из сотрудников института отрицательно относится к советской власти, ведёт нежелательные разговоры и заслуживает быть репрессированным. На это В.Г.Хлопин ответил, что: «таковых в институте не имеется, а если вам это обязательно необходимо, то начинайте с меня». Как-то при встрече со мной, Виталий Григорьевич сказал, что он был оппонентом на защите диссертации в Военно-медицинской академии. Сидел, продолжал он, среди медицинских икон. Эта фраза особенно примечательна тем, что отец его был медицинским генералом. Виталий Григорьевич не любил пустословия и во время общих собраний Академии Наук садился сзади и читал французские романы.
О времени, проведённом в стенах Педиатрического института, встают в памяти отдельные эпизоды, порой серьёзные, а порой курьёзные. Ввиду того, что зарплата ассистента была незначительной, да к тому же на моём иждивении были родители, и мне надо было высылать деньги на содержание старшей дочери, я работал по совместительству санитарным врачом, но, так как не имел законченного медицинского образования, был зачислен санитарным инженером. Однажды мне прислали на анализ воду, взятую из колодца общежития в Шувалове, на качество которой недавно начали жаловаться студенты. Я обнаружил в воде высокое содержание аммиака, свидетельствующее о наличии свежих загрязнений. При обследовании на месте удалось выяснить, что заведующий хозяйством института, не учитывая гидрологических условий, распорядился вырыть вместо старого, новый поглощающий колодец, из которого канализационные воды, пройдя слой почвы, непосредственно поступали в колодец для забора питьевых и хозяйственных вод. По счастью, не говоря об эстетической стороне вопроса, в этот период среди студентов не было инфекционных желудочно-кишечных заболеваний. В другой раз мне позвонили и сказали, что в центральной палате, где лежат новорожденные, ощущается неприятный запах, и просили сделать анализ воздуха. При ближайшем знакомстве с обстоятельствами загрязнения воздуха, выяснились причины, типичные не только для Педиатрического института. При постройке здания, все помещения были снабжены приточной и вытяжной вентиляцией. Забор воздуха производился из сада, откуда он поступал в бойлерную, для нагрева, увлажнения и очистки на фильтрах, а оттуда сначала по горизонтальным каналам, а затем по вертикальным стокам через решетки в стенах поступал в помещение. За период советской власти об этом забылось. В части горизонтальных каналов хранили одежду поступающих рожениц и больных, а загрязненный воздух отсюда проходил во все палаты и хирургическое отделение. Появление же неприятного запаха объяснялось тем, что в институте развелось много крыс, приходили дератизаторы, мёртвые крысы попали в систему приточной вентиляции, разлагались, и продукты разложения поступали в палаты. В первую очередь я распорядился заложить кирпичом и замазать отверстия, во вторую - связался с кафедрой вентиляции, возглавляемой профессором Б.М.Аше. Он прислал для обследования системы доцента Эфроса, который произвёл тщательную проверку состояния системы. В заключении было сказано, что требуется капитальный ремонт стоимостью не менее 500000 рублей (~1936 г). Конечно, у института и у Минздрава таких денег не нашлось.
На кафедре гигиены, в течение некоторого времени, лаборантом работал студент 3 курса Петя Пышный. С его личностью ассоциируется ряд приключений, доставивших много неприятностей. Из-за него выходили из строя приборы, которые он разбирал. Как-то он надумал изучать олеографическое действие серебра, посеребрил презервативы, привязал к ним шнурки и начал их глотать. Кульминационным пунктом его работы была варка супа в выходной день. Для супа он купил большой кусок жирной свинины, положил его в эмалированную плевательницу, правда, новую, поставил её сверху большой тигельной печи, которые тогда выпускали. Налил воду, включил печь и ушёл приглашать товарища на обед. Через сколько часов он вернулся, науке неизвестно, но всё помещение кафедры и всего административного корпуса было в густом чаду. В его отсутствие вода выкипела, плевательница треснула, свинина свалилась внутрь печи. На другой день Павел Николаевич давал объяснение этому событию дирекции института.
В последние годы работы в Педиатрическом институте произошло ещё одно трагическое происшествие. По договору с одной из групп института растениеводства я занимался выяснением зависимости прочности рыболовных сетей от обработки консервантами, содержащими дубильные вещества, соли меди и хрома. Для этого летом выезжал в экспедицию по маршруту р.Ловать-оз.Ильмень. В лабораторных условиях было необходимо проводить мокрое сжигание смесью H2SO4 и HNO3 и определять содержание меди и хрома. Жена в это время работала в Северо-Западной лаборатории отдела Водздрава им.Десятова, возглавляемой П.Н.Ласточкиным по совместительству. Я подключил её к своей теме и дал ряд серий образцов для мокрого сжигания. Однажды на кафедре раздался телефонный звонок, вызывают меня, слышу: «У нас катастрофа, Тамара Трифоновна облилась концентрированной серной кислотой». Спрашиваю: «Глаза целы?», в ответ слышу что-то неопределенное. По приезде в порт, на Гапсальскую, вижу: в комнате на столе, покрытая простыней лежит Тамара Трифоновна. Везде беспорядок. Выяснилось, что несчастье случилось, когда Тамара Трифоновна переливала кислоту из большой емкости в меньшую. В этот момент сверху ударила дверца вытяжного шкафа по большой емкости, разбила её и кислота окатила Тамару Трифоновну с головы до ног. По счастью, она инстинктивно закрыла глаза. Уборщица первая побежала ей на помощь, поскользнулась и села в разлитую кислоту. Тамара Трифоновна подбежала к крану, открыла воду и направила на себя струю водопроводной воды. Потом ей помогли другие женщины, из соседнего отделения пришел врач, обрабатывали, особенно лицо, взвесями магнезии. Платье, бусы, чулки сгорели полностью. Я посовещался с хирургом, привёз вещи и вечером отвёз Тамару Трифоновну домой. Лечил наиболее серьёзные ожоги повязками с раствором перманганата калия. Виноват в случившемся был зав.хозяйством лаборатории, который принимал шкафы без проверки, но против него ни руководство лабораторией ни мы никаких шагов не предпринимали.
Со студентами 4 курса у меня, особенно в первый год преподавания, установились отличные отношения. Павел Николаевич меня обучал, говоря, что зачёт со строгими требованиями - это обязанность ассистента, фильтр, в преддверии экзамена у профессора. Поэтому при своём первом опросе, я требовал серьёзного знания предмета. Встречались и курьёзные ответы, так, на вопрос, почему в обычном термометре ртуть поднимается и опускается свободно, а максимальный термометр показывает максимум температуры, одна студентка ответила: «Это происходит потому, что ртуть в максимальном термометре прилипает к стенкам». Оценки были очень строгие, и на второй год преподавания такого тёплого отношения ко мне уже не было. Пользуясь моей молодостью и неопытностью, П.Н. поколебал мой авторитет.
В 1938 году я защитил на Учёном совете химфака ЛГУ диссертацию на тему: «Определение фторидных соединений в питьевых и сточных водах». На защиту приехал В.Г.Хлопин, который, после защиты, сделал мне замечание, что во время доклада я иногда поворачивался к аудитории спиной. В работе определение ионов фтора велось по изменению окраски циркон-ализаринового красителя, которое наблюдалось с помощью сконструированного мною фотоколориметра по методу стандартных серий. Для монтажа колориметра требовались оптические стёкла и специальная замазка, устойчивая к воздействию водных растворов с разными рН. Получить их было крайне трудно. Павел Николаевич предложил съездить со мной к директору Государственного оптического института академику Сергею Ивановичу Вавилову, с которым он был лично знаком. Так, необходимые мне стекла были изготовлены в ГОИ. На заключительном этапе диссертационной работы мною были обследованы на содержание фтористых соединений главные водоёмы Хибиногорска и его окрестностей. Для отбора проб предприятием «Апатиты» мне была выделена лошадь с санями.
Когда я ехал в поезде «Полярная стрела» из Хибиногорска в Ленинград, то познакомился с полярным охотником. Был он молод, выше среднего роста с мужественным лицом. Мы почему-то почувствовали взаимную симпатию и разговорились на различные темы. В частности, он рассказал, что в период охотничьих скитаний на лыжах по тундре ему приходилось видеть в районах, прилегающих к концентрационным лагерям, как провинившихся заключённых привязывали к деревьям и в мороз обливали водой. Я по слухам и ранее знал, что в лагерях творятся страшные вещи, но этот рассказ очевидца подействовал на меня угнетающе, тем более, что такая откровенность охотника, по тем временам, могла стоить ему жизни.
Штат кафедры общей гигиены в 1937, 1938 гг. состоял из заведующего кафедрой и двух ассистентов. По новому штатному расписанию должен был быть один ассистент, поэтому его ставка должна была делиться пополам. Меня такое положение дел не устраивало, и после утверждения в учёной степени кандидата химических наук, я подавал документы на проводимые конкурсы. Пришли ответы из двух мест: Курского медицинского института и Ленинградского Плодоовощного института (Н.Петергоф). В Курск я не поехал, и в 1939 году был зачислен на должность заведующего кафедрой химии ЛПОИ. С 1938 г. я заведовал также лабораторией Всесоюзного санитарно-химического института.
Ленинградский плодоовощной институт занимал помещение Старо-Знаменского дворца, построенного архитектором А.И.Штакеншнейдером. Дворец находился, примерно, в двух километрах от Нового Петергофа по направлению к Стрельне. В штате кафедры химии были два преподавателя, лаборант, препаратор, служительница и я. В учебное время я ездил в Н.Петергоф два раза в неделю, читал лекции по неорганической и органической химии, руководил занятиями по аналитической химии. Физическую химию читал Рохлин, родственник известного шахматиста. В летние каникулы я с семьёй переезжал на кафедру, поселяясь, обычно, на балконах. В первом полугодии студенты проверяли меня, задавая с их точки зрения каверзные вопросы. Например, отчего кремлевские звезды красные и др. Получив исчерпывающие ответы, более попыток не предпринимали, но жаловались, что я даю трудный материал. К удовольствию студентов, я стал читать медленнее, популяризируя изложение. На практических занятиях один из хороших студентов – Локшин - разговаривал, одновременно нагревая пробирку с раствором хлорида бария. Раствор выбросило ему прямо в рот, и он проглотил содержимое. Я немедленно заставил его выпить раствор сульфата натрия, и все обошлось благополучно. Поздней весной несколько студентов (абсолютно трезвые) шли по Петергофскому шоссе, ехавшая сзади близко к краю шоссе грузовая машина, выступающей частью ударила одного из студентов по голове. Погиб хороший мальчик-грузин, приезжали его родственники из Грузии, чтобы увезти тело домой. Мне, по поручению дирекции, пришлось выступать на похоронах.
Осенью 1939 года, по возвращении в Ленинград, получил повестку с вызовом в военкомат. Народу было много, кого направляли в окрестности Ленинграда, кого на запад. Меня направили в г. Витебск, там зачислили начальником АЛ-2 отдельной химроты, 4-го стрелкового корпуса. Вскоре, в середине сентября мы выступили по направлению к границе Польши. Ночевали в лесах, было холодно. По пути встречались сгоревшие хутора и торчащие трубы - результат раскулачивания. Оружия и карт нам не давали. В нашей автоколонне ехали два командира, к какой они были приписаны части было неясно, но вели себя странно, похоже, что остальных они не замечали. Один из них был черноволосый с острыми чертами лица, похожий на сказочного черта и не выпускающий изо рта трубку, другой - рыжеволосый с веснушчатым лицом. По-видимому, указания о выдаче нам оружия и карт давали они или им подобные. После перехода границы они в расположении части больше не появлялись и приступили к своей непосредственной работе; в чем она заключалась - можно было только догадываться, причем несколько позднее эти наши догадки нашли подтверждение. На бывшей границе с Польшей скопилось много войск, артиллерии, танков. Почему-то думалось, что если бы у поляков была авиация, то возникли бы большие осложнения. С нашей стороны потерь не было, у поляков погибло только несколько пограничников. На длительном марше были случаи, когда заснувшие водители падали под колеса тягачей, или красноармейцы погибали от угара во время постоев.

Во время службы в армии (1939 г.)
Путь движения корпуса был от Витебска на Докшицы, Свентяны, Вильно, а оттуда на Видзы. В первые сутки после перехода границы, на свой риск и страх взял грузовую машину, своего шофера Юшина, и поехал в штаб корпуса, чтобы выяснить, куда нашей части двигаться дальше. Приехал в начале ночи. Всюду в помещении стучали пишущие машинки, составлялись какие-то большие списки, на полу были разостланы карты. Начхима корпуса застал спящим сидя, положив голову на стол. Выяснив все, я немного поспал, и рано утром возвратился в часть.
В Свентянах ночевали в доме помещика, бывшего морского офицера царского флота. Сын его – польский офицер - был “в бегах”, дочерей он от нас прятал. Судя по фотографиям, ранее их жизнь напоминала жизнь большого помещичьего дома: приемы, верховая езда. Командиры части спали на полу в одном помещении, положив заряженные револьверы под голову, т.к. опасались польских партизан. Красноармейцы были недостаточно обучены, а на сторожевые посты мы не очень-то полагались. Страшнее несуществующих партизан оказались крысы, которыми кишмя кишели помещения. Эта ночь мне хорошо запомнилась, только с груди я стряхнул трех крыс. Удивительно, что укушенных не было, как не было и укушенных змеями, когда мы ночевали в лесах Белоруссии, хотя только пойманных гадюк было немало. На одной из остановок в часть поступил спирт-сырец. В моей автолаборатории с двух сторон сверху имелись продольные цистерны для дистиллированной воды. Поскольку воды не было, спирт поместили в эти цистерны, о чем знало всего несколько человек. Утром обнаружились пьяные. Допрашивали старшину Дуберистейна и химмастера Лопотко. Первый “раскололся” и сказал, что они отливали спирт, жарили кроликов, которых, конечно, украли у местного населения, и пировали всю ночь. Вообще, случаев воровства было много, но в основном, крали яблоки у местного населения, хотя шапка яблок стоила гроши.
В Вильно застали еще гимназисток и гимназистов в форменной одежде, работали рестораны. Хороший обед стоил около 90 копеек. Командованием корпуса мне было дано два поручения: установить характер О.В. в патронах и приступить к разборке складов вблизи Вильно. Произведя анализ, я выяснил, что в патронах содержится бромбензилцианид. На складах хранились в ящиках, в довольно большом беспорядке, взрыватели ручных гранат и О.В. При разборке взрывателей я особенно боялся, что кто-либо из приданных мне красноармейцев, подорвется или лишится пальцев. Синильную кислоту уничтожал сам, надев герметичный противогаз с кислородным питанием, марку которого, к сожалению, не помню.
Из Вильно корпус передислоцировался в Видзы, на границу с Литвой. Там находились довольно долго, покупали себе шерстяные вещи, дефицит которых наблюдался в Ленинграде, да и во всем Союзе. Вместе с одним из командиров Лиознянским ходил на квартиру к крупному предпринимателю – еврею. Он рассказывал, что при маршале Пилсудском служил в кавалерии, причем на национальность внимания не обращали. За товаром он ездил в г.Лодзь, сделки даже на 50000 злотых заключались без оформления каких-либо документов. Нас это по сравнению с советскими порядками и бумаготворчеством очень удивляло, но торговец продолжал, что, если он нарушит слово, то ему нечего будет кушать.
На всем пути следования, в пунктах временных остановок, местные жители, некоторые из которых еще служили в царской армии и участвовали в русско-японской войне, очень боялись, и спрашивали, не будет ли большой войны. В тот период, при наличии соглашения с Германией, мы сами не верили, что война скоро начнется, и как могли, успокаивали местных жителей.
В городах и поселках у подъездов домов стояли автомашины, а около них женщины, взволнованные, с заплаканными глазами. Начиналась “чистка” “освобожденных” территорий от нежелательных элементов. Подводились итоги работы, проделанной приписанными к частям особистами, в числе которых были и двое “наших”. Становилось также понятным, какие списки печатали ночью в штабе корпуса. Когда, впоследствии, искали виновников Хатынской трагедии, мне было абсолютно ясно, что ответственность за нее несет наша страна, потому, что истоки ее были в операции по “освобождению” Западной Белоруссии и Западной Украины.
В Видзы делать было нечего, и это начало мне надоедать, тем более, что в Ленинграде оставалось очень много дел. Я отправился к командиру корпуса. Принял он хорошо, не считаясь с военной субординацией. Располагался он в небольшой комнате, где стояли две койки, застеленные шинельным сукном. При последующем разговоре он сказал, что как только удастся решить вопрос о присоединении Литвы, он большую часть командиров запаса отпустит домой. Слово свое он сдержал, и вскоре нас, с музыкой духового оркестра, отпустили. В Полоцке мы сдали личное оружие и обмундирование, получили свои вещи и выехали домой.
После возвращения в Ленинград, я приступил к работе в Плодоовощном и Санитарно-химическом институтах и встретился с В.Г.Хлопиным, который предложил для подготовки докторской диссертации заняться химией урана или применением радиоактивных индикаторов в аналитической химии. Я остановился на последней теме, потому что она более интересовала меня, и работ в этой области почти не было. При этом, я не учел всей трудности получения радиоактивных индикаторов в тот период (1939-1948 гг.). В.Г.Хлопин согласился быть консультантом по этой работе и, 1 сентября 1940 года, я был зачислен докторантом Радиевого института без отрыва от основной работы. После этого, я начал заниматься измерениями радиоактивности различных мишеней на кафедре геофизики ЛГУ, возглавляемой профессором П.Н.Тверским; помогал мне тогда доцент Г.В.Горшков. Несколько позднее, для выполнения экспериментальной части, мне предоставили часть комнаты в самом Радиевом институте, где я работал с помощью одного лаборанта из Санитарно-химического института.
В 1940 году вышел указ Сталина об ответственности рабочих и служащих за опоздание на работу. Согласно этому указу опоздавшие более чем на 19 минут отдавались под суд, а начальники, скрывшие опоздание сотрудников, судились более строго. В стране и, в частности, в Ленинграде этот указ привел к массе, иногда неприятных инцидентов, причем, по иронии судьбы, начали опаздывать даже те, кто ранее никогда не опаздывал. Появились способы, получения больничного листа: пили табачные вытяжки или другие средства, чтобы имитировать желтуху или острые желудочно-кишечные заболевания, били себе по рукам или ногам калошами, чтобы вызвать воспаление и т.д. Неприятности выпали и на мою долю. В очередной раз прихожу на кафедру и старший лаборант – Дина Васильевна мне докладывает, что препаратор опоздала на работу, и просит меня, учитывая, что это случилось с ней в первый раз, пощадить ее и не сообщать об этом в дирекцию. Я взял ответственность на себя, но как выяснилось позднее, сделал это напрасно. Через несколько дней, эти две женщины поссорились, и на столе у меня появилась докладная об опоздании препаратора. Пришлось срочно созвать заседание кафедры, чтобы обсудить случившееся. В мою задачу входило не опровергать факт опоздания, а постараться доказать, что опоздание было на время меньшее 19 минут. Когда мне это удалось, то по моему ходатайству, по институту был объявлен выговор препаратору за опоздание, а старшему лаборанту - за несвоевременное сообщение об этом. Муж Дины Васильевны, имевший законченное сельскохозяйственное образование, был директором Петергофского плодоягодного питомника, членом партии, у них была дочь. Уже по окончании войны мне рассказывали, что их дочь проводила время с немцами, а родители выдавали немцам членов партии и активистов сопротивления. После войны для их задержания был объявлен всесоюзный розыск.
Зимой действие указа распространилось и на меня. Рано утром прибыл на Балтийский вокзал. Посмотрел на часы, время отправления поезда совпадало. Был сильный мороз, окна были покрыты инеем. Еду и вдруг слышу: ”Красное село”. Я стремглав выбежал из вагона и пошел к дежурному по станции. По моей просьбе он отметил на билете время прибытия на станцию. Сажусь в поезд, идущий на Ленинград, доезжаю до ст. Лигово, а оттуда в Н.Петергоф. В этот день я должен был вести практические занятия, но пошел не на кафедру, а прямо к директору, чтобы сообщить ему о своем опоздании. Незадолго перед этим, опоздал кто-то из заведующих кафедрой, и все ограничилось выговором. Однако, я не учел, что опаздавший, в отличие от меня, был членом партии.
Спустя некоторое время, вышел приказ по институту, в котором сообщалось, что дело о моем опоздании передается в суд. Состоялся суд, в решении которого было сказано: «Признать факт ошибочной посадки на поезд, но считать эту причину неуважительной, и приговорить гражданина Шведова В.П. к исправительно-трудовым работам с уплатой 15 процентов заработка в течение шести месяцев». Я подал апелляцию, но приговор был оставлен со снижением уплаты до 10 процентов. Когда суд удалился на совещание, я слышал реплики присутствующих в зале юристов: "Посочувствуют, но испугаются..."
Осуждение меня за опоздание было мелким фактом, как в зеркале отражавшем мрачный фон репрессий, охвативших страну. Исчезали отдельные люди, исчезали целые семьи.
Со мной вместе в университете учился Гамзулов. В гражданскую войну он командовал полком, потом кончил рабфак. Человеком он был прямым и грубоватым, ходил и говорил, что везде ложь, газеты врут на каждом шагу. Получил 20 лет лагерей, но выжил.
В семье моего товарища И.Р.Молькентина арестовали сначала мужа его старшей сестры Хлебникова, главного бухгалтера завода ЛОМЗ, затем арестовали сестру и его самого. В заключении они все погибли.
Брали и по подозрению о наличии у задерживаемых золота, драгоценных металлов или других ценностей. Задержанных помещали в камеры, в которых они могли только стоять, тесно прижавшись друг к другу. Держали долго. Оттуда выходили ползком в истлевшей одежде. Так пострадали дядя жены - А.И.Куликов и бывший заведующий производством завода "Электрит" - Пучков.
В институте заведовала библиотекой милая скромная женщина, с которой неизбежно приходилось общаться. Неожиданно для сотрудников, она исчезла, говорили, что муж её арестован. После войны я её встретил, и она рассказала мне грустную историю. Её муж, уроженец Средней Азии, Мирбодаев, пострадал по обвинению в связи с зарубежными организациями. Поводом послужил переход границы кем-то из дальних родственников. Мирбодаев был начальником штаба курсов усовершенствования старшего начсостава ПВС, на которых я короткое время преподавал. В петлицах у него был ромб, и он был награжден орденом Красного Знамени. В заключении у него сорвали орден, ставили головой к стене, били ногами, но во время войны реабилитировали.
Его жена – библиотекарь - осталась без всяких средств к существованию, переехала в помещение мало пригодное для жилья, и потеряла одну из двух дочерей.
Общая подозрительность и недоверие подогревались доносами. Доносы писались из зависти, недоброжелательности, а иногда и "просто так". Появлялись они из-за дрязг в коммунальных квартирах, из-за семейных неурядиц, из-за желания занять "освобождающуюся" должность. Доносы служили мощным оружием для сведения личных счетов. Донос полностью заменял наемного убийцу.
Осенью 1941 года я узнал, что в лаборатории, которой я заведовал, осведомительницей была лаборант М.В.Аболина, член ВЛКСМ. До сих пор я благодарен ей, что ни я и никто из сотрудников лаборатории не пострадал. Мы рассказывали различные анекдоты, в том числе и политические, которых было тогда достаточно. Например, за такой анекдот, который я помню, мы могли получить не менее 10 лет: «Сталин вызывает Радека и говорит: "Я слышал, что ты рассказываешь про меня анекдоты, наверное, ты забыл, что я вождь не только народов Советского Союза, но и всего мира". На это Радек отвечает: "Извините, Иосиф Виссарионович, но этого анекдота я не рассказывал"».
Осведомители были во всех учреждениях, цехах, лабораториях, больницах, но не все вели себя так благородно, как М.В.Аболина.
Летом 1940 года я с женой и с только что родившейся дочерью Таней жили снова в усадьбе «Знаменка». Зимой у меня сложились, а на отдыхе укрепились хорошие отношения с заведующим кафедрой физики профессором Мачинским Матвеем Владимировичем. Возраста он был моего или немного старше, худощавый, выше среднего роста, с умным взглядом, с черной бородой и черными усами. Он внешне напоминал Иисуса Христа, каким его изображают на иконах. Позднее, Андрей Николаевич Мурин, который знал ранее Мачинского, говорил, что он очень талантливый и способный ученый. О политике я с Матвеем Владимировичем не говорил, но чувствовалось, что он настроен критически к тому, что происходит в стране. Когда началась война, Мачинский не успел выехать из Петергофа, и попал в руки немцев. Впоследствии мне рассказывали, что в период оккупации он был директором свечного завода в Ропше. Когда наши части освободили Ропшу, то, не особенно разбираясь, повесили его на столбе. Казнили его, вероятно, не только за то, что он работал у немцев, но и за его необычный внешний вид.
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 1140; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
