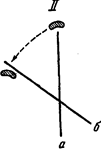Г) Предпочитание обезьянами некоторых свойств предметов
Изучение особенностей поведения низших обезьян при условии ограничения количества одновременно предлагаемых им предметов двумя, обладающими разными свойствами, включало, конечно, и участие экспериментатора в процессе оперирования обезьяны с предметами. Оно выражалось в побуждении животного к выбору лишь одного из объектов,
причем одинаково поощрялся выбор любого из них. Таким путем можно было установить предпочитаемый выбор того или другого признака объекта, если этот признак постоянно и устойчиво обращал на себя внимание обезьяны, определяя ее выбор одного из двух предметов.
Сопоставляя два предмета, разных по цвету, форме или величине, А.Я. Маркова (1961) провела большую серию экспериментов (исчислявшихся десятками тысяч) с 18 низшими обезьянами нескольких видов (павианами-гамадрилами, макаком резусом и двумя гибридами между макаком резусом и яванским макаком). Опыты проводились в Московском зоопарке и Сухумском питомнике обезьян.
В результате предъявления картонных прямоугольников пяти различных хроматических цветов (красного, желтого, зеленого, синего, фиолетового) при парном их предъявлении в сочетаниях цветов коротковолновой половины спектра (зеленого, синего, фиолетового) с длинноволновыми (красным и желтым) выяснилось, что обезьяны предпочитали выбор коротковолновых цветов. При этом для одних особей предпочитаемым цветом был синий, для других — зеленый, для третьих — фиолетовый.
|
|
|
Конечно, светлота сопоставляемых хроматических цветов учитывалась, но она не влияла на выбор, так как даже и ослабленные по насыщенности и светлоте предпочитаемые цвета (например, синий и фиолетовый) не изменяли направления предпочитания этих же цветов. При сопоставлении цветов из одной длинноволновой половины спектра предпочитаемым оказывался обычно цвет с большей длиной волны (красный предпочитался желтому). При сопоставлении же цветов в пределах коротковолновой половины спектра одни особи предпочитали выбор синего и фиолетового, другие — зеленого и фиолетового, причем предпочитаемый выбор колебался от 67 до 100%. Интересно, что процент предпочитания оказывался более высоким при сопоставлении цветов, взятых из разных половин спектра (90%), чем из одной половины спектра (в среднем 82%).
Сопоставление хроматических цветов с ахроматическими обнаружило Предпочитание хроматических. Серебристые блестящие картоны предпочитались при выборе всем остальным цветным объектам.
Различие цвета фона, на котором предъявлялись цветные картоны (черного, белого,
266 Н.Н. Ладыгина—Котс
|
|
|
цвета неокрашенного дерева), не влияло на выбор предпочитаемых цветов.
Анализируя способность низших обезьян к предпочитанию формы предметов при сопоставлении стереометрических фигур (шара, куба, пирамиды), когда испытуемыми были макаки резусы, А.Я. Маркова обнаружила, что одни обезьяны чаще всего выбирали шар и куб, а другие — пирамиду.
В опытах, направленных на исследование предпочитания величины предметов, у тех же макаков резусов выявились следующие закономерности. При сопоставлении, например, полосок бумаги разной длины (1 и 5; 1 и 3;
2 и 3 см) обезьяны во всех случаях предпочитали выбор более длинной полоски; аналогично этому и при сопоставлении фигур одинаковой формы, но различных по величине (как объемных, так и плоских и даже изображений предметов) они также неизменно выбирали предметы большего размера.
В заключение своего исследования А.Я. Маркова делает вывод, что характер предпочитания обезьянами некоторых признаков обусловлен физиолого-биологически-ми причинами. Предпочитание коротковолновых цветов (синий, зеленый, фиолетовый) объясняется, по-видимому, тем, что низшие обезьяны (как показал Гре-зер) лучше распознают эти цвета по сравнению с цветами длинноволновыми. Предпочитание округлой формы предметов объясняется их близостью к естественным плодам, которыми обезьяны питаются в природных условиях. Предпочитание предметов большего размера обусловлено тем, что обезьяны, увидев плоды, стремятся ухватить плод более крупный, обеспечивающий более длительное его потребление.
|
|
|
Применяя метод свободного выбора обезьянами предложенных им для манипулирования камешков белого и черного цвета, К.Э. Фабри наблюдал Предпочитание ими камешков белого цвета (Фабри, 1961).
2. ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО
ПРИОБРЕТЕННЫХ ФОРМ
ПОВЕДЕНИЯ
а) Навыки и интеллект обезьян
Обратимся прежде всего к проблеме образования навыков у низших и высших обезьян.
Так, например, мы изучали приспособи-тельные моторные навыки макака резуса в ус
ловиях "проблемной клетки", содержавшей приманку, но запиравшейся различными механизмами: крючками, щеколдами, рычагами, задвижками, замками и т д. (Ладыгина-Коте, 1928).
Процесс формирования навыка начинался с беспорядочных проб, выключения движений, не завершавшихся успешным открыванием, и сохранения движений, обеспечивающих отмы-кание механизма и получение приманки. Можно было определенно заметить, что обезьяна использует свой удачный опыт отмыкания механизмов, каждым разом явно сокращая продолжите юность операции. Но подобное ускорение решения задачи наблюдалось преимущественно при оперировании с единичными механизмами, в то время как при работе с серией их эта успешность прогрессировала не столь заметно. У животного длительно сохранялись излишние против требуемых движения, вследствие чего кривая скорости отмыкания не обнаруживала систематического снижения.
|
|
|
Следует особенно подчеркнуть, что при выработке навыка отмыкания различных механизмов кинестетические восприятия явно преобладали над зрительными. Обезьяна не всегда умела по виду механизмов определить, какой из них отомкнут, а какой замкнут, и зачастую только в результате двигательных проб доходила до успешного решения. Нередко, отомкнув механизм, макак вторично его замыкал, и лишь после того, как его попытки открыть дверцу клетки оказывались безрезультатными, он снова приступал к отмыка-нию. Отпирание запоров, имеющих подвижность во второстепенных частях механизма, давалось обезьяне особенно трудно (цепи, висячие замки), так как настойчивое оперирование в этих частях механизма длительно задерживало успешность отмыкания его.
Такой способ формирования навыка обезьяны со всей очевидностью вскрывал отсутствие у нее улавливания связи между существенными для отмыкания частями механизма и несущественными, отсутствие понимания производимых ею действий при решении задач.
Было совершенно ясно, что данный путь решения основан на выработке зрительно-кинестетических временных связей на базе повторного опыта, то есть является ассоциацией пространственно-временного характера.
Интересный навык у павианов гамадрилов выработал А.И. Кац, приучивший подопытных обезьян бросать камни направленно в определенную цель, подкармливая их при
Послесловие к книге Я. Дембовского "Психология обезьян' 267
каждом успешном попадании. Павиан гамадрил оказался способным попадать камнем в 20/30 мм в цель размером, 88/50 см с расстояния 5 м. Большая монография А.И. Каца, опубликованная пока лишь в виде автореферата, дает возможность судить об остроте зрительных восприятий гамадрилов, о соотношении зрения и кинестезии при формировании сложных двигательных навыков (Кац, 1950).
Проблема формирования навыка у низших обезьян очень углубленно была поставлена в школе В. П. Протопопова, возглавлявшего лабораторию по изучению поведения животных в Харьковском психоневрологическом институте.
В.П. Протопопов экспериментировал с павианом гамадрилом, у которого он выработал навык доставания удаленной приманки орудием — палкой.
В результате своих исследований ученый пришел к выводу, что первые пробы решения задачи его подопытной обезьяной не являлись хаотическими (как это, в частности, доказывал Торндайк); они представляли собой инстинктивные и неадекватные ситуации приемы решения задачи, которые постепенно заменялись индивидуально приобретенными адекватными способами действия (Протопопов, 1950).
Далее В. П. Протопопов доказывает, что формирование навыка у обезьян зависит не от случайно удачных движений, а от активно произведенных направленных действий. На формирование навыка обезьян оказала влияние также и интенсивность стимула, побуждающего к действию. В опыте при постановке задач на употребление палки павиан вначале всячески пытался достать удаленный от него плод рукой, но не смог самостоятельно применить палку для доставания приманки. И только когда задачу облегчили и соединили свободный конец палки с приманкой, только тогда обезьяна, имея уже готовую связь палки с плодом (аналогично связи плода с веткой на деревьях), пододвинула эту приманку.
Позднее после нескольких проб связь палки с плодом у павиана настолько упрочилась, что, где бы эта палка ни была положена (в отдаленном, но доступном месте), животное тем не менее использовало ее для доставания приманки.
Более того, обезьяна даже искала палку, когда се удаляли из поля зрения: прятали в шкафу, клали на карнизе вольера и в других местах клетки.
В. П. Протопопов пришел к выводу, что в ситуациях, предложенных им подопытным
животным, адекватное решение никогда не наступало без предварительных проб. А эти пробы были как инстинктивного, так и индивидуально приобретенного характера, то есть включали элементы филогенетического и трудно отличаемого от него онтогенетического опыта особи.
Наличие в некоторых случаях внезапных решений у обезьян В.П. Протопопов объясняет либо близостью ситуации к естественным условиям их жизни, либо наличием следов прошлых опытов.
К аналогичному выводу относительно характера формирования навыков обезьян пришел и сотрудник В.П. Протопопова — А.Е. Хильченко, работавший с макаками резусами. Этим обезьянам были предложены следующие задачи:
1) доставать палками удаленно помещенную приманку;
2) подставлять ящик под высоко висящий на веревке лакомый плод;
3) притягивать за веревку плод, помещенный в горизонтальной плоскости.
Сопоставляя процесс решения этих задач высшими и низшими обезьянами, А.Е. Хильченко приходит к заключению, что "никаких принципиальных различий в формировании онтогенетического опыта у низших и высших обезьян не существует и нет никаких оснований усматривать пропасть между низшими и высшими обезьянами, уподоблять поведение высших обезьян человеческому поведению" (Протопопов, 1950, с. 120).
В той же лаборатории другой сотрудник В.П. Протопопова— Е.А. Рушкевич (Протопопов, 1950) — поставил низших обезьян (павианов) в условия, когда расположенная на экспериментальном столике приманка закрывалась передвигаемой в разные места столика ширмой. Чтобы достать приманку, подопытные животные должны были применить обходные движения палкой. Оказалось, что в результате длительной тренировки перемещения приманки обходным путем справа налево обезьяны не могли сразу перестроить свои движения палкой в случае необходимости перемещения приманки слева направо, — настолько сильными оказались приобретенные ими кинестетические связи по сравнению со зрительными. И только после повторных тренировок они овладели новым способом движения.
Основной вывод из этой работы гласит:
павианы обнаруживают низкую способность к манипулированию орудием (палкой), проявляя неуклюжесть и неловкость движений
268 Н.Н. Ладыгина—Котс
при ее употреблении; тонкие и дифференцированные движения руки, вооруженной палкой, им почти не удаются; они с трудом осваивают навык простых обходных движений палкой и неспособны видоизменять этот навык соответственно новой ситуации; в каждой новой ситуации они действуют по-прежнему, хотя такие действия теперь бессмысленны и нелепы. Павианы, приобретая навык при "переносе опыта", обнаруживают удивительную косность и "глупость" (Протопопов, 1950, с. 121).
Этот вывод документируется и другой серией экспериментов того же автора, поставившего обезьянам задачу — находить обходный путь для выведения приманки в четырехугольном ящике, одна стенка которого открыта.
Павиан легко мог выводить приманку пальцами через открытую стенку ящика — при ее перемещении направо, налево, вперед. Однако при необходимости в той же ситуации действовать орудием (палкой) для вывода приманки обезьяна не смогла этого сделать.
Результаты данных сопоставлений явно показывали, что пользование вспомогательным предметом для низшей обезьяны представляет большую трудность. При необходимости употребления орудия трудность для низших обезьян заключается не столько в техническом неумении пользоваться палкой, сколько в том, что для этих животных главным препятствием служит неумение установить опосредствованную связь между собой (точнее — своими руками) и приманкой путем включения какого-либо вспомогательного предмета для достижения цели.
В опытах Н.Ф. Левыкиной (см. Ладыгина-Коте, 1958, с. 180), исследовавшей павиана-сфинкса, было установлено, что для достава-ния вязкой приманки (кисель), расположенной за прутьями клетки, эта обезьяна не могла использовать палку, положенную параллельно решетке. Животное ограничилось только тем, что старалось притянуть к себе лист, на котором лежала приманка.
Тогда задачу несколько облегчили, положив палку перпендикулярно к решетке рядом с приманкой. Обезьяна и на этот раз не смогла погрузить в кисель палку, хотя брала ее в руки, обнюхивала, осматривала и опробовала языком тот ее конец, который находился около приманки.
И только при дальнейшем облегчении постановки опыта, когда один конец палки погружали в приманку, обезьяна вынимала палку из киселя и облизывала ее.
Когда же постановку опыта снова усложнили и, кроме палки, соприкасающейся с киселем, клали параллельно ей другую, сухую палку, не погруженную в кисель, павиан, вытянув палку и облизав ее, не догадывался снова погрузить ее в кисель. Более того, он брал сухую палку и лизал ее, не пытаясь достать ею оставшуюся приманку.
Как подчеркивает Н.Ф. Левыкина, усовершенствование обезьяны в решении этой задачи состояло лишь в том, что подопытное животное научилось различать обе палки; по-груженную в кисель и сухую. Павиан приобрел навык (образовался условный рефлекс) на вытягивание палки, соприкасавшейся с киселем, но не сделал попытки погрузить ни ту ни другую палку в кисель, то есть употребить палку как орудие доставания приманки.
При исследовании способности молодых человекообразных обезьян-шимпанзе к употреблению палок в качестве орудия доставания приманки А. Е. Хильченко наблюдал, что эти обезьяны далеко не сразу, а лишь после 26 дней оперирования палками стали употреблять их правильно (Хильченко, 1955).
В связи с этим следует упомянуть об опытах С.Л. Новоселовой, исследовавшей навык использования палки у высшей обезьяны-шимпанзе. (Новосёлова, 1959). Она экспериментально доказала, что даже у этой сравнительно высокоорганизованной обезьяны (в сопоставлении ее с низшими) навык употребления палки формируется в качестве ин-дивидуально-приспособительного действия, а не является врожденной формой поведения. Процесс образования навыка в использовании палки в целях приближения к себе недосягаемого для рук плода происходит постепенно — от стадии оперирования рукой в целом как рычагом к специализированным действиям кистью как органом, не только удерживающим палку, но и направляющим ее движение в соответствии со специфическими свойствами орудия.
У Г.З. Рогинского взрослые шимпанзе (от 8 до 16 лет), имевшие опыт манипулирования палками, сразу все употребили палку, успешно доставая ею удаленную приманку. Что же касается низших обезьян, то лишь одна из них (павиан Чакма) также сумела сразу правильно использовать предложенную ей палку (Рогинский, 1948). Однако Г.З. Рогинс-кий пишет, что между психикой шимпанзе и психикой низших обезьян нет того разрыва, который отмечает В. Кёлер. Аналогичное мнение высказывает А. Е. Хильченко.
Послесловие к книге Я. Дембовского "Психология обезьян' 269
Эти сопоставления показывают, что неправы те ученые (В. Кёлер и Иеркс), которые считают, будто между поведением низших и высших обезьян существует принципиальное различие.
Разница в решении сложных задач низшими и высшими обезьянами, несомненно, имеется, но сводится она к различию скореело степени, чем по существу, и имеет скорее количественный, чем качественный, характер.
Исследуя навыки обезьян, Г.З. Рогинский приходит к выводу, что при решении высшими обезьянами задач на использование палок навыки и интеллект образуют в этих действиях такое единство, в котором их трудно отделить и вычленить. Автор пишет, что навыки у шимпанзе образуются быстрее, чем у других животных; они крайне пластичны и легко переносятся в новые условия. Одну и ту же задачу шимпанзе решает разными способами. При изменении задачи он тотчас же меняет и прием овладевания целью. Навыки у этих обезьян связаны с интеллектуальными действиями, сущность которых составляет способность улавливать связи и соотношения между предметами.
Г.З. Рогинский отрицает положение В. Ке-лера о том, что шимпанзе являются "рабами зрительного поля" и что их интеллект близок к человеческому (Рогинский, 1948).
Нам кажется, что к определению Г.З. Ро-гинским понятия интеллекта у обезьян следует сделать уточнение. На наш взгляд, о наличии у них интеллекта может свидетельствовать установление животным лишь новых адаптивных связей в новой для животного ситуации.
Конечно, интеллектуальное решение той или иной задачи опирается на использование ранее приобретенного прошлого индивидуального опыта, не стабильного, а пластичного навыка, который дает животному возможность заново перестроить свое поведение в соответствии с новой ситуацией. И только в том случае, когда подопытное животное "догадывается" использовать употребленные ранее (в прошлом опыте) приемы, действия в новой комбинации, мы можем утверждать, что этот тип решения покоится на вновь образованных временных связях и является, конечно, интеллектуальным решением.
В решении подобного характера в большей или меньшей степени участвует процесс обобщения прежде полученных знаний.
б) Употребление обезьянами орудия и интеллект
Переходим к обзору других исследований особенностей интеллекта обезьян советскими учеными. Эти исследования проводились главным образом в плане анализа способности обезьян к применению вспомогательного предмета в качестве орудия для доставания приманки.
Нами было проведено пятилетнее экспериментальное изучение орудийной деятельности шимпанзе с использованием следующего метода (Ладыгина-Коте, 1959).
В узкую металлическую трубу (длиной 20— 40 см и шириной 4,5 см} закладывалась завернутая в бумагу приманка, которую можно было достать, выталкивая ее из отверстия трубы прямой палкой соответствующего размера. При этом мы ставили такие вопросы:
1. Способен ли шимпанзе сразу употребить палку для доставания приманки?
2. Может ли он узнать, выбрать пригодный для доставания приманки предмет из ряда непригодных?
3. Способен ли он самостоятельно обработать данный ему непригодный предмет (ветвь, свернутую проволоку и т.д.) и сделать его годным для доставания приманки?
4. Может ли он сделать пригодное к употреблению орудие путем его составления (из двух коротких тростинок составить длинную)?
Для решения первого вопроса обезьяне предлагалась прямая палка, соответствующая по длине трубе с приманкой. (Приманку закладывали в трубу в присутствии шимпанзе и проталкивали внутрь палкой.) Но шимпанзе, взяв трубу в руки, не применил в подражание экспериментатору палку для выталкивания приманки, а прежде всего всунул в отверстие трубы указательный палец одной руки, потом указательные пальцы обеих рук. И только безуспешность действий руками побудила его к применению палки, которую, впрочем, он сразу употребил успешно, вытолкнув приманку, хотя ранее не имел подобного опыта.
В последующем изменение вида предлагаемого орудия — замена палки совершенно другими предметами, не похожими по форме и иными по материалу (ложкой, металлическим пестиком, стеблем растения с цветком на его верхушке, узенькой железной решеточкой и т. д.),—не затруднило шимпанзе в непосредственном и успешном применении этих предметов как орудия.
В случае предоставления обезьяне в качестве орудия нескольких предметов (пригодных
270 Н.Н, Ладыгина—Котс
и непригодных для доставания приманки, различных по форме, длине, ширине, толщине, плотности) шимпанзе прекрасно дифференцировал разные признаки и выбирал соответственное, пригодное для доставания орудие.
При наличии в предложенных предметах различных свойств, например, когда один предмет был пригоден по длине, но непригоден по форме (изогнутая палка), а другой, наоборот, пригоден по форме (прямая палка), но непригоден по длине (короток), решающим для выбора была длина, а не форма предмета.
В случаях предъявления обезьяне толстого, но мягкого шнура и твердой тонкой проволоки шимпанзе иногда ошибался, то есть выбирал сначала шнур, но, взяв шнур в руку, он тут же бросал его и заменял твердой проволокой.
Из пяти предложенных ему одинаковых по виду, форме и величине, но разных по твердости предметов (отрезков мягкого шнура, эластичной проволоки, палочки, стебля гибкого растения) шимпанзе избирал наиболее пригодный для доставания предмет — палочку—и успешно вынимал ею приманку.
В третьей серии опытов, когда обезьяне предлагались в качестве орудия предметы, требующие усмотрения и вычленения части, пригодной для употребления в качестве орудия (например, прута из куска плетеной корзины, отрезка проволоки из проволочного треугольника или других, сложно оформленных проволочных фигур), шимпанзе быстро замечал подходящий элемент, выделял его, вырывал из комплекса и успешно применял для доставания приманки. Более того, при получении широкой планки или доски он мог отчленять от нее узкие лучины и действовал ими как орудием выталкивания приманки.
В четвертой серии опытов шимпанзе должен был обработать непригодный для непосредственного употребления предмет так, чтобы им можно было достать из трубы приманку. В качестве возможных орудий обезьяне давали ветку с листьями, виток проволоки, проволоку, изогнутую в виде букв Г, П, С, О. Получив такие предметы, шимпанзе превращал их в орудие, пригодное для доставания приманки: обрывал боковые побеги ветки, мешающие ее проталкиванию в отверстие трубы, оставляя лишь прямой ствол, которым успешно доставал приманку; разгибал проволоку и выпрямленным концом выталкивал приманку из трубы.
Но интересно, что, в совершенстве владея обычно деконструктивными приемами и ак
тивно применяя их при обработке непригодного предмета, шимпанзе, получив в качестве орудия палку с прикрепленными к ней мягкими поперечинами из провода или раздвижные планки, скрепленные лишь в центре, вместо того, чтобы прижать провод к оси палки или сдвинуть расходящиеся концы планок и получить двойную узкую планку, поступал по привычке. Обезьяна и на этот раз применяла лишь деконструктивные приемы, с большим трудом вырывала боковые поперечные провода, ломала выступающие концы планок и, получив гладкое прямое орудие, доставала им приманку.
В пятой серии (111 опытов) обезьяне предлагали короткие бамбуковые палки для составления и простые короткие палочки для их связывания. Оказалось, что шимпанзе только эпизодически, в единичных случаях составлял палки, но никогда не пытался связать их, хотя в игре он обнаруживал умение составлять и связывать объекты, присоединяемые к своему телу (руке, ноге). Более того, нередко он разнимал составленное из 2 и 3 палок орудие и засовывал в трубу разрозненные палки, не достигая, конечно, цели — выталкивания приманки.
Чем же объяснить такое, с одной стороны, весьма успешное решение обезьяной предложенных нами задач в условиях сложной дифференцировки находящихся в комплексе элементов, пригодных для употребления в качестве орудия, их трудной обработки, а с другой — неумение составлять и связывать элементы при необходимости их соединения для получения удлиненного орудия?
Мы объясняем это тремя причинами: биологической, физиологической и психологической.
Биологическая причина состоит в том, что шимпанзе в естественных условиях жизни ежедневно осуществляет деконструктив-ную деятельность типа ломания, расчленения веток и сучков дерева при постройке им ночных гнезд. При этом он самостоятельно должен усмотреть нужный развилок дерева, достаточно большой и крепкий для сооружения на нем гнезда, и, безусловно, должен также дифференцировать толщину подлежащих сламыванию веток. Однако, нагромождая сломанные части верхушек де» ревьев и переплетая их более тонкие периферийные концы, обезьяна никогда не пользуется ни приемом вставления, ни приемом связывания концов веток. Не делает она этого и в неволе.
Послесловие к книге Я. Дембовского "Психология обезьян' 271
Физиологическая причина неспособности шимпанзе к соединению и составлению палок заключается в том, что, образовав условный рефлекс на использование единичного твердого предмета для выталкивания приманки из трубы и удаляя все посторонние выступающие на этом предмете части, он воспринимал и данное ему составное орудие как объект с отрицательным сигнальным признаком в виде составленности, свидетельствующей о непригодности орудия к употреблению. Поэтому-то он настойчиво противился соединению, а иногда даже и употреблению уже составленного орудия.
Психологическая причина состоит в том, на наш взгляд, что в результате многочисленного оперирования прямой и гладкой палкой шимпанзе сохранил генерализованный зрительный образ пригодного орудия, обладающего определенными признаками — длиной (соответствующей длине трубы с приманкой), толщиной (соответствующей диаметру отверстия трубы) и формой.
Наличие этого генерализованного зрительного образа, то есть представление о пригодном к употреблению орудии как единичном целом прямом предмете, тормозило выполнение акта составления палок, так как признак составленности выступал для шимпанзе в том качестве, в каком он входил в прошлых его удачных опытах, где всякого рода излишние элементы на целом предмете-орудии удалялись им до тех пор, пока он не получал гладкого целого орудия.
Соединяя в игре короткие палки и получая удлиненное орудие или расчленяя уже составленное орудие, шимпанзе не уловил значения составления как акта, способствующего удлинению. Поэтому он и не смог постичь причинно-следственные соотношения в процессе конкретного составления палок.
В этом и состоит качественное, принципиальное отличие интеллекта шимпанзе от интеллекта человека.
Но было бы неправильным вообще отрицать наличие интеллекта у шимпанзе. Интеллект этой обезьяны проявляется, например, в том случае, когда она самостоятельно устанавливает нужную связь между орудием и трубой, содержащей приманку, употребляя любой твердый, гладкий, длинный, узкий предмет.(Ее интеллект сказывается и при выборе соответствующего предмета (орудия) из группы непригодных (по длине, толщине, плотности, форме). Лишь наличие интеллекта помогает шимпанзе изменять непригодный предмет и делать его пригодным путем обработки руками и зубами; вычленять недостаю
щий ему для оперирования предмет из сложного составного комплекса и даже целого предмета (лучины из доски).
Однако качественно, повторяем, принципиально интеллект шимпанзе, конечно, иной, чем интеллект человека.
Сравнение высших и низших обезьян показывает, что интеллект первых выше интеллекта вторых. Это доказывается, например, тем, что низшие обезьяны лишь в виде исключения самостоятельно употребляют орудие для достава-ния удаленной приманки (опыты А. И. Кац, Г.З. Рогинского). Не справились они и с задачей в экспериментах с трубой, содержащей приманку (в опытах Н.Ф. Левыкиной). Только у Клюве-ра (Kluver, 1961) обезьяна капуцин сумела достать приманку из трубы палкой. В то же время высшие обезьяны (в опытах Н.Ф. Левыкиной), даже молодые (6—8 лет), сумели использовать для выталкивания приманки не только прямую и чистую палку, но и сучковатую или даже ветки, умело обрывая на них боковые, мешающие проталкиванию в трубу побеги. Все эти, как и другие, весьма значительные факты лишний раз указывают на различие (но лишь по степени, а не по существу) интеллекта высших и низших обезьян.
в) Реакция обезьян на относительные признаки. Абстракция и обобщение
Реакция обезьян на относительные признаки детально исследована рядом украинских ученых из школы В.П. Протопопова, доказавших наличие у обезьян процессов обобщения и абстракции.
На основании экспериментов с низшими обезьянами В.П. Протопопов приходит к выводу, что при решении поставленных задач эти обезьяны (как и другие подопытные животные, например, собаки) различают элементы ситуации не только по абсолютным, но и по относительным признакам, выступающим в предметах при их сопоставлении друг с другом (Протопопов, 1950).
Улавливание и обобщение отношений подопытными животными свидетельствует об их способности к абстрагированию, и этот процесс является биологической предпосылкой к возникновению в процессе становления человека специфически человеческого мышления, представляющего собой, согласно И. П. Павлову, "отвлечение от действительности".
В опытах П.В. (Протопопов,1950) обезьяны (павианы и макаки резусы)
272 Н.Н. Ладыгина—Котс
оказались способными правильно реагировать на признак интенсивности светлоты окраски предметов (темнее — светлее).
В опытах А.Е. Хильченко (Протопопов, 1950), работавшего с павианами-гамадрилами, обезьяны различали отношение величины квадратов, прикрепленных к ящикам, причем меньший квадрат был 101 см2, больший—225 см2. Расстояние между ящиками было 5 см. Приманка всегда находилась в меньшем ящике. Положение того и другого ящика менялось во избежание выбора обезьяны лишь по топографическому признаку — местонахождению ящика.
После того как у обезьян выработался навык притягивать ящик с меньшим квадратом, квадраты заменяли кругами, потом—треугольниками (площадью 25—40 см2). Независимо от изменения формы животные продолжали выбирать ящик с меньшей фигурой.
Далее им были предложены два разных по размерам ящика кубической формы, затем — разных размеров призмы и пирамиды. Несмотря на изменение формы сопоставляемых фигур, положительная реакция обезьян на выбор меньшей по размерам фигуры независимо от ее формы оставалась постоянной. Это указывало на то, что низшие обезьяны были способны производить обобщение на основе относительных признаков, то есть что они обладают способностью к элементарной абстракции. Но, как подчеркивает В.П. Протопопов, у обезьян "относительный признак не отвлекается полностью, как это имеет место благодаря слову у человека, а только выделяется в наглядно представленных конкретных объектах". Это — абстракция in concrete, когда "замечаемый признак не отделяется, а оттеняется в предмете". "Истинная же абстракция выражается в полном отвлечении признака от реального объекта и мыслится вне этого объекта, что возможно лишь тогда, когда этот признак будет обозначен словом. И эта истинная полная абстракция (vera) возможна, конечно, лишь у человека в его речевом периоде" (Протопопов, 1950, с. 163).
Наличие процесса элементарной абстракции А.Я. Маркова установила у низших обезьян в опытах, проведенных по методу пред-почитания в условиях свободного выбора обезьяной предметов, обладающих разными признаками, при парном их сопоставлении (Маркова, 1962). При этом выбор любого предмета каждый раз поощрялся экспериментатором. Как уже было упомянуто, результаты исследований над макаками резусами (два самца
и одна самка), проведенных в условиях сопоставления объемных фигур (шара, куба и пирамиды), показали, что одни особи обнаружили предпочитание шара, другие — куба. а некоторые чаще всего выбирали пирамиду.
При замене объемных фигур плоскими, плоских — наклеенными или нарисованными, включенными в фон; далее, при замене этих последних черными контурами тех же изображений и, наконец, пунктирными контурами обезьяны сохранили прежнее направление выбора.
Те особи, которые при сопоставлении шара с кубом и пирамидой предпочитали выбор шара, при сопоставлении круга с квадратом и треугольником предпочли круг. Обезьяны, которые в первоначальном выборе предпочитали куб перед шаром и пирамидой, при сопоставлении плоских фигур — квадрата, круга и треугольника — предпочли выбор квадрата.
При замене плоских фигур объектами, вырезанными из бумаги и наклеенными на картон, или нарисованными на картоне фигурами обезьяны сохраняли тот же принцип выбора. И, что интересно, они пытались охватить пальцами не самую карточку с наклеенной или нарисованной предпочитаемой фигурой, а центральную часть изображения фигуры, что, конечно, им не удавалось сделать.
Прежний принцип выбора предпочитаемых форм сохранился и в случае сопоставления черных и контурных, а также пунктирных контурных форм.
Но интересно отметить, что процент предпочитаемого выбора обычно изменялся при каждой замене характера сопоставляемых фигур.
Таким образом, совершенно очевидно, что, чем меньше походили сопоставляемые фигуры на конкретный предмет, тем хуже осуществлялся предпочитаемый выбор. Это свидетельствовало и о том, что ослабление восприятия конкретных объектов, то есть переход к абстрагированию существенных признаков предметов, затруднял выделение предпочитаемых признаков.
Эти опыты А.Я. Марковой доказывают также, что низшие обезьяны в состоянии замечать и дифференцировать округлость, четыре-хугольность и треугольность предметов при выборе предпочитаемых признаков.
В результате исследований и психологического анализа советскими учеными поведения обезьян можно сделать вывод о наличии у обезьян дифференциации свойств предметов (цвета, формы, величины), способности к пред-
Послесловие к книге Я. Дембовского "Психология обезьян" 273
почитанию признаков предметов; о наличии представлений, элементарного мышления, обобщения и абстракции. Но интеллект обезьян качественно, принципиально отличен от интеллекта человека, а их абстракция in concrete является лишь элементарной, а не полной абстракцией (vera), свойственной только человеку.
3. ПОДРАЖАНИЕ ОБЕЗЬЯН
В целях выявления прогрессивных черт в поведении обезьян весьма интересным, но дискуссионным и разноречиво решенным является вопрос о подражании обезьян.
Г.Д. Аронович и Б. И. Хотин, признавая большое значение подражания животных в стаде, в семье, когда менее активные или более молодые животные путем подражания приобретают нужный жизненный навык, опыт от вожака или старших сочленов группы, поставили эксперимент с обезьянами таким образом, чтобы можно было проанализировать наличие подражания, пользуясь методом "экспериментального конфликта" (Аронович, Хотин, 1929). Этот метод состоял в том, что на один и тот же раздражитель у различных обезьян в условиях их изоляции вырабатывали противоположные реакции. Так, на один и тот же сигнал, например, красный цвет, одна обезьяна приучалась бежать к пище, в то время как у другой вырабатывалось торможение — навык оставаться на месте; были также обезьяны, оставленные в качестве контрольных, нетренированных. При соединении обезьян в одном помещении можно было обнаружить (в результате наблюдения за поведением обеих групп) наличие или отсутствие подражания одних особей другим. Для одних групп обезьян в разных сериях опытов положительным условным раздражителем был красный, отрицательным — синий цвет; для других — наоборот. Когда эти условные рефлексы были выработаны, животных, содержавшихся ранее в изоляции, соединили вместе, включая и контрольных, нетренированных особей.
В конечном результате оказалось, что вопреки общераспространенному мнению о сильно выраженном подражании у обезьян в условиях эксперимента подражание было весьма незначительно — всего 25%.
Позднее явление подражания изучали М.П. Штодин, Л.Г. Воронин и Л.А. Фирсов.
М. П. Штодин пришел к заключению, что обезьяны-зрители явно подражали обезьянам, действия которых они видели (см. Воронин, 1957).
У Л. Г. Воронина, работавшего со стадом молодых павианов-гамадрилов (II особей), в качестве положительного и отрицательного тормозящего сигнала были звонки разного тембра (см. Воронин, 1957).
У 6 обезьян подача звонка никогда не подкреплялась, и стремление бежать к пище при звуке звонка у животного возникало лишь при виде бегущих к кормушке особей или лри виде поедания пищи вожаком.
В опытах на подражание были использованы и макаки резусы. Подражательные реакции нажимания на рычаг появлялись у них при стуке метронома. Это действие нетренированные животные переняли из подражания. На условный сигнал — стук метронома — они бежали к рычагу, хватали его, а потом завладевали кормом. Точно так же было обнаружено, что нетренированные обезьяны легко перенимали действия, которые производили в их присутствии обезьяны, воспроизводившие те или другие выработанные навыки.
Г. И. Ширкова отмечает, что у детенышей обезьян весьма ярко выражено подражание действиям матери, производившей различного вида движения в экспериментальной ситуации. Этот автор наблюдала, как угасшая ориентировочно-исследовательская реакция обезьян проявлялась под влиянием такой же реакции другой обезьяны (см. Воронин, 1957).
Л. Б. Козаровицкий, исследовавший взрослого шимпанзе, сообщает, что эта обезьяна из подражания перенимает не только положительные и отрицательные условные рефлексы, но и их переделки; шимпанзе без предварительной тренировки правильно реагирует на изменение сигнального значения раздражителя (Козаровицкий, 1956).
Чрезвычайно интересна работа Л.А. Фир-сова, изучавшего следовое подражание у шимпанзе. Испытуемыми животными были три самки шимпанзе (6 с половиной, 7 и 10 лет), содержавшиеся в институте И.П. Павлова в лаборатории приматов (Фирсов, 1959).
Методика его опытов сводилась к изучению следовых условных рефлексов на пищевые раздражители. Исследование проводилось таким образом, чтобы между серией опытов, демонстрирующих выполнение определенных действий, и актуализацией их обезьяной-имитатором был известный промежуток времени (от нескольких минут до 14 суток). Следовые условные рефлексы на пищу образуются быстро даже при отсрочке в 30 минут.
274 Н.Н. Ладыгина—Котс
Л.А. Фирсов доказал, что следовое подражание у шимпанзе формируется более успешно при одновременном предъявлении им положительных и дифференцировочных деталей ситуации. Оно зависело как от индивидуальных, так и от возрастных особенностей.
Нельзя не упомянуть и о самостоятельно возникающей подражательной деятельности высших обезьян, связанной с употреблением предметов человеческого обихода, например, карандашей для черчения на бумаге. Нами наблюдались два шимпанзе (4 и 10 лет — Иони и Петер), оба из которых при виде пишущего экспериментатора, регистрирующего их поведение, нередко и сами пытались получить карандаш и старались водить им по бумаге, предаваясь этому занятию длительное время. Иони даже плакал, когда у него отнимали карандаш, и выхватывал его из рук экспериментатора, а при отсутствии карандаша иногда пускал слюни и размазывал их указательным пальцем.
Сравнение характера "рисунков" обоих шимпанзе, вернее, нанесенных на бумагу штрихов, наглядно показывало, что взрослый шимпанзе воспроизводил более сложные штрихи, чем молодой. Этот последний (Иони) обычно проводил лишь горизонтальные или слегка Перекрещивающиеся линии, старался испещрять ими сплошь весь имеющийся лист бумаги, в то время как Петер наносил то в центре листа, то направленные к углам листа концентрированные скопления коротких штрихов, состоящих из отрезков, скученных в одном месте линий (Ладыгина- Котс, 1935;
Morris, 1962).
Но следует подчеркнуть, что даже взрослый шимпанзе никогда не передавал в своих "рисунках" хотя бы подобие видимых предметов, что легко делал ребенок уже в 2,5 года.
В рисунках детей этого возраста обычно изображаются "головоноги", то есть подобия человечков, у которых из головы тянутся вниз и в стороны "руки" и "ноги" в виде прямых линий.
Способность шимпанзе к нанесению штрихов наблюдал В. Р. Букин. Но он не обнаружил у них воспроизведения образов (Букин, 1961).
Способность низших обезьян к чирканью карандашом по бумаге была зафиксирована и описана B.C. Мухиной, наблюдавшей, в частности, за капуцином. Однако карандашные штрихи капуцина явно уступали по их сложности и четкости таковым у шимпанзе (Morris, 1962).
Особый случай подражательных действий обезьян представляет их способность к подражательному конструированию, то есть к составлению фигур из отдельных элементов.
В зарубежной литературе в опытах Кэти Хейс с шимпанзе Вики приводится факт, свидетельствующий именно о таком подражании (Heyes, 1952).
Наблюдая действия воспитательницы с цветными объемными фигурами. Вики могла брать из группы положенных перед ней фигур подобные тем, которые брала воспитательница и составлять пирамиды. Но, проводя эти И1 тересныс опыты, Кэти Хейс не дает их анал» эа и не показывает, в какой степени обезьяна получала помощь от экспериментатора и насколько она действовала самостоятельно.
Мы при исследовании аналогичного подражательного конструирования у шимпанзе Иони проводили эксперимент по иному методу. Во-первых, мы составляли пирамиду в присутствии шимпанзе, но не давали ему возможности брать элементы составной фигуры сразу же после их выбора экспериментатором, а заставляли ждать, пока не будет составлена вся фигура. Во-вторых, в некоторых опытах мы давали готовую фигуру-образец, побуждая шимпанзе сделать такую же самостоятельно. Отличались по цвету и предложенные для составления элементы.
У К. Хейс составляемые элементы были разноцветные, у нас — одноцветные (цвета не крашеного, а лишь лакированного дерева), что, несомненно, затрудняло выбор.
С Иони было проведено 119 опытов на подражательное составление фигур по образцу, состоящему из 2—5 элементных частей.
Анализ этих опытов показал, что шимпанзе мог правильно составлять лишь 2-элементные фигуры, причем процент абсолютно правильных решений (без проб) подобных задач равнялся 34. Менее удачно он составлял 3-элемен-тные фигуры (8,3% абсолютно правильных решений), еще хуже —4-и 5-элементные фигуры (5,2% абсолютно правильных решений).
Если составление 2-элементных фигур обезьяна производила самостоятельно и нередко сразу же правильно, то при 3—4-элементных фигурах она часто ошибалась и только отвер-гание экспериментатором ее постройки и лишение ее поощрения (в виде игры) побуждало ее к исправлению ошибок и получению фигуры, подобной предложенному образцу.
Эти же опыты, проведенные в плане сравнения подражательной конструктивной спо-
Послесловие к книге Я. Дембовского "Психология обезьян' 275
собности шимпанзе и трех детей (4-летнего возраста), обнаружили принципиальное, качественное превосходство последних в осуществлении подражательного конструирования фигур по образцу.
Дети, как правило, превосходно конструировали не только 2-, 3-, 4-, но и 5-элемент-ные фигуры; они сразу и безошибочно выбирали нужные элементы из группы предложенных, совершенно самостоятельно составляли из них фигуру, подобную образцу. Более сложные фигуры у них получались даже лучше, потому что дети при этом были более внимательны, чем при составлении простых фигур, осуществляемом небрежно. Кроме того, так как сложные фигуры-образцы давались обычно после действия над простыми, то дети, конечно, приобретали большой опыт в их конструировании.
Но интересно, что характер ошибок, например, при составлении 3-элементных фигур у детей совпадал с тем, что наблюдалось у шимпанзе Иони.
Так, и шимпанзе и дети пропускали включение среднего элемента (при конструировании 3-элементных фигур), составляя лишь основание и верхушку фигуры. А при воспроизведении 4-элементных фигур они пропускали два средних элемента. Но у шимпанзе подобные ошибки встречались часто, а у детей — лишь в виде исключения.
Психологический анализ этих опытов обнаружил, что аналитико-синтетическая деятельность шимпанзе качественно, принципиально отлична от таковой у ребенка того же возраста.
Это положение подтверждалось не только тем, что дети, как правило, имели более точное восприятие при выборе нужного составного элемента из группы различных избираемых и сохранили более прочное представление о фигуре-образце, но и тем, что они производили более точную аналитико-синтетическую деятельность — мысленное расчленение фигуры-образца и ее конкретное воспроизведение. В подавляющем большинстве случаев дети выполняли задания правильно и самостоятельно, при полном отсутствии руководящей помощи со стороны экспериментатора, выражавшейся в отношении шимпанзе в отвергании неверно составленных фигур и вторичном составлении фигуры-образца.
Дети не только лучше владели техникой составления, лучше знали статику фигур (учитывали положение устойчивости и неустойчивости), но и вносили инициативу при
конструировании. Нередко после осуществления правильного воспроизведения фигуры-образца они сами осложняли эту фигуру дополнительными элементами. Они пытались воспроизвести подобие вещей из обихода человека и называли сделанные ими фигуры "столиком", "скамейкой", "самолетом", "поездом". Порой дети стремились привести сконструированные ими вещи в состояние движения и, сделав, например, подобие самолета, поднимали фигуру в воздух — имитируя полет действительного самолета, или двигали ее по столу — воспроизводя движение поезда.
Уже такое беглое сравнение характера подражательного конструирования по образцу у шимпанзе и у детей вскрывает безусловное качественное различие этих процессов у обезьян и у человека. Об этом свидетельствует способность к стремление детей к уподоблению сделанных ими конструкций вещам из человеческого обихода, к конструированию по заранее задуманному плану, точнее, в соответствии с мысленным образом конструируемой вещи.
В заключение подведем итог результатов исследований поведения и психологии обезьян советскими учеными, которые конкретизировали особенности психики этих ближайших к человеку животных.
Обезьяны имеют точные восприятия различных признаков предметов; они обладают способностью предпочитания некоторых признаков (цвета, формы, величины); у них сохраняются следы восприятий, запечатлеваются зрительные образы — представления предметов; у них установлено наличие гене-рализованных представлений. У обезьян можно выработать сложные зрительно-двигательные навыки; они имеют элементарное, конкретное, образное мышление (интеллект) и способы к элементарной абстракции (in concrete) и обобщению. И эти черты приближают их психику к человеческой. Однако их интеллект качественно, принципиально отличен от понятийного мышления человека, имеющего язык, оперирующего словами, как сигналами сигналов, системой кодов, в то время как звуки обезьян хотя и чрезвычайно многообразны, но выражают лишь их эмоциональные состояния и не имеют направленного характера. Обезьяны, как и все другие животные, обладают лишь первой сигнальной системой действительности.
276
Как показывают экспериментальные исследования, обезьяны способны к осуществлению таких сложных форм деятельности, как конструктивная и даже орудийная, но при осуществлении конструирования, умея из подражания составить из отдельных частей фигуру, подобную предложенному образцу, они никогда не пытались сконструировать вещь по мысленному образу ее в противоположность детям, которые легко это делали. Пользуясь из подражания человеку карандашом и нанося на бумагу разнообразные линии, обезьяны никогда не пытались воспроизвести хотя бы простейший рисунок, передающий какой-либо образ из окружающего их мира.
Орудийная деятельность обезьян имеет свои особенности: вспомогательный предмет они употребляют в качестве орудия, но не закрепляют за ним определенного значения и по миновании надобности уничтожают его. Высшие обезьяны могли видоизменять непригодный для употребления предмет путем некоторой обработки; они даже могли составить орудие из нескольких частей, но это соединение осуществлялось не намеренно, а случайно в игровой деятельности, удачные результаты которой использовались ими успешно. Устанавливаемые ими связи носили пространственно-временной, а не причинно-следственный характер, что обнаруживалось при видоизменении ситуации опытов, когда они сразу теряли верный путь решения.
Таким образом, совершенно очевидно, что за последние 20—25 лет советские ученые в своих исследованиях психологии обезьян затрагивали самые разнообразные темы.
Они изучали и инстинктивные формы поведения обезьян, и навык, и особенно интеллект, давая новые факты для суждения о психике этих животных и ее особенностях.
Много работ было посвящено анализу физиологических механизмов поведения обезьян.
Большая часть исследований психологии обезьян проведена советскими учеными в плане сравнительной психологии, что позволяет делать выводы, имеющие прямое отношение к проблеме антропогенеза, указывая на черты сходства и черты различия человека и обезьяны. Эти работы конкретизируют биологические предпосылки к возникновению в процессе становления человека специфически человеческих черт — мышления понятиями в связи со словом.
С. Л. Новоселова* ОБРАЗОВАНИЕ НАВЫКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАЛКИ У ШИМПАНЗЕ
Навык как явление, включающее систему поведенческих реакций животного, издавна привлекал внимание исследователей своими методическими возможностями для выяснения закономерностей высшей нервной деятельности, элементарного мышления животных и их сенсорных процессов.
Анализируя навык у антропоидов, исследователи определяли сенсорные дифференци-ровки, различные качества и количества предметов. Таковы работы советских ученых, например Э. Г. Вацуро, Н. Ю. Войтониса, П. К. Денисова, Н. Н. Ладыгиной-Коте, И. П. Павлова, Г. 3. Рогинского, В. П. Протопопова, А. Е. Хильченко, М. П. Штодина. В исследованиях над низшими и высшими обезьянами они, в частности, выясняли, особенности предметного мышления обезьян, анализируя образование сложных навыков при условии преодоления животными различных препятствий на пути доставания приманки.
Факты использования шимпанзе и низшими обезьянами палок и прочих предметов для достижения приманки приводили ученых к проблеме употребления и даже "изготовления" орудий антропоидами.
Однако иногда навык употребления палки рассматривается либо как инстинктивная видовая особенность антропоидов, либо, в случае внезапного правильного употребления обе-зьяной палки, как проявление особого "вникания" в ситуацию. Некоторые исследователи считают навык употребления палки реакцией условнорефлекторной, формирующейся у обезьяны в качестве приспособитель-ной формы поведения.
Исследования над двумя молодыми самцами шимпанзе, проведенные А. Е. Хильченко (1955), экспериментально показали, что на-
* Новоселова С.Л. Образование навыка использования палки у шимпанзе // Вопросы антропологии. 1960. Вып.2. С. 31—37.
вык пользования палкой для доставания приманки, расположенной на недостижимом для рук расстоянии, не является врожденной реакцией шимпанзе, а формируется в зависимости от условий жизни.
Шимпанзе обладают довольно высоко развитым уровнем высшей нервной деятельности, о чем свидетельствуют, например, их ярко выраженная способность манипулирования предметами и многочисленные наблюдавшиеся различными авторами (Э. Г. Вацуро, В. Ке-лер, Н. Н. Ладыгина-Коте, Г. 3. Рогинский, Л. А. Фирсов, А. Е. Хильченко) факты использования этими обезьянами палок и других предметов в качестве "орудий" для доставания приманки.
Такие высшие формы поведения антропоморфных обезьян, как использование палок, преодоление различного рода препятствий для доставания приманки и другие виды сложного поведения формируются у них в течение жизни. Они складываются из отдельных двигательных рефлексов, образующих сложные реакции. Направленность таких реакций иногда истолковывается как умственная преднамеренная деятельность. Но на самом деле здесь налицо лишь сложные сенсомоторные навыки, являющиеся биологическими предпосылками трудовых действий у человека.
Как и всякая сложная двигательная реакция, навык употребления обезьяной палки для доставания приманки формируется постепенно. Он не является реакцией инстинктивной в том смысле, в каком мы говорим об инстинктивном употреблении пчелой воска для вы-делывания ячеек на вощине. У пчелы строительство ячеек состоит из серии безусловнорефлекторных инстинктивных действий, вне выполнения которых существование данного вида насекомых немыслимо. У антропоида употребление палки в качестве "орудия" для доставания приманки является условнорефлекторным актом, вызванным определенными условиями обстановки при добывании пищи, и носит характер индивидуальной, а не видовой приспособляемости животных.
Хотя навыки у обезьян изучаются не менее пятидесяти лет, однако исследователи сложных форм поведения обезьян, констатируя образование тех или иных навыков, обычно не анализируют детально процесс их установления, недостаточно пытаются проследить его формирование в связи с условиями данной ситуации и биологическими возможностями животного. Исследование образования
278 С. Л. Новоселова
навыка употребления вспомогательного предмета антропоидом имеет принципиальное значение для понимания важнейшей проблемы возникновения орудий труда у человека. В настоящей работе нами приводятся данные, полученные в опытах со взрослым самцом шимпанзе Султаном по формированию двигательного навыка использования палки при доставании приманки.
Опыты проводились в период с мая по июль 1957 г. В них использовались выструганные сосновые палки длиной 40 см (диаметр — 1 см). Приманка на экспериментальном столике располагалась на определенном расстоянии от отверстия в решетке клетки, через которое обезьяна могла свободно просовывать руки. В опытах по формированию навыка приманка всегда располагалась таким образом, что достать ее можно было лишь с помощью палки. Расстояние от отверстия в решетке до приманки было от 95 до 110 см. Нами было проведено 300 опытов, происходивших в дневное время. До того Султан никогда в нашей лаборатории самостоятельно палками не пользовался. Палки, попадавшие в его клетку, Султан обычно расщеплял и изгрызал, не пытаясь что-либо доставать ими. Перед обезьяной на экспериментальном столе приманка (долька апельсина) помешалась за пределами возможности доставания рукой; рядом, вплотную соприкасаясь концом с решеткой, лежала палка. В подобной ситуации Султан в течение 20 опытов тщетно пытался дотянуться до приманки рукой, либо совсем не обращая внимания на палку, либо изгрызая ее в промежутках между попытками. После того как экспериментатор дважды демонстративно придвинул приманку палкой движением от себя к обезьяне, Султан сделал первую попытку достать приманку палкой, однако ограничился тем, что высунул палку в сторону плода.
Только после трех последующих показов Султан впервые придвинул концом палки дольку апельсина на несколько сантиметров к себе и взял рукой. С этого момента нами было предпринято тщательное протоколирование каждого опыта. При анализе полученных данных обнаружились факты, характеризующие постепенное формирование навыка использования палки.
Вначале движения руки Султана были крайне неловкими, состоящими из отдельных мало целесообразных и чрезвычайно напряженных рывков. В ходе повторных придвига-ний плода постепенно происходило торможение излишне напряженных и неправильных
движений руки с палкой, которые становились более продолжительными и плавными. Проанализируем несколько протоколов опытов, чтобы представить себе эту картину изменения характера движений.
Протокол опыта № 2 (от 18 мая 1957 г.).
Долька мандарина лежит на расстоянии 95 см от отверстия в решетке клетки. Султан входит в экспериментальную клетку, смотрит в сторону подкорма. Первое движение — протягивание руки в сторону плода, но оно затормозило ь, когда рука высунулась до половины предплечья. Султан изменяет первоначальное направление руки и берет палку, лежащую на краю экспериментального стола, осторожно подводит к дольке и подталкивает ее концом палки к борту стола справа налево. На несколько мгновений он отвлекается на шум в коридоре: движение руки с палкой прекращено, голова повернута в сторону коридора. В следующую секунду Султан продолжает подтягивать дольку осторожными движениями, ведя ее концом палки по борту стола. Иногда он, подталкивая палкой плод, промахивается, делает движение палкой по воздуху выше дольки на 1—2 см. Начинает толкать не концом, а ребром палки. Затем он сразу продвигает дольку ближе к себе, делает попытку достать дольку рукой, но, не дотянувшись, снова ребром палки придвигает дольку ближе к себе, берет ее и съедает.
На рисунке изображена траектория движения конца палки в опыте № 3 (от 18 мая 1957 г.). Мы видим, как и в приведенном выше протоколе, насколько сложной для шимпанзе является вначале операция приближения приманки палкой (рис. 1, а, б).
Прерывистость движения руки Султана, неуверенность направления им конца палки и, наконец, взмахи палкой над долькой — все это свидетельствует о недостаточной коорди-нированности работы отдельных групп мышц. В руке шимпанзе при этом осуществляется сложный комплекс мышечных усилий в кисти, предплечье и плече: при тоническом сокращении мышц еще не налажена координация между синергистами и антагонистами, между частями верхней конечности. Султан не может еще оперировать палкой, при активности одной кисти он оперирует рукой в целом;
все мышцы, вся колоссальная сила верхней конечности употребляются на такое, не требующее, казалось бы, никакого напряжения действие, как придвигание к себе легкой дольки апельсина. При этом наблюдается и недостаточная координация работы глаза и руки.
Образование навыка использования палки у шимпанзе 279
иногда Султан, вместо того, чтобы приближать к себе дольку, отодвигает ее от себя, промахивается. Вместе с тем уже в этом опыте, втором по счету, наблюдается переход Султана от оперирования концом палки к придвиганию подкорма ее ребром, что в последующих опытах окончательно закрепляется.
В опыте № 8 (18 мая 1957 г.) Султан оперирует палкой, держа ее в правой руке, как и во всех других опытах. Первые его движения неуверенные, сначала он придвигает приманку ребром палки, два раза ее концом, затем опять ребром: в результате шестм движений вытянутой руки с палкой Султан придвигает к себе дольку. В последующем 13-м предъявлении дольки Султан, взяв вновь палку, коснулся концом дольки апельсина и четким движением придвинул ребром палки ее на 20 см, затем еще на 30 см, после чего взял рукой. В этом опыте у обезьяны впервые достаточно четко проявляются более слитные и продолжительные движения руки, держащей палку.
|
|
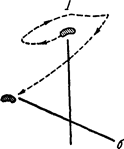
Рис. 1. Траектория движения палки в начале (I) и в конце (II) формирования навыка:
а—исходное положение палки; б— конечное положение
Обезьяна постепенно переходит от многих прерывистых движений к двум—трем движениям. Наконец, в девятнадцатом опыте (20 мая 1957 г.) Султан в первый раз придвигает приманку сразу на 50 см единым слитным движением правой руки. При повторении предъявлении приманки все чаще осуществляются направленные движения, а прерывистые становятся реже. В результате Султан начинает систематически придвигать дольку сразу, одним движением руки. На основании полученных данных нами был построен график выработки у шимпанзе навыка использования палки для доставания приманки (рис. 2).
Движения руки с палкой в ходе одного и того же опыта не являются равнозначными,
а имеют свои особенности. Обращает на себя внимание тот факт, что притягивание палкой дольки, как определенное действие, распадается на несколько движений, не равных по своей протяженности. Первые движения у шимпанзе (в опытах № 12, 16, 17 и других) имеют размах в 10—20 см, а последние в 20— 30 см. Первое движение, особенно в начале, бывает обычно более замедленным, протекает с большим напряжением, чем последнее, завершающее движение, сравнительно быстрое и плавное.

Рис. 2. График формирования навыка употребления палки у шимпанзе:
По вертикали — средние данные числа движений рук с палкой; по горизонтали — порядковые номера групп ответов по пяти
В наших опытах также наблюдалось затруднение движения вначале, когда приманка приближалась одним движением. Это показывает запись опыта № 28 (20 мая 1957 г.): "Одним движением, с небольшим мышечным затруднением вначале, Султан продвинул дольку на 40 см ребром палки по дуге и взял приманку рукой". Такая затрудненность начала действия, выраженная в медленном, напряженном, напоминающем рывок движение руки с палкой, гипотетически может быть объяснена тем, что установка костно-мышечно-го аппарата руки обезьяны происходит не заранее, а лишь в процессе самого продвигания приманки концом палки. Следует отметить, что если вначале вся рука принимала участие в напряженном придвигании дольки палкой, судорожно сжимаемой кистью, то, по мере отработки навыка, мышечно-двигательное
280 С. Л. Новоселова
напряжение уменьшалось в плече и в предплечье, а кисть становилась более гибкой.
Если в начале наших опытов палка служила обезьяне лишь удлинителем ее руки и, как бы сливаясь в одно целое с держащей ее кистью, не играла самостоятельной роли, то в ходе дальнейших опытов обезьяна стала придвигать плод, используя для этого палку как вспомогательный предмет. Здесь, конечно, нет того сознательного употребления орудия, которое присуще человеку, но с точки зрения рефлекторных механизмов необходимо проанализировать сложный процесс формирования навыка использования обезьяной палки для притягивания приманки и постараться понять, в чем разница между простым удлинением конечности палкой и использованием палки как орудия для доставания приманки.
В начале наших опытов обезьяна не только не умела владеть палкой, но даже не пробовала взять ее во время попыток достать приманку. В силу рефлекса подражания (механизма которого мы не будем здесь касаться) у обезьяны на основании зрительно-пищевого возбуждения, путем положительных подкреплений установилась связь "движения палки — приближение пищи": обезьяна видела действия экспериментатора с палкой и следствия этого действия — придвижение плода в пределы досягаемости для взятия рукой.
Султан, как это видно из протоколов, вначале пытался придвинуть дольку концом палки, приводя в действие главным образом мышцы плеча и предплечья: кисть из активной деятельности выключалась. Огромное напряжение мышц кисти шло только на сжимание конца палки, следовательно, вся рука выполняла только функцию рычага, кисть же не использовалась как орган, направляющий более дифференцированные движения. Подталкивая концом палки дольку по столу, Султан подводил ее к краю, и она падала.
Оперирование концом палки ни разу не дало положительного результата, в то время как случайное цепляние ребром палки за дольку приближало ее к обезьяне. Сравнительно слабые мышечные двигательные усилия при оперировании концом палки захватывали преимущественно мышцы предплечья, плеча и плечевого пояса. Эти движения сопровождались неизменной неудачей и не подкреплялись получением приманки. При условии неподвижности руки в луче-запястном суставе придвигание дольки апельсина ребром палки требует значительно большего мышечного усилия, чем толкание ее концом. Но придвигание
дольки ребром палки подкреплялось положительно.
Постепенно, за счет торможения неэффективных движений руки в целом, формировался навык использования палки для придвига-ния приманки, осуществляемый только движениями обезьяньей кисти. Кисть стала главным рабочим органом. В ходе дальнейших опытов движения кисти рук становятся более дифференцированными: обезьяна не только удерживает палку, но и направляет ее. Такое направленное использование палки происходит при взаимно коррегирующей деятельности двух анализаторов: двигательного и зрительного.
В начале описываемых опытов Султан брал палку рукой за среднюю часть или за первую треть конца, ближайшего к решетке, но в ходе опытов выяснилось, что в первом случае обезьяне приходилось высовывать руку почти до плеча в отверствие клетки, что затрудняло движения и не всегда приводило к достижению приманки.
В протоколах отмечено, что иногда Султан, держа палку описанным образом и оставив попытку достать приманку, брал палку за ближайшую к себе часть, после чего достигал цели. Ко времени окончательного упрочения навыка Султан оперировал палкой, держа ее только за ближайший к себе конец.
Имея в виду факты, изложенные в настоящей статье, можно охарактеризовать навык использования палки у шимпанзе, как постепенно и с трудом формирующуюся систему сенсомоторных приспособительных реакций. Обезьяна овладевает способами удерживания и оперирования палкой не сразу, а лишь в ходе закрепления биологически более экономичных действий с одновременным торможением неподкрепляемых движений.
В ходе опытов наблюдались случаи нарушения четкости воспроизведения сформировавшегося навыка у обезьяны. В доказательство приводим протоколы опытов №13 и 14 (18 мая 1957 г.). Султан берет палку правой рукой, касается приманки концом палки, затем четкими движениями придвигает дольку апельсина сначала на 20 см, затем еще на 30, после чего берет дольку. Перед опытом Султан был возбужден криком другой обезьяны, и в результате долька апельсина была придвинута лишь после семи движений руки с палкой:
сначала они были верные; затем кисть руки Султана .стала перемещаться вдоль палки до ее середины, и тогда движения рук стали неловкими, шимпанзе придвигал к себе приман-
Образование навыка использования палки у шимпанзе
ку концом палки, а не ребром; позже пальцы обезьяны, мере приближения дольки, перемещались вдоль палки в сторону плода; наконец, султан оставил палку и, вытянув руку вдоль палки, достал с трудом ДОЛЬКУ пальцами. Из приведенных выше протоколов мы видим, что в опыте N 13 навык у шимпанзе выражен уже четко Но Достаточно было внешним причинам создать очаг возбуждений В Мозгу обезьяны, как оно индуцировало повышение пищевого импульса Который постепенно снял промежуточное звено, затормозил цепь условных рефлексов при Оперировании палкой, И привел В Данном опыте к отказу от палки. Чем ближе придвигалась приманка, тем сильнее становилось пищевое возбуждение, вызывавшее к действию инстинктивную реакцию схватывания пиши рукой взамен уже установившегося условнорефлек-торного использования палки. Таким образом, навык как высокая форма приспособляемости к условиям среды может быть нарушен внешними агентами, возбуждающе действующими на нервную систему обезьяны. Эти Наблюдения показывают также, что быстрота И четкость выполнения Навыка снижаются при условии общей заторможенности или возбужденности обезьяны.
ВЫВОДЫ
1. Навык использования палки как вспомогательного предмета у шимпанзе формируется в качестве индивидуально-приспособи-тельной реакции и не является прирожденной видовой формой поведения.
2. Процесс формирования навыка использования палки для придвижения к себе приманки включает образование временной связи "палка—плод а затем становление навыка как операции или способа действия палкой В качестве "орудия".
3. В ходе становления навыка как способа действия происходит постепенный переход от оперирования рукой в целом как рычагом, к специализированным действиям кистью, как органом, не только удерживающим палку, но и направляющим се действия в соответствии с ее специфическими свойствами орудия.
4. Раздражители внутреннего и внешнего порядка могут вызывать нарушение сформировавшегося навыка использования палки и открывать путь к возникновению реакции бе-зусловнорефлекторного характера.
В.С.Мухина
О ГРАФИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИМАТОВ В СВЯЗИ С
ГЕНЕЗИСОМ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ОТНОШЕНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТУ
ДЕЙСТВИЙ*
Приматы по сравнению с другими млекопитающими находятся уже на том уровне развития, когда их привлекает манипулирование с непищевыми предметами (Войтонис, 1948;
Ладыгина-Котс, 1923, 1935, 1958; Маркова, 1961; Нестурх, 1958; Рогинский, 1948; Kellog, Kellog,1933). Подобная способность объясняется И. П. Павловым как своего рода "настойчивая" и "бескорыстная" любознательность. Высокий уровень развития этой деятельности у обезьян сравнительно с другими животными объясняется их биологическими особенностями (Войтонис, 1948; Лады-гина-КоТс, 1958) и особенно наличием у них рук (Плеханов, 1956). Благодаря этому они имеют возможность вступать в очень сложные отношения с окружающими предметами. Вот почему у них образуется масса ассоциаций, которых не имеется у остальных животных. Так как эти двигательные ассоциации должны иметь свой материальный субстрат в нервной системе, в мозгу, то и большие полушария у обезьян развились больше, чем у других, причем развились именно в связи с разнообразием двигательных функций (И. П. Павлов). В связи с развитием руки у обезьян достигло большого развития осязательно кинестетическое обследование, принимающее зачастую активный характер и сопровождающееся при этом зрительным контролем.
В связи с вышеуказанным манипулирование обезьян предметами приобретает ряд своеобразных особенностей. К их числу мы можем отнести наблюдаемые при известных условиях случаи так называемого "рисования", или, вернее, чиркания**. Ряд явлений такого рода, как склонность обезьян к размазыванию поверхности предметов красящими веществами, к чирканию углем или карандашом по листу бумаги, к оставлению следов от острых предметов уже описаны многими исследователями (Вацуро, 1948; Кёлер, 1930; Ладыгина-Коте, 1923, 1935, 1958; Рогинский, 1948; Kellog, Kellog, 1933; Morris, 1962;
* Мухина В. С. О графической деятельности приматов в связи с генезисом эмоционального отношения к результату действий. // Вопросы психологии. 1964. №4. С.160—170.
Rensch, 1957; Schiller, 1958).
H. H. Ладыгина-Котс (1958) следующим образом характеризует подобные действия обезьян: "Эти весьма сложные действия обезьяны могут осуществлять благодаря высокой степени их наблюдательности, большой активности и способности к содружественной зрительно-кинестетической рецепции в сложном интегрировании своих действий".
Обезьяны, не получая никакого поощрения за нанесение каракули на бумагу, с большой охотой занимаются чирканием***. Удовольствие, которое они при этом испытывают, подтверждено мимикой и всем поведением обезьяны. Они начинают проявлять агрессию, если попытаться отнять карандаш.
Известно, что, употребляя карандаш, обезьяны зрительно контролируют свои каракули и отказываются чиркать, как только грифель сломается (Ладыгина-Котс, 1935; Morris, 1962;
Schiller, 1958). (Это мы наблюдали у шимпанзе "Розы" и "Пата", которые, сломав карандаш, отбрасывали его в сторону и протягивали руку за отточенным карандашом).
Обезьяны подолгу пачкают поверхность бумаги как карандашом, так и красками. Очевидно, именно поэтому ряд зарубежных исследователей усматривает в этой деятельности обезьян первые проблески эстетического чувства. Еще в 1894 г. английский ученый Томас Хаксли в своей работе "Место человека в природе" сообщил, что "сходство между высшими обезьянами и человеком простирается на поведение, заключающееся в выразитель-
** Различные следы, оставляемые на бумаге обезьянами, мы будем называть элементами чиркамья, или первичными формами графической деятельности, а само действие — чирканием.
*** Обезьяны Келера с величайшим интересом следили за рисующей обезьяной и за результатом ее действия. Желание чиркать у маленького шимпанзе "Иони" (Н.Н. Ладыгина-Котс) было настолько сильным, что он даже плакал, когда видел карандаш, но не мог получить его.
О графической деятельности приматов 283
ности эмоций. Исключительные индивиды среди высших обезьян имеют зачатки артистического импульса к искусству". Директор Британского музея Г. де-Бер в статье "Эволюция человека" (1958) указывает на живописные композиции, выполненные шимпанзе "Конго". Ренш (Rensch, 1957) и Моррис (Morris, 1962) также усматривают в этой деятельности обезьян первые проблески эстетического чувства. Эту точку зрения поддерживают некоторые теоретики искусства, которые исходят из того, что чувство прекрасного в своей примитивной форме свойственно и животным. В этих случаях ссылаются на Ч. Дарвина, который приводит многочисленные факты использования животными ярких природных материалов с целью привлечения особи другого пола.
Против антропоморфических взглядов на чувство прекрасного в нашей литературе выступил А. Г. Спиркин (1960), справедливо подчеркивая при этом и ошибочность противоположного убеждения в том, что эстетические чувства человека не имеют никаких биологических предпосылок.
В данной работе мы стремимся представить некоторый экспериментальный материал, отвечающий на вопросы о том, как и почему возникает чиркание у обезьян и в какой мере элементарные эмоции обезьян, вызванные результатом этого действия, можно сравнить с эстетическими чувствами человека.
КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ЧИРКАНИЕ У ПРИМАТОВ?
Методика наблюдения за чиркающими действиями подопытных обезьян была весьма проста: перед обезьяной клали лист бумаги определенного формата и рядом отточенный с одного конца карандаш. С каждой обезьяной проводилось одно занятие в день, оно продолжалось 20—30 мин. За это время обезьяны делали обычно 5—7 рисунков. Нами были использованы материалы графической деятельности шести обезьян* (четырех шимпанзе и двух капуцинов, которые были сопоставлены
* Капуцины "Кларо" и "Кобра", а также шимпанзе "Роза" наблюдались нами в Институте экспериментальной патологии и терапии АМН СССР в Сухуми. Шимпанзе "Лада" наблюдалась в лаборатории проф. С. Н. Брайне-са. Нами были тщательно рассмотрены и проанализированы результаты чиркания шимпанзе "Иони", рисунки которого были нам любезно предложены Н. Н. Ладыги'-ной-Котс. Некоторый материал мы получили от шимпанзе "Пата", принадлежащего французскому дрессировщику де Капеллини.
с рисунками троих детей на протяжении от десяти месяцев до трех лет
Нам удалось наблюдать спонтанное научение чирканию у шимпанзе "Розы", которая, манипулируя данными ей карандашом и бумагой, сама, без специальной выучки, начала чиркать карандашом по бумаге. "Роза" заметила, что при определенных движениях карандаша и определенном его положении карандаш оставляет след на бумаге, а, заметив, она повторяет то же движение.
Мы полагаем, что механизм возникновения чиркания у обезьян сходен по механизму своего возникновения с другими случаями предметно-манипуляционной активности у обезьян. Здесь имеет место воспроизведение обезьяной своих собственных действий, результат которых в силу ее "любознательности" заинтересовал обезьяну.
Первоначальные каракули, появляющиеся из-под руки обезьяны, — прерывающиеся, с одинаковым слабым нажимом линии. Обезьяна зажимает карандаш в руке между первой и второй фалангами первого и второго или второго и третьего пальцев или в кулаке. В результате часто прорывается бумага и ломается карандаш. Однако обезьяна не оставляет это занятие, так как действия карандашом в процессе игровой деятельности и полученные в результате этого линии ее явно развлекают, что подтверждается мимикой. Упражнение руки в этом направлении помогает обезьяне усвоить новые, более экономные движения. Уже через месяц после начала манипуляции с предметами рисования наблюдаемая нами шимпанзе "Роза" иногда использовала при чиркании самый "экономный" способ рисования, держа карандаш на первой и второй фалангах второго и третьего пальцев. Большой палец свободно лежит на карандаше. Движения производятся кистью руки. В этом случае карандашом проводятся штрихи в виде нескольких закругленных линий.
Таким образом, если на первых этапах чиркания наблюдается слабое техническое выполнение, являющееся результатом пока еще недостаточной отработки двигательного навыка, то в дальнейшем происходит процесс совершенствования чиркающих движений.
Результаты анализа чиркания обезьян можно кратко суммировать следующим образом:
1. В процессе чиркания обезьяны (шимпанзе и капуцины) усваивают более совершенные движения; наравне с этим используются также и менее совершенные приемы; движения кистью и движения всей руки перемежаются.
284 B.C. Мухина

Рис. 1. Капуцин "Кларо". Слева—слабые линии, справа многочисленные точки. (Институт экспериментальной патологии и терапии АМН СССР, Сухуми),

Рис. 2. Шимпанзе "Роза". Размашистые округлые линии. (Институт экспериментальной патологии и терапии АМН СССР, Сухуми)
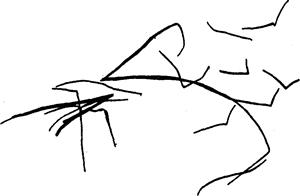
Рис. 3. Шимпанзе "Роза". В результате рассматривания случайно поставленной каракули шимпанзе повторяет движение и получает другую каракулю, близкую по виду к первой
О графической деятельности приматов 285
2. В зависимости от совершенствования приемов чиркания улучшается техника чиркания.
3. В результате развития специальных двигательных чиркающих движений результаты чиркания — так называемые "рисунки" обезьян — становятся разнообразными и многочисленными.
4. Вновь освоенное движение не исчезает, а повторяется, совершенствуется, в результате чего появляется новый вид каракули.
5. Процесс чиркания обезьян большей частью отличается произвольными движениями руки (преимущественно правой), но можно отметить и другое, непроизвольное чиркание, которое мы наблюдали у шимпанзе. Речь идет о случаях, когда шимпанзе, совершив произвольное движение, вдруг обратит особое внимание на результат этого движения — на нанесенный на бумагу след. В результате рассматривания каракули шимпанзе повторяет движение и получает другую, близкую по виду к первой, которую она также рассматривает. Это может повторяться много раз, пока это действие снова не станет стереотипным. Здесь можно отметить не только совместную деятельность зрения и руки, но и в некотором роде предвосхищение результата деятельности.
Чрезвычайно интересно в теоретическом отношении сопоставление каракулей обезьян с каракулями, выполняемыми детьми. Результаты чиркающей деятельности обезьян внешне так же разнообразны, как и результаты до-изобразительной деятельности детей (Ладыгина-Коте, 1935; Kellog, 1955; Morris, 1962). Однако доизобразительная деятельность маленького человека очень скоро начинает нести качественно новую нагрузку. Рассмотрим результаты наших наблюдений более подробно. На первом этапе своего развития графическая деятельность обезьян (рисование каракулей) опережает детское чиркание: мышечный контроль обезьян (исследовались обезьяны в возрасте от трех лет и старше) выше детского, и уже за сравнительно короткий срок обезьяны могут овладеть более отчетливыми движениями. Что касается психической стороны, то причину, объясняющую "бескорыстное" чиркание (наши испытуемые не получали никакого поощрения), мы видим в сложной психической организации приматов и полагаем, что графическая деятельность у обезьян и годовалого ребенка представляет собой сумму следующих деятельностей: вначале ориентировочно-исследовательской, а затем двигатель-но-игровой и обрабатывающей. Стремление
анализировать, изменять предметы в ситуации "карандаш—бумага" побуждает к многочисленным обрабатывающим действиям, в том числе и чирканию: белая поверхность листа становится иной для восприятия. Изменение восприятия и является поводом продолжительного чиркания. Эта деятельность становится возможной только на определенном уровне психического развития*.
Второй этап — характеризуется длительным упражнением руки у ребенка и шимпанзе. Освоенные действия совершенствуются, в результате чего приобретается возможность выполнять более сложные, чем произвольное чиркание, действия. Эта возможность подтверждается случаями, когда обезьяна и ребенок хорошо повторяют случайно поставленную каракулю и получают другую, близкую по виду к первой. К подобному результату можно прийти, когда будет установлена связь между действием и результатом действия и когда возможен зрительный контроль над движением руки.
Этот второй этап, видимо, является последним взятым рубежом в развитии графической деятельности обезьяны. Развитие каракулей, идущее параллельными путями, прекращается у обезьян и уходит вперед у маленького человека. В развитии детских каракулей происходит качественный скачок: прежде безразличные (в смысле содержания) каракули становятся смысловыми благодаря вызванному по ассоциации и закрепленному словом образу того или иного предмета.
Из приведенных наблюдений над обезьянами можно заключить следующее: в процессе биологического развития приматов появляется способность к таким действиям, как способность обезьян к изменению поверхности предмета с помощью чиркающих действий, а также способность к воспроизведению своих каракулей, осуществляемых у обезьян в процессе ориентировочной и двигательно-игровой деятельности. "Рисование" обезьян мы рассматриваем как специфический вид их предметной двигательно-игровой деятельности. Эта деятельность обезьян явилась биологической предпосылкой возникновения у человека такого социального явления, как изобразительная деятельность.
* Нами была сделана безуспешная попытка научить низших обезьян (макаки-резусы, гелады, павианы, зеленые мартышки) и ручных грызунов (белка и белая мышь) чиркать по бумаге.
286 B.C. Мухина
МОЖНО ЛИ ОБУЧИТЬ ОБЕЗЬЯНУ
ГРАФИЧЕСКОМУ
ИЗОБРАЖЕНИЮ?
Что касается обучения обезьян графическому изображению, то до сих пор не удалось обучить их изображать даже простейшие знаки, которые несли бы для обезьян смысловую нагрузку. Правда, Витмер заставлял шимпанзе рисовать мелом на доске изображенные на его глазах буквы, и в некоторых случаях эта обезьяна, отличающаяся вообще большой развитостью, воспроизводила их довольно удачно.
Наблюдения Н. Н. Ладыгиной-Коте показывают, что, несмотря на некоторое развитие, каракули шимпанзе не достигают стадии создания образа, как это происходит при рисовании у ребенка. В случае обучения простейшему изображению "в подавляющем большинстве случаев в самопроизвольном подражании обезьяны осуществляют только внешне сходные с человеческими действия, не оканчивающиеся эффективным результатом... Обезьяна проводит линии, а не рисует что-либо, как это делает уже трехгодовалый ребенок" (Ладыгина-Котс, 1958). В. Р. Букин (1961) также обучал шимпанзе повторять простейшие изображения (линии, овалы). Автор объясняет результаты чиркания обезьян игрой или "внешним подражанием". В. Р. Букин также подтверждает возможность для обезьян "нарисовать" фигуру, которая была бы схожа с изображением, предложенным экспериментатором. Однако, как указывает автор, у обезьян трудно обнаружить явно выраженную способность к изображению даже при длительном и часто повторяющемся показе образца. Подражая движениям человека, обезьяна может "нарисовать" связанные с этими движениями простейшие фигуры. Подобные наблюдения проводились в 1959 г. в Колтушах 3. Каменской, эксперименты которой подтверждают слабую способность шимпанзе копировать движения рисующей руки экспериментатора.
Наши наблюдения показали, что каракули шимпанзе становятся подражательными после длительной тренировки. Пока еще не удалось научить обезьяну с помощью знака выражать какую-либо, даже примитивную, ассоциацию. Хотя нами не отрицается в категорической форме возможность такого научения, но мы, если даже это и произойдет, будем склонны считать подобный результат не изображением, а условнорефлекторным действием.
Если бы обезьяна могла быть способна четко подражать своим каракулям и простейшим знакам, нарисованным экспериментатором, эти ее действия все равно нельзя было бы приравнять к достижениям ребенка, который способен не только изобразить, но и объяснить и понять окружающие предметы. Изобразительная деятельность является истинно человеческим достижением.
В КАКОЙ МЕРЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЯХ У ОБЕЗЬЯН?
Обезьян в их действиях с карандашом и красками привлекают как появляющиеся линии, так и многочисленные цветовые пятна. Множество фактов (Ладыгина-Котс, 1935;
Маркова, 1961; Фабри, 1961; Morris, 1962;
Rensch, 1957) свидетельствует также о том, что у них существует избирательное отношение к определенным цветам и их сочетаниям, что они могут запомнить цветовой тон. Все это имеет определенный биологический смысл. У птиц, например, внутри каждого вида известный цвет вызывает безусловнорефлектор-ную реакцию, "привлекает" животных этого вида, и в случае, если особь резко отличается от остальных птиц вида (альбинос), ее преследуют нормально окрашенные собратья.
Нами проводились опыты над большим количеством врановых птиц*. Для определения наличия предпочитания цветов мы заимствовали методику у немецкого ученого Ренша:
предъявляли птицам расположенные на щите по кругу хроматические и ахроматические бумажные квадраты. Оказывалось, что врановые предпочитают всем ахроматическим черный цвет**, а из хроматических—красные и желтые. Предпочитание всем ахроматическим черного сразу становится понятным, если вспомнить, что черный цвет является видовым для всех перечисленных врановых.
Той же методикой мы воспользовались для проверки наличия предпочитания цветов у низших обезьян. В опыте участвовали два капуцина, две гелады, четыре макаки резуса, две макаки лапундера. Результаты опытов показали, что при сопоставлении хроматических цветов все низшие обезьяны не выказали резко выраженного предпочтения.
* Вороны, сороки, вороны, галки, грачи.
** Особенно резко предпочитают ворон и сорока.
О графической деятельности приматов 287

Рис. 4. Результаты чиркания шимпанзе "Пата". (Принадлежит французскому дрессировщику де Капеялини)
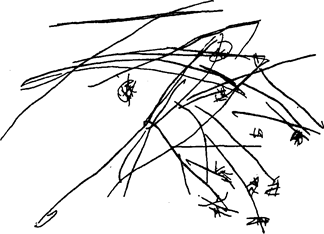
Рис. 5. Шимпанзе "Иони". Пересеченные линии и "островки" мелких линий. (Из архива Н. Н. Ладыгиной-Котс)
Анализируя работы Н. И. Ладыгиной-Котс (1923, 1958), А. Я. Марковой (1961), Морриса (1962), Ренша (1957), К. Э. Фабри (1961) и наши личные наблюдения, мы приходим к выводу, что обезьяны (высшие и названные виды низших) не имеют выраженного видового предпочитания какого-либо определенного цвета. Здесь имеет место скорее индивидуальное предпочитание. Если, по данным Марковой, макаки резусы предпочитают синий цвет, то наши наблюдения скорее говорят о предпочтении ими красного цвета. Если Н. Н. Ладыгина-Котс наблюдала у шимпанзе
"Иони" некоторое предпочтение синего прочим цветам, то Д. Моррис обнаружил слабое предпочитание красного, оранжевого и синего у шимпанзе "Конго", а Н. Ф. Левыкииа наблюдала явное предпочтение красного у "Малыша". Таким образом, у обезьян наблюдается индивидуальное предпочтение цвета. Это, очевидно, зависит от ассоциативных связей, которые обезьяна получила в результате личного опыта. Индивидуальное предпочитание качественно отлично от видового предпочитания того или иного цвета. Если видовое предпочитание обусловлено биологически и выступает
288 B.C. Мухина
как безусловный акт, то индивидуальное пред-почитание можно рассматривать скорее как проявление условных связей, образовавшихся в результате стихийного эмоционального переживания, появление которого часто трудно установить, а следовательно, и объяснить*.
Известно, что эстетическое чувство может возникнуть лишь в результате осмысленного, значит, оценивающего восприятия действительности. Человек оценивает предмет как прекрасный или безобразный, как соответствующий или несоответствующий его эстетическому идеалу. Эстетические чувства порождаются содержанием, идеей произведения, вложенными в него мыслями и чувствами художника. Короче, чувство должно быть "рождено идеею" и должно "выражать идею"**.
Однако элементарные эстетические переживания могут волновать людей и без "осмысленного восприятия действительности". Мы имеем в виду всем известные эстетические переживания при различении цветов. "Люди,— как-то верно отметил Гете, — в общем очень радуются цветам, глаз чувствует потребность их видеть, так же как он чувствует потребность видеть свет".
Описанные в литературе факты и наши специально направленные опыты показывают, что и у обезьян наблюдается эмоционально-положительное отношение к восприятию цветов. Обезьяны способны реагировать на любой хроматический цвет и никогда не отказываются от "рисования" любой краской. Индивидуальное предпочитание обезьянами того или иного цвета говорит о том, что они способны эмоционально реагировать на цветовые раздражители, вовсе не являющиеся безусловными.
Заключая, подчеркнем, что "бескорыстный интерес" приматов к чирканию карандашом и малеванию красками не имел бы места, если бы обезьяны не испытывали в какой-то мере удовольствия. Приматы явно развлекаются действиями карандашом и получаемыми при этом линиями и пятнами. Исследователи приматов неоднократно подмечали индивидуальный характер стиля каракулей обезьян. Так, например, у шимпанзе "Циппи" (Моррис) чаще всего встречались горизонтальные линии, у "Иони" (Ладыгина-Коте) — пересеченные линии, у нашей "Розы"—размашистые округ
лые линии и "галочки", "Конго" (Моррис) "превосходно" рисовал спиралеобразные линии. Наблюдаемые нами капуцины рисовали слабые замыкающиеся линии, а у капуцина "Кларо" часто встречались многочисленные точки.
Бесспорно, что индивидуальные особенности обезьян в чиркании зависят от выработанных привычек в движении и, может быть, даже от анатомических особенностей строения руки. Но можно предположить, что образование привычки к рисованию определенных каракулей зависело не только от движения руки, но и в какой-то мере от испытываемого при этом удовольствия. Цветовые пятна и линии вызывают у обезьян элементарную реакцию, которую можно рассматривать как закономерно возникшую эмоцию.
Таким образом, можно думать, что в процессе биологического развития обезьян у них могут возникать эмоциональные состояния, которые могли послужить биологической основой для зарождения и развития эстетических чувств у предков человека.
* Моррис (1962) отмечал, что у шимпанзе "Джона" при рисовании карандашом к красками возникало половое возбуждение.
*• Белинский В. Г. Собр. соч., Т. 6. С. 466.
Д.Б. Эльконин ТЕОРИИ ИГРЫ*
Игра животных и человека давно интересовала философов, педагогов и психологов, но предметом специального психологического исследования она становится только в конце XIX в. у К. Грооса. До Грооса итальянский ученый Д. А. Колоцца предпринял попытку систематизировать материалы о детских играх. В его книге содержится попытка раскрыть психологическое и педагогическое значение детской игры. Именно этим объясняется то, что итогом психологической части книги является классификация игр по психическим процессам, которые наиболее ярко представлены в тех или иных играх и которые, по мысли автора, в этих играх упражняются.
У Колоцца есть мысли, предвосхищающие будущую теорию Грооса, как на это справедливо указывает А. Громбах в предисловии к русскому изданию книги Д. А. Колоцца «Детские игры, их психологическое и педагогическое значение» (1909). «У высших животных, — пишет Колоцца,— включая и человека, борьба за существование в первое время не особенно тяжела и жестока. Новорожденные находят у матери или, как бывает в большинстве случаев, у отца и матери помощь, защиту и заботливость. Их жизнь в значительной степени поддерживается трудом и деятельностью тех, кто произвел их на свет; их сила, которую не приходится употреблять для добывания пропитания, тратится свободно таким образом, что эту затрату нельзя считать трудом. <...>
В другом месте, описывая игры домашних кошек, Колоцца пишет" «Очень скоро у них (котят) появляется интерес ко всему, что катится, бежит, ползает и летает. Это — подготовительная стадия к будущей охоте на мышей и птиц» (Колоцц, 1909, с. 27). Именно эта мысль об игре как предвосхищении будущих серьезных деятельносгей, высказанная Колоцца, а до него высказывавшаяся и Г. Спенсером, и была положена К. Гроосом в основу его теории игры.
* Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1978. С. 65—92 (с сокр.).
Теория игры К. Грооса довольно хорошо известна и была широко распространена в первой четверти XX в. Давая ей самую общую характеристику, Гроос называет ее теорией упражнения или самовоспитания. Основные идеи «теории упражнения» К. Гроос определяет в следующих положениях:
"1) Каждое живое существо обладает унаследованными предрасположениями, которые придают целесообразность его поведению; у самых высших животных к прирожденным особенностям их органической натуры следует отнести и импульсивное стремление к деятельности, проявляющееся с особенной силой в период роста...
2) У высших живых существ, особенно у человека, прирожденные реакции, как бы необходимы они ни были, являются недостаточными для выполнения сложных жизненных задач.
3) В жизни каждого высшего существа есть детство, т. е. период развития и роста, когда оно не может самостоятельно поддерживать свою жизнь; эта возможность дается ему при помощи родительского ухода, который в свою очередь опирается на прирожденные предрасположения.
4) Это время детства имеет целью сделать возможным приобретение приспособлений, необходимых для жизни, но не развивающихся непосредственно из прирожденных реакций;
поэтому человеку дано особенно длинное детство — ведь чем совершеннее работа, тем дольше подготовка к ней.
5) Возможная благодаря детству выработка приспособлений может быть различного рода. Особенно важный и вместе с тем самый естественный путь выработки их состоит в том, что унаследованные реакции в связи с упомянутой импульсивной потребностью в деятельности сами стремятся к проявлению и таким образом сами дают повод к новоприобретени-ям, так что над прирожденной основой образуются приобретенные навыки — и прежде всего новые привычные реакции.
6) Этот род выработки приспособлений приводится при помощи тоже прирожденного человеку стремления к подражанию в теснейшую связь с привычками и способностями старшего поколения.
7) Там, где развивающийся индивидуум в указанной форме из собственного внутреннего побуждения и без всякой внешней цели проявляет, укрепляет и развивает свои наклонности, там мы имеем дело с самыми изначальными явлениями игры» (Гроос, 1916).
290 Д.Б. Эльконин
Резюмируя свои рассуждения о значении игры, Гроос пишет: «Если развитие приспособлений для дальнейших жизненных задач составляет главную цель нашего детства, то выдающееся место в этой целесообразной связи явлений принадлежит игре, так что мы вполне можем сказать, употребляя несколько парадоксальную форму, что мы играем не потому, что мы бываем детьми, но нам именно для того и дано детство, чтобы мы могли играть» (там же, с. 72).
В теорию игры К. Грооса хотя и вносились самые разнообразные поправки и дополнения, в целом она была принята Э. Клапаредом (в его ранних работах), Р. Гауппом, В. Штерном, К. Бюлером, из русских психологов — Н. Д. Виноградовым, В. П. Вахтеровым и другими.
Не было почти ни одного писавшего об игре автора, который не пытался бы внести свои коррективы или дополнения к теории К. Грооса. История работы над созданием общей теории игры до выхода в свет книги Ф. Бой-тендайка (Buytendijk, 1933) (если не считать теории 3. Фрейда) была историей поправок, дополнений и отдельных критических замечаний к теории К. Грооса, связанных с общими взглядами на процесс психического развития ребенка.
Остановимся на критических замечаниях к теории игры К. Грооса.
Э. Клаларед в своей статье (Claparede, 1934), посвященной книге Бойтендайка, писал: в начале XX в. психологи вообразили, что имеют ключ к загадке игры, который им дал в руки К. Гроос, в то время как он заставил их только осознать загадку саму по себе. С тех пор вопрос об игре представляется еще более сложным, чем прежде.
Нельзя не согласиться с этой оценкой роли работ К. Грооса об игре. К. Гроос, конечно, не решил загадки игры, эта загадка полностью не решена и сегодня. Но величайшей заслугой Грооса является то, что он поднял проблему игры и своей теорией предупражнения выдвинул ее в разряд тех деятельностей, которые являются существеннейшими для всего развития в детстве. Как бы мы ни относились к теории Грооса, сколь спорной она бы ни казалась нам сейчас, в его теории содержится положение о важном значении игры для психического развития, и это положение должно быть нами удержано, хотя и существенно обновлено. К. Гроос, собственно, не создал теории игры как деятельности, типичной для периода детства, а только указал, что эта деятельность имеет определенную биологичес
ки важную функцию. Теория К. Грооса говорит о значении игры, но ничего не говорит о природе самой игры.
В. В. Зеньковский в предисловии к русскому изданию книги К. Грооса «Душевная жизнь ребенка» писал: «Насколько глубока и ценна биологическая концепция детских игр, развитая Гроосом, настолько же, надо сознаться, слаб и поверхностен порой психологический анализ их у Грооса. Действительно, центральное значение игр в жизни ребенка может быть удержано лишь в том случае, если кроме общих рассуждений может быть раскрыта зависимость от игр всего душевного развития ребенка. Биологическая теория игры может быть удержана, если только удастся показать психологическую связь игры со всеми процессами, происходящими в душе ребенка, если удастся сделать психологию игры отправной точкой для объяснения детской психики. У Грооса мы не только не находим этого, но при чтении его книги создается невольно впечатление, что он даже не подозревает всей трудности возникающих здесь проблем» (Гроос, 1916, с. 4). «Бросивши ряд ценных замечаний по психологии игры, Гроос не ставит игру в центр психического развития, как это требует его же теория» (там же).
К. Гроос просто констатирует, что игра имеет характер предупражнения, и в этом он видит ее биологический смысл; его доказательства этого основного тезиса сводятся к аналогиям между игровыми формами поведения детенышей и соответствующими формами серьезной деятельности взрослых животных. Когда К. Гросс видит котенка, играющего с клубком, то только потому, что его движения при этом напоминают движения охоты взрослой кошки за мышью, он относит эту игру к «охотничьим играм» и считает их пре-дупражнениями. Он ставит перед собой не вопрос о том, что это за форма поведения, каков ее психологический механизм, а вопрос о том, каков биологический смысл такого «несерьезного» поведения. Является ли его ответ на этот вопрос доказательным? Думается, что нет. Доказательство по аналогии в данном случае не выдерживает критики.
Перейдем, однако, к анализу основных положений К. Грооса по существу.
Можно считать правильной основную предпосылку, из которой исходит Гроос. Действительно, на известной стадии филогенетического развития животных видового опыта, жестко фиксированного в различного рода наследственных формах поведения, оказывается не-
Теории игры 291
достаточно для приспособления к усложнившимся и, главное, постоянно изменчивым условиям существования. Возникает необходимость в индивидуальном опыте, складывающемся в ходе индивидуальной жизни. Прав Гроос и в том, что этот индивидуальный опыт, эти новые приспособления не могут возникнуть непосредственно, из прирожденных реакций. Игра, с точки зрения Грооса, и есть та деятельность, в которой происходит образование необходимой надстройки над прирожденными реакциями, «образуются приобретенные навыки — и прежде всего новые привычные реакции».
Однако в этих положениях Грооса есть, по крайней мере, два спорных момента. Во-первых, он хотя и считает, что индивидуальный опыт возникает на основе видового, наследственно фиксированного, но противопоставляет эти две формы приспособлений. Такое противопоставление не отражает их действительной связи. «Формирование индивидуального опыта, — справедливо указывает А. Н. Леонтьев, — заключается в приспособлении видового поведения к изменчивым элементам внешней среды» (Леонтьев, 1965, с. 296). Следовательно, ничего не надстраивается над видовым поведением, а просто само видовое поведение изменяется, становится более гибким.
Во-вторых, трудно представить себе, чтобы в игре животных— деятельности, не связанной с борьбой за существование и, следовательно, проходящей в особых условиях, ничуть не сходных с теми, в которых будет происходить, например, реальная охота животного, — возникали реальные приспособления. В ней отсутствует главное — реальное подкрепление, без которого, как это было известно уже во времена Грооса, невозможны возникновение и фиксация новых конкретных форм видового опыта. Как вообще может произойти даже самое маленькое изменение в видовом опыте, если основные потребности детенышей удовлетворяются взрослыми и детеныши даже не вступают в реальные отношения с условиями их будущей жизни? Конечно, никаких новых форм видового опыта в игре возникать не может.
Вернемся, однако, к Гроосу. Ошибочность логики рассуждений Грооса заключается в том, что, подойдя к игре телеологически, приписав ей определенный биологический смысл, он начал искать его в играх животных, не раскрывая их действительной природы, даже не сравнив игрового
поведения с утилитарным, не проанализировав игру по существу.
Грубейшую ошибку допускает К. Гроос и в том, что переносит прямо, без всяких оговорок, биологический смысл игры с животных на человека. К. Гроос много спорит с Г. Спенсером. Он спорит с его теорией «избытка сил», хотя и принимает ее в конце концов с известными поправками: возражает против роли подражания, на которую указывал Г. Спенсер, считает, что ни о каком подражании у животных не может быть речи. Однако, споря со Спенсером по отдельным частным вопросам, он остается спенсерианцем в принципиальном подходе к проблемам психологии человека вообще, к вопросам игры ребенка в частности. Суть этого подхода, который может быть назван позитивистским эволюционизмом, заключается в том, что при переходе к человеку, несмотря на чрезвычайное отличие условий жизни человека от жизни животных и возникновение кроме природных еще и социальных условий, появление труда, законы и механизмы приспособления, в частности механизмы приобретения индивидуального опыта, принципиально не изменяются. Такой натуралистический подход к игре человека (ребенка) является ложным. К. Гроос, как, впрочем, и ряд психологов, стоящих на позициях спенсеровского позитивизма, не видит того, ставшего после работ К. Маркса очевидным, факта, что переход к человеку принципиально меняет процесс индивидуального развития.
К. Гроос в своей теории игры угадал (не понял, а именно угадал), что игра имеет важное значение для развития. Эта догадка Грооса, как мы уже говорили, должна быть удержана во всякой новой теории игры, хотя само понимание функции игры в развитии должно быть пересмотрено.
Вопрос, поставленный Гроосом, может быть переформулирован так: что нового вносит игра в видовое поведение животных, или какую новую сторону видового поведения строит игра; в чем заключается психологическое содержание предупражнений? Именно этот вопрос и служит предметом всех дальнейших исследований игры животных.
После опубликования К. Гроосом работ по игре его теория стала господствующей и была признана всеми или почти всеми психологами. В ней были реализованы те общие принципиальные позиции, на которых находились психологи того времени и которые выше были характеризованы как позиции спенсеровского позитивизма. Однако, принимая теорию К. Гро-
292 Д. Б. Эльконш
оса в целом, некоторые психологи вносили в нее свои дополнения и поправки, приспосабливая ее к своим воззрениям. <...>
К. Бюлер принимает теорию предупреждения К. Грооса. Так, он пишет: «Для животных, в высшей степени способных к дрессировке, животных с «пластическими» способностями, природа предусмотрела период развития, во время которого они более или менее подчинены покровительству и примеру родителей и сверстников, ввиду подготовки к действительной, серьезной жизни. Эта пора, называется юностью, и с ней теснейшим образом связана юношеская игра. Молодые собаки и кошки и человеческое дитя играют, жуки же и насекомые, даже высокоорганизованные пчелы и муравьи, не играют. Это не может быть случайностью, но покоится на внутренней связи: игра является дополнением к пластическим способностям и вместе они составляют эквивалент инстинкта. Игра дает продолжительное упражнение, необходимое еще несозревшим, неустойчивым способностям, или, вернее сказать, она сама представляет собой эти упражнения» (Бюлср, 1924, с. 23).
Высоко оценивая теорию К. Грооса, К. Бюлер относит возникновение игры в филогенезе как предупражнения к стадии дрессуры. Вместе с тем К. Бюлер считает, что теория К. Грооса, указывая на объективную сторону игры, не объясняет ее, так как оставляет нераскрытой ее субъективную сторону. В раскрытии этой, с точки зрения К. Бюлера, важнейшей стороны игры он исходит из своей теории первичности гедоналогических реакций*.
Для объяснения игры К. Бюлер вводит понятие функционального удовольствия. Это понятие получает свою определенность при отграничении его, с одной стороны, от удовольствия-наслаждения, с другой—от радости, связанной с предвосхищением результата деятельности.
Критически оценивая теорию избытка сил Г. Спенсера, К. Бюлер пишет: «Нет, природа следовала прямым путем, ей нужно было для механизма дрессировки излишек, расточительное богатство деятельностей, движений тела, особенно у молодых животных, которые должны подготовиться и упражняться для серьезной жизни, и с этой целью она наделила самую деятельность удовольствием, она создала механизм удовольствия от функциониро-
* Общая критика теории гедонизма не входит в нашу задачу.
вания. Деятельность, как таковая, соразмерное, гладкое, без трений функционирование органов тела независимо от всякого результата, достигаемого деятельностью, обратилась в источник радости. Вместе с тем был приобретен двигатель неустанных проб и ошибок» (Бюлер, 1924, с. 504-505).
К. Бюлер считает, что функциональное удовольствие могло появиться впервые на ступенях возникновения навыков и как биологический механизм игры стало жизненным фактором первого разряда. Исходя из этого, К. Бюлер дает свое определение игры: «Деятельность, которая снабжена функциональным удовольствием и непосредственно им или ради него поддерживается, мы назовем игрой, независимо от того, что она кроме того делает и в какой целесообразной связи стоит» (там же, с.508).
Так как в концепции К. Бюлера центральным моментом игры является функциональное удовольствие, прежде всего необходимо оценить его действительное значение. Допустим, что К. Бюлер прав и что действительно существует удовольствие от деятельности как таковой. Такое функциональное удовольствие выступает как мотив, т. е. как то, ради чего производится деятельность, и одно временно как внутренний механизм, поддерживающий ее повторение. Дрессировка предполагает повторение в целях закрепления таких новых форм поведения (навыки), которые необходимы для лучшего приспособления к изменяющимся условиям жизни. Функциональное удовольствие и есть механизм, лежащий в основе вызова и повторения определенных движений. Такое повторение и приводит в конце концов к закреплению этих повторяемых форм поведения.
Может ли, однако, функциональное удовольствие лежать в основе отбора форм поведения? Примем и второе положение К. Бюлера, что для отбора форм поведения необходим их излишек, расточительное богатство деятельностей, движений тела, особенно у молодых животных. Что же из этого богатства должно быть отобрано, а затем и закреплено?
Если рассмотреть приобретение новых форм поведения по механизму проб и ошибок, то уже само название этого способа содержит в себе возможность отбора: успешные действия отбираются, повторяются и закрепляются, а ошибочные тормозятся, не повторяются, не закрепляются. Но ведь функциональное удовольствие есть двигатель всяких проб, в том числе и ошибочных. Следователь-
Теории игры 293
но, функциональное удовольствие, в лучшем случае, должно приводить к повторению, а следовательно, закреплению любых деятель-ностей, любых движений. Экспериментальные исследования научения, проведенные американскими психологами, данные по образованию условных рефлексов школы И. П. Павлова, наконец, практический опыт дрессировки говорят о том, что в формировании новых приспособлений решающее значение имеет отбор, а этот последний связан с подкреплением, т. е. с удовлетворением потребности. Таким образом, подкрепление потребности является решающим для отбора тех деятельностей, которые могут приводить к ее удовлетворению. Функциональное же удовольствие вызывает и подкрепляет движение само по себе, безотносительно к его приспособительной функции. К. Бюлер упрекал 3. Фрейда в том, что он является теоретиком репродуктивное™, но сам К. Бюлер, вводя удовольствие от функционирования, не выходит за пределы репродуктив-ности, а еще более ее утверждает. <....>
Таким образом, допущение К. Бюлера, что функциональное удовольствие — это сила, приводящая на стадии дрессуры к новым приспособлениям, является неоправданным. Не оправдано и допущение К. Бюлера, что игра является всеобщей формой дрессуры. Дрессура тем отличается от упражнения, что предполагает отбор и формирование новых приспособлений, в то время как упражнение предполагает повторение и совершенствование уже отобранного. Так как игра, по определению К. Бюлера, независима от всякого результата и, следовательно, не связана с реальным приспособлением, она не может содержать в себе отбора приспособлений, подлежащих последующему упражнению.
Наше рассмотрение теории К. Бюлера было бы неполным, если бы мы не упомянули вторую сторону игры, указываемую К. Бюлером. Кроме функционального удовольствия он отмечает управляющий игрой принцип формы или стремление к совершенной форме. Формулируя этот второй принцип, К. Бюлер ссылается на работы Ш. Бюлер, Г. Гетцер и других психологов венской школы. Наиболее полно этот принцип представлен в работах Ш. Бюлер.
Ш. Бюлер, указывая, что К. Бюлер дополняет теорию К. Грооса двумя положениями (специфическое функциональное удовольствие и существенность формального успеха), уточняет свою мысль и говорит, что формирование, которое представляет собой овладение и
усовершенствование, приносит с собой удовольствие, и функциональное удовольствие надо понимать как связанное не с повторением, как таковым, а с прогрессирующим с каждым повторением формированием и усовершенствованием движения. Отсюда Ш. Бюлер дает определение игры как деятельности с направленностью на удовольствие от усовершенствования [10, с. 56]. При таком понимании игры закономерно, что Ш. Бюлер считает чистыми играми функциональные, манипу-лятивные игры самых маленьких детей.
Что нового вносит это положение об изначальном стремлении к усовершенствованию, с которым якобы связано функциональное удовольствие? Оно не разрешает, а еще больше запутывает вопрос. Оторвав формальные достижения упражнений от материального успеха деятельности, К. Бюлер, а за ним и Ш. Бюлер, вводя понятие изначального стремления к совершенной форме, не указали, каковы те критерии совершенствования, которыми пользуется животное или ребенок, переходя от одного повторения к другому. Таких критериев, конечно, нет и не может быть там, где нет образца и отношения к нему как к образцу. Если у Грооса давалось телеологическое объяснение игры в целом, то К. и Ш. Бюлер доводят этот телеологизм до своего логического конца, усматривая внутреннюю цель в каждом отдельном повторении. Пытаясь дополнить и исправить теорию Грооса анализом субъективных моментов игры, К. Бюлер фактически лишь углубил телеологизм Грооса.
Теория К. Бюлера не оставляет места для естественнонаучного объяснения игры, для понимания игры как деятельности животного, связывающей его с действительностью, попытки которого хотя и в минимальном виде, но содержались у Г. Спенсера и отчасти у К. Грооса. Телеология окончательно вытесняет биологию в объяснении игры.
До появления работы Ф. Бойтендайка (Buytcndijk, 1933) теория К. Грооса оставалась господствующей. Ф. Бойтендайк представил новую, оригинальную попытку создания общей теории игры.
Характеризуя отношение теории Бойтендайка к теории Грооса, Клапаред (Claparede, 1934) писал, что концепция подготовительного значения игры преодолена Бойтен-дайком в его работе, посвященной природе и значению игры, богатой идеями (более богатой идеями, чем наблюдениями) и иллюстрированной очень красивыми фотографиями играющих детей и животных.
294 Д.Б. Эльконин
Укажем прежде всего два главных возражения Бойтендайка против теории предупраж-нения К. Грооса. Во-первых, Бойтендайк утверждает, что нет никаких доказательств того, что животное, которое никогда не играло, обладает менее совершенными инстинктами. Упражнение, по мысли Бойтендайка, не имеет для развития инстинктивной деятельности такого значения, какое ему приписывают. Психомоторная деятельность, по мысли Бойтендайка, не нуждается в том, чтобы быть «проигранной» для готовности функционировать, как цветок не нуждается в игре для того, чтобы прорасти. Таким образом, первое возражение заключается в том, что инстинктивные формы деятельности, также как и нервные механизмы, лежащие в их основе, созревают независимо от упражнения. В этом возражении Бойтендайк выступает как сторонник теории созревания, идущего под влиянием потенциальных внутренних сил.
Во-вторых, Бойтендайк отделяет собственно упражнение от игры, указывая, что такие подготовительные упражнения существуют, но когда они являются таковыми, то не являются игрой. Для доказательства этого положения Ф. Бойтендайк приводит ряд примеров.
Когда ребенок учится ходить или бегать, то эта ходьба является хотя и несовершенной, но реальной. Совсем другое, когда ребенок, умеющий ходить, играет в ходьбу. Когда маленький лисенок или другое животное выходит со своими родителями на охоту, чтобы упражняться в этом, то деятельность не носит игрового характера и совершенно отлична от игр в охоту, преследование и т. п. этих же животных. В первом случае животное убивает свою жертву, в другом — ведет себя совершенно безобидным образом. Попытку отличить упражнение в будущей серьезной деятельности от игры, которую делает Бойтендайк, следует признать заслуживающей внимания.
Свою теорию игры Бойтендайк строит, исходя из принципов, противоположных положениям К. Грооса. Если для К. Грооса игра объясняет значение детства, то для Бойтендайка, наоборот, детство объясняет игру: существо играет потому, что оно еще молодо.
Особенности игры Бойтендайк выводит и связывает, во-первых, с особенностями динамики поведения в детстве, во-вторых, с особенностями отношений данного вида животных с условиями его жизни, в-третьих, с основными жизненными влечениями.
Анализируя особенности динамики поведения, характерные для периода детства, Бой
тендайк сводит ее к четырем основным чертам: а) ненаправленность (Unberichtetheit) движений; б) двигательная импульсивность (Bewegungstrang), заключающаяся в том, что ребенок, как и молодое животное, постоянно находится в движении, являющемся эффектом спонтанной импульсивности, имеющей внутренние источники. Из этой импульсивности вырастает характерное для детского поведения непостоянство;
в) статическое» отношение к действительности (pathische Einstellung). Под «патическим» Бойтендайк разумеет отношение, противоположное гностическому и которое может быть характеризовано как непосредственно аффективная связь с окружающим миром, возникающая как реакция на новизну картины мира, открывающегося перед молодым животным или ребенком. С «патическим» отношением Бойтендайк связывает рассеянность, внушаемость, тенденцию к имитации и наивность, характеризующие детскость;
г) наконец, динамика поведения в детстве по отношению к среде характеризуется робостью, боязливостью, застенчивостью (Schuchtemheit). Это не страх, ибо, наоборот, дети бесстрашны, а особое амбивалентное отношение, заключающееся в движении к вещи и от нее, в наступлении и отступлении. Такое амбивалентное отношение длится до тех пор, пока не возникнет единство организма и среды.
Все эти черты — ненаправленность, двигательная импульсивность, патическое отношение к действительности и робость—при известных условиях приводят молодое животное и ребенка к игре.
Однако сами по себе, вне определенных условий, эти черты не характеризуют игрового поведения. Для анализа условий, при которых возникает игра, Бойтендайк проводит анализ игр у животных. При этом он исходит из анализа среды, в которой живет животное и к которой оно должно приспособиться.
По мысли Бойтендайка, в зависимости от характера условий жизни высших животных млекопитающих можно разделить на две большие группы: травоядных и плотоядных. Последние являются природными охотниками. У этих последних игра имеет особенно большое распространение. Травоядные млекопитающие играют очень мало или вовсе не играют. Отличительной чертой взаимосвязи животных-охотников со средой является их установка на оформленные физические объекты, четко дифференцируемые в поле охоты. Исключение из
Теории игры 295
травоядных представляют обезьяны, которые в противоположность другим травоядным живут в дифференцированной и разнообразной среде. С животными-охотниками они имеют то общее, что способом добывания ими пищи является схватывание предварительно выделенных предметов. «Охотников» и обезьян Бой-тендайк называет животными, «сближающимися с вещами» (Ding-Annaherungstiere).
Анализ распространенности игры среди млекопитающих приводит Бойтендайка к выводу, что играющими животными являются именно эти «сближающиеся с вещами» животные. Результаты этого анализа приводят Бойтендайка к первому отграничению игры от других деятеяь-ностей: «Игра есть всегда игра с чем-либо». Отсюда он делает вывод, что так называемые дви-гательные игры животных (Гроос) в большинстве случаев не игры. Рассматривая вопрос об отношении, с одной стороны, удовольствия и игры, с другой — двигательной импульсивности и игры, Бойтендайк подчеркивает, во-первых, что нет никаких оснований все сопровождающиеся удовольствием действия называть игрой, во-вторых, движение — еще не игра. Игра есть всегда игра с чем-либо, а не только сопровождающееся удовольствием движение. Однако, заявляет Бойтендайк, только такие вещи, которые тоже «играют» с играющим, могут быть предметами игры. Именно поэтому мяч — один из излюбленных предметов игры.
Бойтендайк критикует представления об игре как проявлении инстинктов и считает, что в основе игры лежат не отдельные инстинкты, а более общие влечения. В этом вопросе большое влияние на Бойтендайка оказала общая теория влечений 3. Фрейда. Вслед за 3. Фрейдом он указывает на три исходных влечения, приводящих к игре:
а) влечение к освобождению (Befreiungstrieb), в котором выражается стремление живого существа к снятию исходящих от среды препятствий, сковывающих свободу. Игра удовлетворяет этой тенденции к индивидуальной автономии, которая, по мнению Бойтендайка, имеет место уже у новорожденного;
б) влечение к слиянию, к общности с окружающим (Wereinigungstrieb). Это влечение противоположно первому.
Вместе обе эти тенденции выражают глубокую амбивалентность игры;
в) наконец, это тенденция к повторению (Wiederholungstrieb), которую Бойтендайк рассматривает в связи с динамикой напряжения — разрешения, столь существенной для игры.
По мысли Бойтендайка, игра возникает при столкновении указанных первоначальных влечений с вещами, являющимися частично знакомыми, благодаря особенностям динамики молодого животного.
По ходу развития своих мыслей Бойтендайк делает ряд частных замечаний, которые представляют интерес и должны быть приняты во внимание при рассмотрении его теоретической концепции. Наиболее интересна его мысль о том, что играют только с такими предметами, которые сами «играют» с играющим. Бойтендайк указывает, что хорошо знакомые предметы так же не подходят для игры, как и совершенно незнакомые. Игровой предмет должен быть частично знакомым и вместе с тем обладать неизвестными возможностями. В животном мире это возможности главным образом моторного характера. Они обнаруживаются благодаря пробовательным движениям, и когда последние приводят к успеху, то создаются условия для игры.
Своеобразное отношение между знакомо-стью и незнакомостью в игровом предмете создает то, что Бойтендайк называет образом или образностью предмета. Он подчеркивает, что и животные и человек играют только с образами. Предмет только тогда может быть игровым объектом, когда он содержит возможность образности. Сфера игры — это сфера образов, и в связи с этим сфера возможностей и фантазии. Поэтому, уточняя свое определение игрового предмета, Бойтендайк указывает, что играют только с образами, которые сами играют с играющим. Сфера игры — это сфера образов, возможностей, непосредственно аффективного (Pathischen) и «гностически-нейтрального», частично незнакомого и жизненной фантазии. При переходе от игры к реальности предмет теряет свою образность и свое символическое значение.
Конечно, представление, что у животных имеет место образное фантазирование, является данью антропоморфизму.
Книга Бойтендайка, его теория игры, не прошла незамеченной. Из всех откликов, которые были на эту книгу, мы остановимся только на двух.
К. Гроос, против теории которого в известном смысле направлена работа Бойтендайка, посвятил ей статью (Groos, 1934). Он вынужден отметить прежде всего богатство мыслей, содержащихся в книге. Однако К. Гроос не соглашается с некоторыми основными положениями Бойтендайка. К. Гросс не согласен с тем, что основными признаками игры являются
296 Д.Б. Эльконш
ненаправленность и стремление к движению. Понятие ненаправленности, по мнению Гро-оса, очень многозначно и может претендовать на всеобщее значение для понимания смысла игры только в том случае, если будет дополнено возможной направленностью на цель, лежащую вне сферы самой игры. Стремление к движению тоже может быть принято как всеобщий признак, если к нему добавить и интенцию к движению, а не только реально производимые движения.
Не согласен К. Гроос и со сведением Бой-тендайком всех конкретных форм игр животных, в которых обнаруживаются различные инстинкты, к двум основным побуждениям (влечение к освобождению влечение к слиянию). Естественно, что К. Гроос не согласен со всеми возражениями против теории предуп-ражнения и показывает неубедительность доводов Бойтендайка на примере моторных игр которые, по Бойтендайку не имеют упражняющего значения.
Соглашается К. Гроос в принципе с тем, что «образность» предмета является существенным признаком игры и что игра — это сфера возможностей к фантазии, хотя и возражает против чрезмерного противопоставления образа и вещи.
Довольно большую статью, в которой не только дана критика концепции Бойтендайка, но развитыми собственные взгляды, опубликовал Э. Клапаред Claparede, 1934).
Возражения Э. Клапареда сводятся к следующему: а) особенности динамики молодого организма не могут быть основанием игры по следующим обстоятельствам: во-первых, потому, что они свойственны не только детенышам животных, которые играют, но и детенышам тех животных, которые не играют;
во-вторых, потому, что динамика проявляется не только в играх, но и в тех формах поведения, которые Бойтендайк не относит к играм (например, в прыжках, танцах, спорте);
в-третьих, игры есть у взрослых, хотя по самому определению им не свойственна такая динамика: наконец наиболее открыто эти особенности проявляются в таких деятсльностях, как забавы, бездельничанье, шутливое поведение и игры совсем маленьких, которые, по определению Бойтендайка, не есть игры в собственном смысле слова;
б) Бойтендайк чрезмерно ограничивает понятие игры. Хороводы, кувырканья, которым предаются дети на лугу, не относятся им к играм, хотя как раз для этих деятельностей характерны указываемые им черты детской
динамики (беспорядочность, бесцельность, ритмичность, повторяемость). Однако, по Бойтендайку, это не игры, так как в них нет деятельности с какими-либо вещами:
в) неудачным является термин «образ» для обозначения фиктивного или символического значения, которое играющий вносит в предмет своей игры.
Э. Клапаред считает, что работа Бойтендайка является более ценной в своей критической части, чем в конструктивной, и из нее явствует, что мы не обладаем еще законченной теорией игры. Бойтендайк не дает удовлетворительного ответа на вопрос о природе феномена игры потому, что избирает неправильный путь — путь характеристики внешней формы поведения.
По мысли Клапареда, суть игры не во внешней форме поведения, которое может быть совершенно одинаковым и в игре и не в игре, а во внутреннем отношении субъекта к реальности. Самым существенным признаком игры Клапаред считает фикцию. Реальное поведение трансформируется в игровое под влиянием фикции.
Рассмотрим теперь выдвигаемую Бойтен-дайком концепцию по существу и постараемся отделить в ней важное от спорного.
При анализе взглядов Бойтендайка отчетливо видно влияние, которое оказал на него 3. Фрейд своей теорией влечений. Игра, по Бойтендайку, является выражением жизни влечений в специфических условиях, характерных для периода детства. Бойтендайк подчеркивает это в подзаголовке своей книги:
«Игры человека и животных как форма проявления жизненных влечений». (Нет ничего удивительного в тем, что Э. Клапаред не обратил внимания на эту сердцевину теории игры Бойтендайка. Это произошло потому, что Кла-парсду также не чужды ъоззрения 3. Фрейда.)
Характеристику основных влечений, проявляющихся в игре, Бойтендайк заимствует из работ Фрейда и переносит их на животных. Для этого есть достаточно оснований, так как, по Фрейду, изначальные влечения присущи даже одноклеточным организмам. Однако это положение неубедительно, так как влечения свойственны не только молодому организму, но и выросшим особям. И поэтому, так же как и особенности динамики молодого организма, они не могут определять игру, приводить к игровой деятельности.
Если перевести несколько туманный и мистифицированный язык Бойтендайка на более простой, то окажется, что игра в своей ис-
Теории игры 297
ходной форме есть не что иное, как проявление ориентировочной деятельности. Положение Бойтендайка о том, что играют только с вещами, которые «играют» с самим играющим, может быть понято так: играют только с предметами, которые не только вызывают ориентировочную реакцию, но и содержат достаточно элементов, возможной новизны для поддержания ориентировочной деятельности. Существенной в этой связи является мысль Бойтендайка о том, что наибольшее распространение игра имеет у тех животных, у которых захват дифференцированных предметов является основным способом добывания пищи. Но это как раз и есть те группы животных, у которых в связи с усложнением условий их жизни ориентировочная деятельность особенно развита.
Таким образом, если быть последовательными, то надо признать, что основные жизненные влечения, на которые указывает Ф. Бойтендайк как на лежащие в основе игры, присущи не только плотоядным животным и обезьянам, но и другим животным.
Нет никаких сомнений также и в том, что особенности динамики молодого организма свойственны не только тем животным, у которых есть игра, а и всем другим (в такой же мере цыплятам и телятам, как и котятам, щенятам и тигрятам). Отсюда с неизбежностью следует вывод, что не основные жизненные влечения и не особые черты динамики молодых организмов являются определяющими для игры. И те и другие могут существовать и действовать вместе, а игры может и не быть.
В таком случае остается только допустить, что в основе игры лежит особая «пробователь-ная» реакция на предмет или, как сказали бы мы, ориентировочная реакция на новое в окружающих молодое животное условиях; а так как для молодого животного вначале все является новым, то просто ориентировочный рефлекс.
Есть все основания считать, что между степенью фиксированности и стереотипности инстинктивных форм поведения и уровнем развития ориентировочных реакций имеет место обратно пропорциональная зависимость:
чем более фиксированы к моменту рождения стереотипные инстинктивные формы поведения, связанные с удовлетворением основных потребностей животного, тем менее проявляются ориентировочные реакции, и наоборот, чем менее фиксированы к моменту рождения стереотипные формы инстинктивного поведения, тем сильнее проявления ориентировоч
ных реакций. Такое соотношение закономерно возникло в ходе филогенетического развития животных. Оно определялось степенью усложнения и изменчивости условий, к которым должно приспособиться животное. Наоборот, между степенью сложности и изменчивостью условий, с одной стороны, и степенью развития ориентировочных реакций, с другой, имеется прямая зависимость. Вот почему «охотники» и обезьяны являются животными с ярко выраженными и развитыми ориентировочными реакциями, а в детстве—животными «играющими».
Правильнее было бы даже говорить, как на это справедливо указал П. Я. Гальперин, об «ориентировочной деятельности». «Ориентировочный рефлекс, — пишет П. Я. Гальперин, — это система физиологических компонентов ориентировки; поворот на новый раздражитель и настройка органов чувств на лучшее его восприятие; к этому можно добавить разнообразные вегетативные изменения организма, которые содействуют этому рефлексу или его сопровождают. Словом, ориентировочный рефлекс — это чисто физиологический процесс.
Другое дело — ориентировочно-исследовательская деятельность, исследование обстановки, то, что Павлов называл «рефлекс что такое». Эта исследовательская деятельность во внешней среде лежит уже за границами физиологии. По существу, ориентировочно-исследовательская деятельность совпадает с тем, что мы называем просто ориентировочной деятельностью. Но прибавление «исследования» к «ориентировке» (что нисколько не мешает в опытах Павлова) для нас становится уже помехой, потому что ориентировка не ограничивается исследованием, познавательной деятельностью, а исследовательская деятельность может вырастать в самостоятельную деятельность, которая сама нуждается в ориентировке.
Даже у животных ориентировка не ограничивается исследованием ситуации; за ним следуют оценка ее различных объектов (по их значению для актуальных потребностей животного), выяснение путем возможного движения, примеривание своих действий к намеченным объектам и, наконец, управление исполнением этих действий. Все это входит в ориентировочную деятельность, но выходит за границы исследования в собственном смысле слова» (Гальперин, 1976, с. 90—91).
Итак, созданная Бойтендайком теория игры содержит в себе противоречия. Как пока-
298 Д. Б. Эльконш
зывает анализ, совершенно достаточно появления на определенной ступени развития животных ориентировочной деятельности, чтобы объяснить возникновение игры и все ее феномены, так подробно описанные Бойтен-дайком. То, что для Бойтендайка являлось только одним из условий для проявления виталь-ных влечений, в действительности составляет основание для построения общей теории игры животных.
Нельзя согласиться с Бойтендайком и в том, что в основе игры с предметом всегда лежит образ или образность предмета. В действительности, по крайней мере в начальных формах игры, вещь, с которой играет животное, не может представлять никакого другого предмета по той простой причине, что животное еще не вступило в реальное соприкосновение с теми предметами, которые будут служить удовлетворению его основных потребностей в зрелом возрасте. Ни клубок ниток, ни мяч, ни шуршащая и двигающаяся бумажка не могут служить для котенка образами мыши просто потому, что с последней молодое животное еще не имело дела. Для только начинающего свою жизнь животного все ново. Новое становится знакомым только в результате индивидуального опыта.
Правильными являются мысли Бойтендайка об ограничении игры: исключение из круга игровых явлений простых повторных движений, свойственных самым ранним периодам развития ребенка и некоторых животных. Поэтому ряд повторных движений, которые, по Ш. Бюлер, есть игры, так как они якобы сопровождаются, функциональным удовольствием, в действительности играми не являются. Положение Бойтендайка, что играют только с предметами, должно быть понято в том смысле, что игра есть поведение и, следовательно, известное отношение к среде, к предметным условиям существования.
Ф. Бойтендайк возражает против предуп-ражняющей функции игры, как она представлена у К. Грооса. И действительно, упражнение возможно только по отношению к чему-то уже возникшему в поведении. Вместе с тем он высоко ставит развивающее значение игры, и это верно. Игра не упражнение, а развитие. В ней появляется новое, она путь к установлению новых форм организации поведения, необходимых в связи с усложнением условий жизни. Здесь мысль Грооса о значении игры обновляется и углубляется.
Наконец, необходимо отметить, что после Фрейда тенденция «глубинной психологии»,
т. е. психологии, пытающейся вывести все особенности поведения и все высшие проявления из динамики первичных биологических влечений, начала проявляться все резче. К. Бюлер, а за ним и Ф. Бойтендайк — типичные представители такой «глубинной психологии». <...>
Мы так подробно остановились на теории игры Бойтендайка по двум основаниям: во-первых, потому, что в работе Бойтендайка причудливо сплелись ложные метафизические и идеалистические представления с верными замечаниями и положениями и выделение этих последних представлялось важным; во-вторых, потому, что теория игры Бойтендайка является самой значительной общей теорией игры, вершиной западноевропейской мысли в этом вопросе.
Представляется, что эта теория не была достаточно оценена. Мысль Бойтендайка о том, что играют только с предметами, и только с такими предметами, которые являются частично знакомыми, не стала задачей исследования и из нее не были сделаны необходимые выводы. Конечно, в этом повинен и сам Бойтендайк, выдвинувший на первый план изначальные влечения и особенности динамики молодого организма, но дело научной критики заключается не только в негативной оценке, но и в выявлении того, что должно быть принято во внимание при дальнейшей разработке проблемы.
После Бойтендайка наступил кризис в создании общей теории игры, приведший в конце концов к отрицанию самой возможности создания такой теории.
Дж. Колларитс (Kollarits, 1940) в своей критической статье указывал на то, что, несмотря на работы Клапареда, Грооса, Бойтендайка и других авторов, все еще нет единства в понимании природы игры, и это происходит прежде всего потому, что психологи в один и тот же термин вкладывают различное содержание. Автор рассматривает самые разнообразные критерии игры (упражнение, удовольствие, отдых, освобождение, общность с пространством, повторение, юношескую динамику, фикцию, т. е. основные признаки, выдвигавшиеся Гроосом, Бойтендайком, Кла-паредом) и показывает, что они, во-первых, встречаются не во всех играх и, во-вторых, встречаются и в неигровых деятельностях. В результате он приходит к заключению, что точное выделение игры принципиально невозможно. Просто нет такой особой деятельности, и то, что называют игрой, есть не что
Теории игры 299
иное, как та же деятельность взрослого существа данного вида и пола, но только ограниченная определенным этапом развития инстинктов, психической структуры, анатомии нервной системы, мускулов, внутренних органов и, в особенности, желез внутренней секреции. (Автор не замечает, что сам предлагает определенную теорию игры. Другое дело, насколько она верна. Нам представляется, что она близка взглядам В. Штерна, считавшего игру «зарей серьезного инстинкта».)
Еще резче негативная позиция в отношении игры как особой деятельности выражена в статье X. Шлосберг (Schlosberg, 1947). Автор, яркий представитель американского бихевиоризма, критикуя различные теории игры, приходит к выводу, что категория игровой деятельности настолько туманна, что является почти бесполезной для современной психологии.
Таковы, в общем довольно неутешительные, итоги полувековых попыток создать общую теорию игры. Это отнюдь не означает, что игра как особая форма поведения, характерная для периода детства, не существует; это означает только, что в пределах тех биологических и психологических концепций, из которых исходили авторы теорий игры, такая теория не могла быть создана.
Если проанализировать признаки, по которым игра выделялась из других видов поведения, то. общий подход к их выделению можно назвать феноменологическим, т. е. обращающим внимание на внешние явления, сопровождающие иногда и этот вид поведения, но не вскрывающим его объективной сущности. В этом мы видим основной недостаток подхода к исследованию игры, приведшего к отрицательным выводам.
Кроме того, характерным для этих теорий было отождествление хода психического развития ребенка, а тем самым и его игры с развитием детенышей животных и их игр. А такая общая теория игры, охватывающая игру детенышей животных и игру ребенка, ввиду глубокого качественного различия в их психическом развитии вообще не может быть создана. Это не значит, однако, что не могут быть созданы две отдельные теории: теория игры животных и теория игры ребенка. Здесь уместно высказать некоторые соображения по поводу психологической природы игры молодых животных, которые возникли в ходе анализа имеющихся у нас материалов, может быть, эти предположения будут приняты во внимание создателями такой теории. Кроме того, они
важны и для наших целей, так как могут помочь выявлению специфических особенностей игры детей.
Игра может быть и фактически является предметом изучения различных наук, например биологии, физиологии и т. д. Является она и предметом изучения психологии, и прежде всего той ее отрасли, которая занимается проблемами психического развития. Психолога, исследующего эти проблемы, игра интересует прежде всего как деятельность, в которой осуществляется особый тип психической регуляции и управления поведением.
Несомненным является, что игра как особая форма поведения возникает лишь на определенной стадии эволюции животного мира и ее появление связано с возникновением детства как особого периода индивидуального развития особи. Гроос и особенно Бойтендайк правильно подчеркивают этот эволюционный аспект возникновения игры.
Примем в качестве исходных некоторые положения Бойтендайка. Примем, что играют только детеныши плотоядных млекопитающих (хищников) и обезьян; примем также, что игра является не отправлением организма, а формой поведения, т. е. деятельностью с вещами, и притом с вещами, обладающими элементами новизны. Для того чтобы установить, какой биологический смысл может иметь деятельность с такими предметами у детенышей этих видов животных, выясним, на каком уровне находится психическая регуляция поведения взрослых особей.
По А. Н. Леонтьеву (Леонтьев, 1965), животные этих видов находятся на различных стадиях развития перцептивной психики, а высшие виды — на стадии интеллекта. Психическое управление поведением на стадии перцептивной психики заключается в том, что животное выделяет в окружающей его действительности условия, в которых объективно дан предмет, непосредственно побуждающий его деятельность и могущий удовлетворять биологическую потребность, а на стадии интеллекта выделяет и отношения между вещами, составляющими условия осуществления деятельности. Характерным для организации поведения последнего вида является возникновение в нем подготовительных фаз.
Такие элементы деятельности, как обход препятствий, подстерегание добычи, преследование с преодолением встречающихся преград и обходными путями, направлены не на самый предмет потребности, а на условия, в которых он дан. Эти элементы поведения уп-
300 Д.Б. Эльконш
равляются психическим отражением условий, их образами. Главное здесь заключается не в том, что животное воспринимает преграду, стоящую на пути к достижению цели, а в том, что появляется ориентация на отношение между предметом и другими условиями: ориентировка приводит к тому, что в движении, направленном на эти условия, как бы уже усматривается путь к конечному объекту.
Как справедливо отмечает П. Я. Гальперин, «значение опытов Келера (и всех опытов, построенных по этому типу) заключается еще и в том, что они показывают очень простые ситуации, которые, однако, не решаются путем «случайных проб и ошибок» — без ориентировки животного на существенные отношения задачи. В них процесс ориентировки выступает как обязательное условие успешного поведения. После этих ситуаций становится еще ясней, что и в задачах, которые решаются путем случайных проб, также необходима ориентировка, хотя бы минимальная, — на отношение действия к успешному результату». «Ориентировка поведения на основе образа среды и самого действия (или хотя бы его пути к конечному объекту), — продолжает П. Я. Гальперин, — составляет необходимое условие (постоянное, а не единичное и случайное) успешности действия» (Гальперин, 1966, с. 245).
Такова существенная психологическая характеристика деятельности животных, стоящих на этой ступени эволюционного развития.
Необходимо особо подчеркнуть, что для успешности действия требуется не просто ориентировка, а быстрая и точная ориентировка, доведенная до совершенства и приобретшая почти автоматический характер. В борьбе за существование всякое промедление или неточность «смерти подобны».
Можно ли представить себе, что такая организация действий возникает в ходе индивидуального приспособления, при осуществлении деятельностей, непосредственно связанных с борьбой за существование? Нет, по этому пути развитие такой организации не могло идти. Это приводило бы очень быстро к тому, что животные вымирали бы от голода или гибли от врагов.
Следовательно, должен был возникнуть особый период в индивидуальной жизни животных и особая деятельность в этот период, в которой развивалась бы и совершенствовалась необходимая организация всякой последующей деятельности, непосредственно направленной на борьбу за существование и сохранение рода.
Дж. Брунер (Brunei-, 1972) подчеркнул, что природа детства и способы и формы воспитания эволюционируют и подвергаются такому же естественному отбору, как и любая другая морфологическая или поведенческая форма. Одной из гипотез относительно эволюции приматов, пишет Брунер, является предположение, что эта эволюция базируется на прогрессивном отборе совершенно определенной структуры детства. Это предположение представляется близким к истине и относится не только к эволюции приматов, но и к эволюции всех видов животных,' обитающих в предметно расчлененной среде, требующей приспособленности поведения к индивидуально неповторимым условиям, в которых может выступать предмет потребности. Именно в силу неповторимости этих условий возникает, как это показал П. Я. Гальперин, объективная необходимость в психической регуляции действий, т. е. в регуляции на основе образа ситуации, условий действия. Здесь невозможна стереотипность, а требуется максимальная вариативность действий.
Включение детства как особого периода жизни в общую цепь эволюционного процесса является важным шагом на пути понимания его природы.
Эмбриологи уже давно сделали этот шаг. В русской науке этот шаг был сделан А. Н. Се-верцевым. И. И. Шмальгаузен, развивая идеи А. Н. Северцева, писал: «Прогрессивное усложнение организации взрослого животного сопровождается и усложнением процессов индивидуального развития, в результате которых эта организация создается» (Шмальгаузен, 1968, с. 353). Обобщая имеющиеся в эмбриологии материалы, Шмальгаузен подчеркивает: «Онтогенез не только результат филогенеза, но и его основа. Онтогенез не только удлиняется путем прибавления стадий:
он весь перестраивается в процессе эволюции;
он имеет свою историю, закономерно связанную с историей взрослого организма и частично ее определяющую.
Филогенез нельзя рассматривать как историю лишь взрослого организма и противополагать онтогенезу. Филогенез и есть исторический ряд известных (отобранных) онтогенезов» (там же, с. 351—352).
Эти важные положения относятся не только к эмбриональному развитию морфологических форм, но и к постэмбриональному развитию форм поведения. Характеризуя организацию поведения животных, стоящих, по терминологии А. Н. Леонтьева, на стадии
Теории игры
развития перцептивной психики, мы указывали на обязательное наличие в гаком поведении ориентировочной деятельности, которая может проходить в различной форме — предваряя поведение или сопровождая его.
Возникновение ориентировочной деятельности само по себе не приводит к появлению новых форм поведения.
П. Я. Гальперин, которому мы обязаны разработкой теории ориентировочной деятельности, в уже цитированной работе пишет: «Участие ориентировочной деятельности в приспособлении животного к индивидуальным особенностям обстановки не обязательно означает появление каких-то новых форм поведения. Наоборот, прежде всего оно открывает возможность гораздо более гибкого, а значит, и широкого использования уже имеющегося двигательного репертуара. И это чрезвычайно важное обстоятельство — ориентировка в плане образа позволяет не создавать новые формы поведения для крайне изменчивых индивидуальных ситуаций, а использовать общие схемы поведения, каждый раз приспосабливая их к индивидуальным вариантам ситуации. И это значит также, что о наличии психической регуляции поведения свидетельствует не появление особых, новых форм поведения, а особая гибкость, изменчивость и многообразие их применения» (Гальперин, 1976, с. 117).
Мы уже указывали, что ориентировочная деятельность и совершенное регулирование на ее основе поведения должны сложиться до того, как животное начнет самостоятельную борьбу за существование, т. е. в детстве. Игра и есть та деятельность, в которой складывается и совершенствуется управление поведением на основе ориентировочной деятельности. Подчеркиваем: не какая-то конкретная форма поведения — пищевого, оборонительного, сексуального, а быстрое и точное психическое управление любой из них. Именно поэтому в игре как бы смешаны все возможные формы поведения в единый клубок, и именно поэтому игровые действия носят незавершенный характер*.
Широко развернувшиеся в последние десятилетия исследования поведения животных в естественных условиях, а также специальные экспериментальные исследования привели к выделению новых видов поведения. Для нас представляет интерес выделение специ-
* Интересный перечень характерных черт игровых действий дан в книге Р. Хайнд. Поведение животных. М.:Мир, 1975.855с.
301
ального исследовательского поведения. Р. Хайнд, обобщая имеющиеся материалы, считает целесообразным различать ориентировочную реакцию, которая связана с неподвижностью, и активное исследование, при котором животное движется относительно обследуемого объекта или участка. Исследовательское поведение Хайнд описывает как поведение, которое знакомит животное с его окружением или источником раздражения. Вместе с тем он указывает на необходимость различать исследовательское поведение и игру:
«Хотя некоторые виды игрового поведения также способствуют ознакомлению с предметом, исследование и игру не следует отождествлять. Если предмет не знаком, то исследовательское поведение может предшествовать игровому и ослабевать по мере ознакомления с ним» (Хайнд, 1975, с. 377).
Различение исследовательского и игрового поведения важно потому, что очень часто первое переходит во второе. Таким образом, есть все основания выделять ориентировочную реакцию, исследовательское поведение и игру. Можно предполагать, что в этом порядке эти формы возникали в ходе эволюции и возникают в онтогенезе поведения молодых животных.
Такое предположение подтверждается данными об онтогенезе форм поведения высших млекопитающих. К. Э. Фабри (1976) на основе обобщения многочисленных материалов относит игру как особую форму поведения молодых животных к периоду, непосредственно предшествующему половой зрелости.
В самом предварительном порядке мы могли бы описать игру молодых животных как деятельность, в которой животное, манипулируя с объектом (вещью), создает своими движениями неповторимые и непредвидимые вариации его положения и непрерывно действует с вещью, ориентируясь на особенности этих быстро изменяющихся ситуаций. Основными признаками игры при таком предположении являются быстро меняющиеся ситуации, в которых оказывается объект после каждого действия с ним, и столь же быстрое приспособление действий, управление ими на основе ориентировки в особенностях каждый раз новой ситуации.
Центральное ядро такой деятельности — ориентировка в быстро и непрерывно меняющейся ситуации и управление на этой основе двигательными актами. Специфической особенностью движений в игре является их незавершенность, отсутствие в них исполнитель-
302
ного звена. Котенок царапает, но не растерзывает предмет, а щенок кусает, но не прокусывает его. Это и создавало у некоторых психологов иллюзию наличия в игре животных фикции или фантазии.
Фрагментарные наблюдения над играми животных дают некоторые основания для предположений о пути развития игры в ходе индивидуальной жизни животных. Она развивается от деятельности с максимально развернутой ориентировочной частью и незаконченной, свернутой, приторможенной исполнительной частью к деятельности с максимально свернутой, мгновенной и точной ориентировочной частью. Эта свернутость, мгновенность и точность ориентации, включаясь в «серьезные», осуществляющие борьбу за существование деятельности, и создает иллюзию полного отсутствия в ней психической регуляции. Поэтому игра молодых животных есть упражнение, но упражнение не отдельной двигательной системы или отдельного инстинкта и вида поведения, а упражнение в быстром и точном управлении двигательным поведением в любых его формах, на основе образов индивидуальных условий, в которых находится предмет, т. е. упражнение в ориентировочной деятельности^...>
Все эти высказанные нами положения, обобщая накопленный, но не систематизированный опыт, должны быть проверены в специальных сравнительно-психологических исследованиях. <...>
Необходимо подчеркнуть, что при выведении своих положений мы исходили из теоретического представления о регулирующей функции психики для поведения и о прижизненном формировании этой функции у высших животных.
В теориях игры, которые мы излагали и анализировали, проблема психического развития, т. е. развития ориентирующей функции психики, вообще не ставилась. Может быть, именно поэтому и не могла быть создана общая психологическая теория игры.
Мы далеки от мысли, что нам удалось построить законченную теорию игры животных. Однако мы надеемся, что высказанные соображения натолкнут психологов, изучающих игру животных, на новый подход. Мы согласны с мыслью Р. Хайнда, что «открытие основ игрового поведения, несомненно, само по себе вознаградит исследователей за все их труды, не говоря уже о том, что оно прольет свет на природу регуляции многих других видов деятельности» (Хайнд, 1975, с. 386).
ОБ АВТОРАХ
Вагнер Владимир Александрович (1849— 1934) — выдающийся зоолог и зоопсихолог, профессор зоологии и сравнительной психологии Ленинградского университета. Основатель зоопсихологии как самостоятельной науки в России. Исследования В.А.Вагнера посвящены широкому кругу проблем зоопсихологии и сравнительной психологии, прежде всего проблеме инстинкта, его происхождению, соотношению инстинкта и научения, пластичности инстинктивного поведения. Особое внимание уделял методам изучения психики животных: считал необходимым сочетание биологического метода, основанного на тщательном изучении фактов естественной жизни животных, с экспериментированием, а также сравнительными исследованиями. В.А. Вагнер — автор капитальных трудов «Биологические основания сравнительной психологии» (Спб.-М., 1913, Т. 1,2); «Биопсихология и смежные науки» (Петроград, 1923); «Этюды по сравнительной психологии. Возникновение и развитие психических способностей» (Л., 1925-1929. Вып. 1-9).
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 174; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!