Просит его молитв о cебе, удрученном старостью и болезнью.
Очень удалились мы друг от друга, не имея ни личных свиданий, ни письменных сношений. Впрочем, надеюсь, что разлучены мы между собой телом, а не духом. А теперь, когда открылся случай, и приветствую твое благоговение, и прошу молитв о мне, утружденном старостью, болезнью и борением между жизнью и преселением из жизни.
243. К монаху Евагрию[297]
О Божестве
Весьма дивлюсь ясности твоего ума и прихожу в крайнее изумление от того, что, через точные вопросы свои, делаешься ты виновником таких умозрений и столь важных исследований, когда приводишь меня в необходимость говорить и трудиться над доказательствами тем, что предлагаешь мне необходимые и полезные вопросы. Ибо после твоих вопросов и мне совершенно необходимо дать ясные на них ответы. Так и теперь предложенный тобой вопрос был следующего содержания: как представить себе природу (иной правильнее назвал бы это сущностью, а не природой) Отца и Сына и Святого Духа? Простой или сложный? Если она проста, то как заключает в себе Три – число наименованных выше? Что просто, то одновидно и нечисляемо; а что подлежит исчислению, то необходимо рассекается, хотя бы и не было счисляемо; и рассекаемое подлежит страданию, ибо сечение есть страдание. Итак, если естест‑во Всесовершенного просто, то напрасно наречение Имен, а если наречение Имен истинно и должно веровать в Имена, то не имеет уже места одновидность и простота. Посему какое же естество Божие, – спрашивал ты меня.
|
|
|
Слово истины представит на это объяснения со всей тщательностью; оно не будет по недостатку доказательств неразумно заменять их призраком безотчетной веры, не покусится нетвердость своего убеждения закрывать свидетельствами древних басней, но точным исследованием и прямыми заключениями приведет в ясность достоверность умозрения. Да поступит же слово наше с сего, и да скажем, как должно представлять себе Божество, простым ли чем или тройственным. Ибо так говорить и веровать принуждает нас тройственность имен. И некоторые, употребив во зло сии имена, составили нетвердые и совершенно неуместные учения, полагая, что с произношением имен вместе и сущность терпит уже разделение. Но нам, как и сам ты говоришь, должно оставить таковых, нетвердо доказывающих приемлемое ими учение; устремим же ум свой на правильное усвоение познания. Итак, прежде определим, что такое есть Бог; потом тщательно займемся доказательствами.
Сущность Божия, без сомнения, проста и нераздельна, по самому естеству имея в себе простоту и бестелесность. Но, может быть, противоречит сему понятие о раздельности имен, числом три уничтожая одновидность Всесовершенного. Неужели же ради одновидности необходимо нам оставить исповедание Отца и Сына и Святого Духа? Никак. Ибо наречение имен не повредит нераздельному единству Всесовершенного. Умопостигаемое хотя и многоименно (у каждого народа оно именуется весьма многими именами), однако же выше всякого наименования, потому что для умосозерцаемого и бесплотного нет ни одного собственного имени. И как наименовать собственно то, что не подлежит нашим взорам, чего вовсе не можем уловить человеческими чувствами? Но для точнейшего уразумения целого возьмем малейшую частицу умосозерцаемого – душу. Душа называется именем женского рода, но не имеет в себе никакого женственного свойства, так как по существу своему она ни мужской пол, ни женский. Подобным образом и рождаемый душой λόγος (слово) хотя имеет имя мужского рода, однако же и он, как известно, состоит вне всякой, мужской ли то или женской, телесности. А если и последние из умосозерцаемых – душа и слово – не имеют собственных имен, то как можно сказать, что собственными именами называются такие предметы, которые в ряду умосозерцаемых суть первые и даже выше умосозерцаемого? Но хотя употребление имен полезно по необходимости, так как оно ведет нас к составлению понятия о предметах умосозерцаемых, однако же некоторые, думая, что вместе с наименованиями и самая сущность грубым образом делится на части, представляют в мыслях своих нечто во всех отношениях недостойное Божественного. Нам же, ценителям истины, должно знать, что божественная и нераздельная сущность Всесовершенного не сложна и единовидна, но, для пользы нашего душевного спасения, как сказали мы, делится, по‑видимому, наименованиями и допускает необходимость деления. Как душа, которая сама есть существо умосозерцаемое, порождает множество беспредельных мыслей, однако же не делится от того, что подлежит мышлению, и от предшествовавших в ней мыслей не истощается в богатстве мыслей, но более обогащается, нежели оскудевает; и как сие самое произносимое и общее всем слово не отдельно от души, его произносящей, но тем не менее бывает в то же время и в душах слушающих, так что и от первой не отлучается, и в последних находится, производит же более единение, нежели разделение их и наших душ – так и ты представляй Сына нимало неотлучным от Отца и опять Духа Святого неотлучным от Сына, подобно как мысль в уме. Как между умом, мыслью и душой невозможно представить какого‑либо деления и сечения, так равно невозможно представлять никакого деления или сечения между Святым Духом, и Спасителем, и Отцом, потому что, как сказали мы, естество умосозерцаемого и Божественного нераздельно. Или еще: как невозможно найти деления между кругом солнечным и лучом, по причине неизменяемости, бестелесности, простоты и неделимости, напротив того: луч соединен с кругом и, наоборот, круг, подобно роднику, потоками изливает на все лучи, как бы наводняя нас светом и внезапно погружая в море красоты, – так, подобно каким‑то лучам, ниспосланы к нам от Отца светоносный Иисус и Святой Дух. Ибо как лучи света, по природе своей имея между собой нераздельное соотношение, от света не отлучаются, друг от друга не отсекаются и до нас низводят дар света, – таким же образом и Спаситель наш и Святой Дух, как сугубый луч Отца, и нам преподают свет истины, и пребывают соединенными с Отцом. И каким образом из водного источника, дающего без оскудения сладкую воду, иногда обильная и неудержимая струя, выходя в начале из одного ключа единым током, в течении сечется на два ручья и, если смотреть на образовавшиеся ручьи, имеет двойное течение, в самой же сущности от такого деления ничего не терпит, потому что ток хотя разделяется положением ручьев, однако же сохраняет одно и то же качество влаги, и каждый из означенных ручьев хотя и представляется теряющимся вдали и далеко отстоящим от источника, но, по непрерывности течения в источнике, относительно к началу, соединен с источником, его порождающим, – подобным образом и Бог всех благ, Строитель истины, Отец Спасителя, первая причина жизни, стебель бессмертия, источник присносущной жизни, ниспослал нам сугубый умосозерцаемый дар – Сына и Святого Духа, но Сам, по Своей сущности, не потерпел от сего никакого ущерба (ибо не подвергся какому‑либо умалению вследствие пришествия Их к нам). Они, снисшедши к нам, тем не менее, пребывают неотлучными от Отца. Ибо, как сказали мы в начале, естество Всесовершенных нераздельно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весьма многое, достопочтеннейший, и гораздо больше, чем сказано, можно было бы найти к ясному изложению самого необходимого вопроса об Отце и Сыне и Святом Духе, как именно его надлежит понимать; но поскольку для тебя и для подобных тебе нетрудно и из немногого познать многое, то по сей причине признал я справедливым здесь прекратить слово об этом положении учения.
244. Василисе[298]
Чтобы излишне не побуждать [тебя – и так] трудящуюся к [новым] трудам, все же не откажусь, ради общей пользы, чтобы, если смогу, ободрить твое рвение, [впрочем,] не в прибавлении каких‑то иных или чуждых указаний, но к напоминанию тех, что уже были часто сказаны нами [ранее] и тобою обычно исполнялись. А это следующее: вести душу превыше скорбей к лучшему образу жизни; отчуждать от помышления все, что чуждо добродетели, а от произволения – все недостойное, и приводить себя к благочестию и всякой благоустроенности; утончать свой ум к тому, чтобы не принимать, ни мыслить ничего, что [прежде] не было бы [хорошо] исследовано, владеть помышлением во всякое время и всяким образом стремиться обращаться к мыслям святых; становиться выше всякой ненависти и любви в [совершении] справедливости по отношению к домашним и посторонним; иметь сожительницей и собеседницей во всем целомудрие, безо всякой примеси укорененное в душе и твердо водруженное; не изменять образ жизни в превратностях и переменах. Так, чтобы ни в бедности не уменьшать благопристойность мысли, ни в изобилии не превозноситься от беспечности, а посему лучше всего – при радостях упражняться в воздержании, а при скорбях – в терпении, забывая прежнее изобилие; искать [внутренней] самодостаточности [299]; любить то, что дано, надеяться на лучшее, с кротостью переносить телесную болезнь, ни в чем не негодовать и не жаловаться на свою участь, но во всем, что бы ни случалось, быть благодарной Промыслу, который [хотя] часто и скрывает причины происходящего, но не нерадит о воздаянии. И о нем – воздающем, подумай прежде, нежели сказать то, что собираешься сказать, и сделать то, что собираешься сделать. И если [будешь поступать] так, то все сказанное или сделанное тобою будет не вызывающим у тебя раскаяния. Украшаться же стремись не наружными одеждами, но подлинным и надежным богатством считай желание малого, ибо ненадежно богатство во многом обладании, но в немногой потребности. Ибо одно – тебе, другое – для внешних. Приводи в порядок образ [мысли] снисходительностью, нрав – невозмутимостью, язык – краткостью речи. Этим – украсишь главу [лучшим] покровом, выражение лица будешь иметь спокойное, глаза – чтобы одновременно все замечать и [при этом] красиво взирать, уста, чтобы не говорить ничего неприличного, уши – чтобы их обращать только к важному, а все лицо – украшенное румянами стыдливости. Во всем всегда храни себя неоскверненной, словно [какую‑нибудь] неприкосновенную драгоценность. Свойственное украшение, приличествующее женщине – достоинство, непорочность, целомудрие. За роскошь считай прекраснейшую и в то же время – легкую, полезную пищу. Ибо она и сама по себе похвальна, и для целомудренной жизни предпочтительна, и лучше всего для здоровья, умеренности, и для другой благоукрашенности, и для учения не лишающая ума.
Завещание святителя Григория Богослова[300]
Переписано с подлинного экземпляра, в котором сохранилась его собственноручная подпись, а также подписи тех, кто это [завещание вместе с ним] засвидетельствовал.
В консульство светлейших Флавия Евхерия и Флавия Евагрия перед январскими календами.
[Я,] Григорий, епископ Кафолической Церкви в Константинополе, живой, в здравом разуме и здравой памяти, с твердыми мыслями, составил следующее мое завещание, о котором я повелеваю и желаю, чтобы оно имело силу и твердость пред всякой властью и судом. Ибо я [ранее] уже сделал известной свою собственную волю и все свое имущество завещал Кафолической церкви в Назианзе – на помощь бедным вышеупомянутой церкви. Посему я по следующему своему решению и назначил троих людей, которые будут питать бедных: Маркелла – диакона из монашествующих, Григория‑диакона, происшедшего из моего дома, и Евстафия – из монашествующих, также происходящего из моего дома. И теперь, сохраняя свое такое решение по отношению к святой Назианзской церкви [в силе, я повелеваю]: когда мне случится прийти к концу своей жизни, тогда пусть наследником всего моего имущества – движимого и недвижимого, повсюду, где оно имеется, будет вышеупомянутый Григорий – диакон и монах, происшедший из моего имения и которого я уже давно освободил [из рабства]. Все же прочие не являются моими наследниками. Итак, все мое имущество – движимое и недвижимое – отдать Кафолической церкви в Назианзе, совершенно ничего не изымая, за исключением того, что я определил в этом завещании дать в частном порядке в благодарность [моим] помощникам и верным [мне] людям, но все точно, как я сказал прежде, сохранить для Церкви, имеющей пред глазами страх Божий и знающей, что я определил все мое имущество [отдать] на служение бедным и для этого утвердил и его (Григория) своим наследником, так что через него все неопустительно должно быть сохранено для Церкви. Домашние же слуги, которых я освободил или по своей воле, или по повелению моих блаженнейших родителей, хочу, чтобы оставались и теперь в свободном состоянии и своими хозяйствами владели прочно и спокойно. Еще желаю, чтобы мой наследник Григорий‑диакон вместе с монахом Евстафием, которые когда‑то были моими домочадцами, владели бы имением в Арианзе, которое досталось нам когда‑то от тех, что из Регины. Относительно пастбищ и овец, которых я прежде повелел им дать и попечение и владение над которыми им передал, желаю и повелеваю, чтобы они спокойно пребывали в этом праведном владении. Особенно же желаю, чтобы Григорий, диакон и мой наследник, искренне служивший мне, получил бы в свое собственное праведное владение золотых монет числом пятьдесят. Почтеннейшей деве Руссиане, моей родственнице, [я еще ранее] устно велел давать каждый год [средства к жизни], чтобы она могла свободно жить; и теперь я [также] желаю и повелеваю, чтобы все, что я предписал [по тому же самому] образцу, давать ей каждый год без промедления. Относительно ее жилища я прежде ничего не постановил, еще не зная о том, какой образ жизни для нее будет лучшим, теперь желаю следующее: чтобы она отправлялась в родные места и чтобы там ей было устроено свободное и достойное жилище, благоприличное для девственной жизни, и чтобы она владела этим домом спокойно и для всякой пользы и дохода, пока жива, после же того – отдать дом Церкви. Желаю также присовокупить к ней еще двух девиц, которых она [сама] выберет, чтобы эти девицы жили вместе с ней во все время ее жизни. И если она пожелает их отблагодарить, то пусть одарит их свободой, если же нет, то отдать их той же церкви.
Мальчика Феофила, жившего вместе со мной, я уже освободил. Желаю и теперь дать ему по завещанию пять серебряных монет. Его брата Евпраксия желаю освободить и [также] дать ему по завещанию пять золотых монет. Еще желаю дать свободу моему нотарию [301]Феодосию и [, кроме того,] дать ему пять золотых монет.
Сладчайшей мне дочери Алипиане [302] (ибо о других – Евгении и Нонне – мне мало есть что сказать из‑за их жизни, достойной порицания) желаю извинить меня, если я, будучи ее господином, ничего ей не оставил, перед этим завещав отдать все бедным, но прежде всего [я поступил так], следуя убеждавшим [меня моим] блаженнейшим родителям, чью волю отринуть – недостойно. Посему [повелеваю ей] оставить [себе] из имущества моего блаженного брата Кесария одежды шелковые, или льняные или шерстяные, или колесницы и желаю этим отличить ее от ее детей; и ни в чем ни моему наследнику, ни Церкви не беспокоить ни ее, ни ее братьев. Мелетий – муж сестры, породнившийся со мной, пусть знает, что он плохо владел имением в Апензинсе, которое [досталось] от Евфимия. Об этом и прежде я часто писал Евфимию, зная его малодушие, что он не возвращает свое. И теперь свидетельствую пред всеми начальствующими и начальствуемыми, что я в отношении Евфимия был не прав. Посему имение следует Евфимию вернуть. Цену за поместье Каноталон желаю оставить моему почтеннейшему сыну епископу Амфилохию. Ибо еще в [прежних] наших записях отмечено, и все это знают, что продажа состоялась, цена получена, а управление и владычество над имением я давно уже передал.
Евагрию‑диакону, который мне много содействовал и был моим единомышленником, во многом оказав мне благорасположение, я изъявляю благодарность и перед Богом, и перед людьми. И пусть еще больше воздаст ему Бог, и, чтобы не малый знак дружбы получил бы он от нас, желаю дать ему одну одежду, одну тунику, два плаща и тридцать золотых монет. Так же и сладчайшему нашему сослужителю Феодулу – нашему брату – желаю дать одну одежду, две туники, из тех, что на родине, и золотых монет, из тех, что на родине, – двадцать. Елафию‑нотарию, отличающемуся добрым нравом, который нас прекрасно успокоил и некоторое время [нам] служил, желаю дать одну одежду, две туники, три плаща, сигиллион [303] и на родине двадцать золотых монет.
Желаю, чтобы это мое завещание было основным и твердым во всяком суде и перед всякой властью. И если оно не будет иметь силы как изъявление воли, то желаю, чтобы оно имело силу как письменный документ. Если же кто попытается его отвергнуть, даст ответ в день Суда и понесет наказание.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Григорий, епископ Кафолической Церкви, что в Константинополе, прочел завещание и все написанное подтвердил и подписал собственноручно, и желаю и повелеваю, чтобы оно имело силу.
Амфилохий, епископ Кафолической Церкви в Иконии, присутствовал при составлении завещания почтеннейшего епископа Григория и по его просьбе подписал собственноручно.
Оптим, епископ Кафолической Церкви в Антиохии, присутствовал при составлении завещания почтеннейшего епископа Григория и по его просьбе подписал собственноручно.
Феодосий, епископ Кафолической Церкви в Иде, присутствовал при составлении завещания почтеннейшего епископа Григория и по его просьбе подписал собственноручно.
Феодул, епископ Кафолической Церкви в Апамее, присутствовал и прочее.
Фемистий, епископ Кафолической Церкви из Адрианополя, присутствовал и прочее.
Кледоний, пресвитер Кафолической Церкви в Иконии, присутствовал и прочее.
Иоанн, чтец и нотарий святейшей церкви в Назианзе, сделав одинаковый экземпляр сего божественного завещания святого и славного Григория Богослова, положенного в святейшей церкви в Назианзе, издал его.
Приложение
А. В. Говоров
Святой Григорий Богослов как христианский поэт[304]
Введение
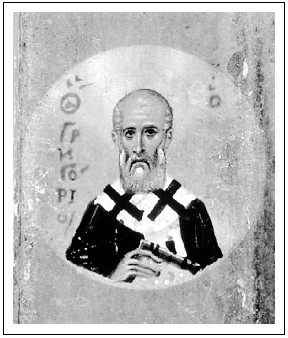
«Золотой век» христианства – как часто называют эпоху великих светил христианской Церкви Афанасия Великого, Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Лактанция, Илария, Иеронима, Амвросия, Августина – с полным правом может быть назван и классическим периодом христианской литературы. Кроме высокого догматического достоинства, творения названных отцов и учителей Церкви, обнимающие богатое разнообразие литературных форм, имеют высокое значение в истории всеобщей словесности как чистые проявления истинного, доброго и прекрасного. Тогда как языческая литература, в золотой век Августа достигшая апогея своего величия, по безжизненности своей быстро клонилась к своему падению, христианская словесность, зародившись в тишине и безвестности, развивалась, зрела и богатела памятниками, достойными изучения и подражания. В первый тяжелый период трехвековой борьбы христианства с язычеством христианское искусство, понятно, не могло еще получить большого развития и проявиться в художественно выработанных формах. Это нужно сказать даже относительно главного и совершеннейшего вида художественного творчества – поэзии.
«Поэзия, по преимуществу, есть плод досуга, плод свободного и спокойного наслаждения жизнью, благоприятствующего развитию идеальных сторон человеческой природы. Такое свободное и спокойное наслаждение жизнью для христианского общества наступило со времени знаменитого Миланского эдикта 313 года. Доселе, под огнем жестоких преследований, некогда было и помышлять о религиозно‑поэтическом творчестве; едва доставало пастырям Церкви времени утешать преследуемых, ободрять верующих, исправлять падших. Мир, дарованный христианской Церкви Константином Великим и его преемниками, отразился в религиозно‑христианской поэзии появлением произведений высокого художественного достоинства как на Западе, так и на Востоке» [305].
Не один, разумеется, только внешний мир, обеспечивавший свободное государственное положение христианской религии и Церкви, способствовал появлению в христианской литературе высокохудожественных произведений. Наряду с ним весьма благоприятным условием для этого послужил и другой мир – внутренний, какой уже ясно обозначился в то время в настроении христианского общества и христианских писателей в отношении к античной классической образованности и языческим авторам. Знаменитые представители христианства, хорошо сознавая различие язычества от поэзии языческой [306], уже без опасения за спасение души своей воспитываются на древнеклассических авторах и завершают свое научно‑литературное образование в высшей и самой знаменитой тогда светской школе в Афинах. Самые выдающиеся из святителей, как Василий Великий и Григорий Богослов, сами изучив в совершенстве классическую литературу, рекомендуют чтение классических поэтов христианским юношам [307]. При таких условиях, в связи с некоторыми другими историческими обстоятельствами, к которым не могли оставаться равнодушными даровитейшие из христианских писателей, например, в связи с распространением поэзии среди еретических обществ [308], в христианской литературе в IV веке достигают своего полного расцвета те отрасли словесности, которые в то же время вырождаются [309] и безнадежно падают в литературе языческой. Разумеем красноречие и поэзию. В той и другой области христианская литература выставляет в это время образцы, в художественном отношении вполне достойные сравнения с лучшими произведениями классической древности.
Самым полным и самым крупным представителем классического периода христианской литературы является святитель Григорий Богослов – величайший из тех великих учителей христианства, которые образуют светлый венец Церкви и человечества. Он был вместе и богослов, и оратор, и поэт. Его гений – гибкий, плодовитый, неисчерпаемый, соединявший аттицизм с философией, чарующую художественность с разнообразной ученостью, – одинаково отличает его в каждом роде литературных произведений именно как классика христианского.
Прекрасную, хотя и очень краткую, характеристику его как богослова, оратора и поэта дает автор заметки о нем в одном из неновых журналов наших по поводу первого перевода с греческого пяти слов его о богословии. Характеристика эта, написанная, очевидно, под живым и непосредственным впечатлением могучей силы и увлекательной красоты творений великого христианского писателя, дышит полной искренностью и непредвзятостью мысли автора.
«Как богослов Григорий Назианзин отличается глубоким ведением Божественных тайн, необыкновенно твердой силой суждения, блестящей способностью выражать ясно и определенно высокие мысли о самых недоступных для человека таинствах неба и легкостью решать самые трудные вопросы. Одаренный гением, соответствующим величию христианской веры, он ясным взором проник в святилище Божественной мудрости, светом своих созерцаний озарил сферу богословского ведения для всех веков и усвоил себе власть в мире богословов восточных и западных… Последующие века в творениях святого Григория находили твердый оплот Православия; соборы приводили места из его сочинений в основание своих догматических определений.
Кроме обширного знания богословия, нельзя не удивляться и красноречию Григория Богослова. Несмотря на полноту ученых сведений, на глубокомыслие и диалектическую тонкость, красноречие не оставляло его никогда. В его словах изумляют нас обилие и стройность доказательств, сила слога, которой невольно покоряешься, быстрота и роскошная плодовитость чистого воображения, полнота живых образов, живописных подобий, смелые и сладостные выражения восторга, который исходит от глубины духа и сообщает языку священное вдохновение пророков, и все это перемешано с восхитительной простотой, сердечностью, с милой, открытой задушевностью. Вы читаете его догматические слова и уноситесь в даль неба, откуда обильным потоком излились эти перлы мыслей и выражений. В речах, гремевших против Юлиана, дышит вся сила филиппик и катилинарий[310] В панегириках и надгробных словах восхищаетесь увлекательным, ярким изображением всех оттенков лица, в честь которого говорено слово. Дюпен [311] справедливо ставит святого Григория выше всех ораторов древности. Массильон, Боссюэ, Бурдалу [312] старались подражать Назианзину.
Не менее знаменит святой Григорий Назианзин и в области поэзии. Его псалтирь звучала песней Божеству, славила добродетель, гремела против порока, в изящных олицетворениях передавала высокое учение веры, была увлекательной наставницей чистого христианского жития. Все поэмы святого Григория. увлекательны в высшей степени, блестят роскошными картинами Греции; в них глубокое созерцание природы одушевлено благоговейной мыслью о Божием Всемогуществе, которое движет гармонией вселенной и растит бедную былинку; в них ясный взор на природу человеческую в одно время проникает и темную бездну, куда пал человек с престола невинности, и светозарную высоту, куда возносится он по лествице Креста. в них столько огня, столько души, что невольно думаешь, будто они написаны человеком в полном цвете лет; но, с другой стороны, в них рассеяны мысли, какие может внушить только долговременный опыт на пути жизни. Все поэмы святого старца пышны и прекрасны, как розы, из которых не знаешь, какую сорвать, чтобы ближе полюбоваться ее красотой. Мы желали бы, чтобы весь цветник, счастливо обработанный поэтическим гением святого Григория, был пересажен на почву русского слова. Стих святого Григория, по сознанию знатоков греческого языка, приятен и легок, как стих Гомера, хотя он ничего не заимствовал от мрачного язычества» [313].
Это «сознание» компетентных судей и ценителей художественных достоинств стихотворений святого Григория всего яснее и полнее выразилось в истории изданий их. И мы сочли за лучшее, по крайней мере за более полезное, вместо обычных во введениях к монографиям рассуждений авторов о побуждениях к избранию ими того или другого предмета для своих ученых исследований, о важности, специальном или общеобразовательном значении и интересе предмета сочинения, – предпослать своему труду критико‑исторический обзор изданий стихотворений великого христианского поэта. В выдержках из предисловий к наиболее важным изданиям поэтических произведений святого Григория читатель найдет не единоличный и не единовременный отзыв о глубоком литературно‑богословском интересе к стихотворениям святого отца, а главное – отзыв таких авторитетных ученых, обширная богословская эрудиция которых соединялась с редким и завидным научно‑филологическим образованием. Открыть свое исследование о поэтических произведениях святого Григория Богослова историей издания их тем более казалось нам полезным и уместным, что более или менее цельного, полного и хронологически последовательного исторического обзора изданий творений святого отца нет пока ни в русской, ни в иностранной богословской литературе. Собственно же для самого сочинения нашего значение полной истории изданий стихотворений святителя Григория будет видно при разборе и уяснении разноречивых воззрений на них (со стороны их художественных достоинств) тех из ученых богословов, которые в своих специально‑догматических или церковно‑исторических исследованиях о святом Григории Богослове так или иначе касались стихотворений его и затрагивали вопрос об их художественно‑литературной ценности в связи с общим воззрением на святого Григория Богослова как поэта.
Об изданиях стихотворений святого Григория Богослова[314]
Начало изданий поэтических произведений святого Григория Богослова хронологически совпадает почти с самым началом распространения книгопечатания и со знаменитой эпохой Возрождения наук и искусств. Умственное движение, пробудившееся с особенной энергией в начале XVI века и охватившее все отрасли научного знания и все стороны духовной жизни, как известно, выразилось на первых порах главным образом в изданиях классических произведений как древнеязыческой, античной, так и церковноотеческой, христианской литературы. Из христианских классиков произведения Григория Назианзина, с одной стороны, по глубокому их патрологическому значению, с другой – по близости их к литературным достоинствам образцовых древнеклассических творений и по одинаковой с ними важности в учебно‑педагогическом отношении[315] начали издаваться в числе самых первых памятников христианской литературы. Несмотря, однако, на это, нельзя сказать, чтобы рукописям знаменитого поэта‑богослова особенно посчастливилось в их исторических судьбах. Правда, с самого начала XVI века и до начала второй полвины текущего [то есть XIX] столетия издания сочинений Григория следовали одно за другим без больших перерывов. Таким образом, на весьма значительном пространстве трех с половиной столетий часто следовавшие одно за другим издания сочинений Григория в совокупности своей достигают весьма внушительной цифры и представляют довольно богатую историю. Но история эта замечательна скорее в количественном, чем в качественном отношении. До самого последнего заключительного своего момента она представляет или только отдельные, частичные и разрозненные опыты издания сочинений Григория, или издания хотя и общие, но весьма неполные и лишенные научно‑критического отношения к материалу, или, наконец, издания только в одном латинском переводе, без параллельного греческого текста. Отчасти поэтому, отчасти же потому, что полный или даже более или менее подробный историко‑критический обзор изданий произведений Григория, без особенной нужды, отнял бы много времени и места, мы сочли достаточным остановиться только на изданиях, имевших бесспорно историческое значение.
В 1504 году, в Венеции, появилось первое издание небольшого числа стихотворений святого Григория Богослова. Альд Мануций Роман, предпринявший это издание, попытался сделать дословный перевод на латинский язык некоторой части стихотворений Григория. Побуждения к этому изданию и цель его указываются в самом заглавии книги, которое служит вместе с тем и предисловием к ней. Небезынтересно поэтому привести здесь полный текст заглавия достопримечательного издания Альда «Aldus Romanus omnibus una cum graecis litteris sanctos etiam mores discere cupientibus S.P.D. Gregorii episcopi Nazianzeui carmina ad bene beateque vivendum utilissima nuper e graeco in latinum ad verbum fere translata imprimenda curavimus, studiosi adolescentes, rati non parum emolumenti vobis futurum, si id genus tra(ns)lationis cum graeco diligenter conferati, nam et graece simul discetis, et christiane vivere quandoquidem summa in illis et doctrina est, et gratia, et sanctis moribus mire, instituuntur adolescentes. Id vero ita sit nec ne conferendo cognoscite. Valete. …Venetiis ex Aldi academia mense Iunio M. DIV» [316] А на обратной стороне последнего греческого листа: Aldus Ma. Ro. и герб его.
Издание это, в общем исполненное с большим старанием и тщательностью, сделано in 4°. Перевод помещен против подлинника именно так, что между каждыми двумя греческими листами вставлен лист латинского текста, дабы любители греческого языка, не нуждающиеся в переводе, без труда могли отделять при чтении один текст от другого. Постраничного счета нет в книге, как не имеют его все вообще старинные издания; следовательно, как греческий, так и латинский текст Григория составляют каждый сам по себе отдельное целое. Несправедливо было бы применить к этому изданию, как к первому в своем роде опыту, безотносительно строгое критическое суждение. Латинский перевод в нем стихотворений святого Григория оставляет желать многого: он сделан и не совсем точно, и далеко не изящно, но это нисколько не умаляет важности заслуги издателя: сделав вклад в науку, без сомнения, ценный и сам по себе, Альд Мануций открыл им дорогу другим ученым по разработке произведений Григория. К заслугам и типографским достопримечательностям издания следует отнести и то, что на страницах экземпляров его, свободных от латинского перевода стихотворений, в первый раз в печати издана была часть греческого текста Нового Завета. Альд напечатал здесь, именно на каждой первой странице промежуточных листов, заняв другую страницу их латинским переводом Вульгаты, шесть первых глав Евангелия от Иоанна, именно до 58‑го стиха 6‑й главы[317].
Затем, по степени относительной важности, в хронологическом порядке должно быть поставлено издание сочинений святого Григория, вышедшее в 1550 году, in fol., в Базеле. Это солидное издание, предпринятое и обстоятельно сделанное на свои средства Иоанном Гервагием, было первым общим и сравнительно полным печатным сборником произведений знаменитого отца Церкви. Сюда вошли: большая часть слов Григория, 80 писем и весьма много стихотворений. Вышедшее сначала на греческом языке, издание это в том же году напечатано было и в латинском переводе, сделанном соединенными трудами Вольфганга Мускула (Muscul), Петра Мозеллана (Mosellan), Виллибальда Пиркгеймера (Pirckheimer) и Альда Мануция. Из них первый написал для издания praefatio [предисловие] и перевел с греческого на латинский язык четыре слова, именно: 1, 41, 45, 47. Мозеллан перевел «Пять слов о богословии»; В. Пиркгеймер перевел все остальные 38 слов. Альд Мануций снабдил издание примечаниями и объяснениями к стихотворениям святого Григория. Для нас это издание представляет, между прочим, ту замечательную особенность, что в числе стихотворений Григория здесь в плохом латинском прозаическом переводе Севастьяна Гульдебека (Sebasftiani Guldaebeçcii) была напечатана известная трагедия «Χριστός πάσχων» («Страждущий Христос»). Эта довольно жалкая «prosa latina» Гульдебека, в какой напечатана была в Базеле трагедия, в истории изданий последней в латинском переводе была первым опытом. Греческий текст этой трагедии в первый раз издан был в Риме в 1542 году под редакцией Антония Блада из Азоло [318] Первая метрическая обработка этой трагедии, довольно счастливо удавшаяся и самая распространенная в позднейших изданиях сочинений святого отца, вошедшая даже в последнее и лучшее из всех изданий – Бенедиктинское, принадлежит Клавдию Руаллету (Claudius Roillet).
Базельское Гервагианское издание важно в том отношении, что оно легло в основу позднейших изданий, которым в ученых достоинствах нельзя отказать и в настоящее время. Двадцать лет спустя на издание это оперся в своих известных трудах, посвященных нашему автору, и тот знаменитый ученый, с именем которого связывается новая эпоха в истории разработки произведений Григория и который до последнего – Бенедиктинского – издания оставался главным авторитетом по изучению его, – французский аббат монастыря святого Михаила Яков Биллий, в 1569 году предпринявший новое латинское издание сочинений святителя Григория, которое и вышло в Париже in fol. Уже в следующем, 1570 году оно было перепечатано в Кельне, но сам Биллий – и нельзя сказать, чтобы по одной только скромности осторожного ученого, – не считал этих изданий ни удовлетворительными в научном смысле, ни соответствовавшими его собственному желанию. Тем не менее, он находил их «не только не бесполезным, но почти необходимым трудом… Многочисленность и разнообразие переводов, – говорит Биллий в своем предисловии к изданию, – имеет ту величайшую выгоду, что из снесения и сопоставления их лучше выясняется мысль автора» [319]. Этот «не бесполезный» труд для самого Биллия имел значение пробного опыта, показавшего ему степень соизмеримости между его личными научными средствами и трудностью задачи, какую он поставил себе в изучении сочинений святого Григория. Располагая отличной филологической подготовкой и увлекаемый одушевленной любовью к избранному им предмету своих научных работ, Биллий с необыкновенным усердием стал приготовляться к новому изданию сочинений Григория. Он снова заготовлял материал, собирал и тщательно сравнивал древние экземпляры, проверял их вновь найденными или доставленными ему манускриптами и, не щадя своих сил и хилого здоровья, в течение двенадцати лет кряду трудился без перерыва и отдыха над обработкой латинского текста сочинений святого Григория и объяснением темных мест оригинала. Работы его подвигались уже к концу, когда смерть труженика упредила его счастье – видеть, наконец, исполнение своего задушевного желания. Биллий умер на своем труде в 1582 году, а в следующем году в Париже вышло из печатного станка приготовленное им новое латинское издание, исправленное и значительно дополненное, главным образом, самим Биллием и только доконченное сотрудником его, парижским богословом Женебрардом. Издание 1583 года, взятое в общем, было лучшим из всех предыдущих и представляло собой несомненный успех в разработке произведений святого отца. Но нельзя принимать за выражение серьезного суждения о научных достоинствах этого издания те восторженные отзывы об издателе его, какие высказаны почитателями заслуг Биллия в многочисленных эпиграммах ему. Несправедлив, например, французский ученый Шатарди, когда он, объясняя заслуги Биллия, иллюстрирует их аналогией пребывания Иосифа в египетской темнице и освобождения его оттуда с состоянием Григория, заключенного в печатном тексте изданий до и после Биллия. «Как Иосиф, – говорит Шатарди, – находясь в мрачной, грязной темнице, был в полной неизвестности, а выведенный оттуда возблистал на пьедестале общей любви к нему народа и Фараона, так точно и святой Григорий, заключенный в неопрятную темницу прежних переводов, был невозможен для знакомства с ним общества: не было ни одной странички, которая была бы свободна от ошибок. Но тот же святой отец воссиял чище золота, как только коснулась его искусная рука Биллия… По переводу Биллия читатель может сразу узнать автора, как лев узнается по когтям» [320]. Автор этих слов «сразу» позволяет себе две несправедливости: слишком пренебрежительное суждение о прежних изданиях Григория и в такой же мере преувеличенное – об издании Биллия. Последнее, при своих бесспорных преимуществах, также изобиловало местами, нуждавшимися в радикальном исправлении. Особенно слабым следует признать в нем поэтический отдел произведений святого Григория. Биллию всего меньше далось метрическое искусство в его латинской версификации стихов Григория; чем больше Биллий усиливался подойти ближе к стихотворному размеру подлинника, тем хуже, подчас до неузнаваемости мысли автора, выходили стихи его. Плохо поэтому идут к Биллию похвальные слова ему другого эпиграмматиста (Женебрарда): «Твою божественную голову целуют девять сестер и с ними прелестные грации» [321].
В ряд с изданиями Биллия следует поставить латинское же издание сочинений Григория Богослова, вышедшее в 1571 году в Базеле под редакцией известного автора многих исторических, церковно‑исторических и канонических сочинений, Иоанна Леунклавия (| 1593, Вена). Взявшись за изучение того же самого автора и в то же самое время, каким и в какое научно занимался Биллий, Леунклавий, естественно, для оправдания, так сказать, raison d'etre [принципа смысла] своего издания, должен был опереться на такие научные средства – источники и пособия, каких не имел под своими руками или, по крайней мере, не пользовался ими Биллий. О таких научных особенностях и преимуществах своей обработки сочинений Григория, не только отличающих издание Леунклавия от двух первых изданий Биллия, но и ставящих его выше этих обоих, Леунклавий говорит в своем довольно обширном предисловии к изданию. Знакомя здесь читателя с теми условиями, при которых он приступал к своему латинскому изданию, Леунклавий говорит, что когда он узнал о том, что французский ученый Биллий в одно и то же время с ним предпринял одинаковый труд, он уже хотел было прекратить свою работу, хотя и перевел на латинский язык очень много слов. Но увидев, тотчас после издания труда Биллия, сколько он (Леунклавий) собрал для своего издания материала, какого, очевидно, не было под руками у Биллия и какой вообще оставался еще в неизвестности, Леунклавий счел далеко не бесполезным продолжать свой начатый труд. Особенно счастливым обстоятельством для себя Леунклавий считает то, что ему удалось достать 19 книг комментариев на Григория архиепископа Критского Илии, замечательных своими обширными литературными сведениями. В качестве ученокритического пособия Леунклавий ценит этот материал так высоко, что приобретение его возводит в факт явного к нему благоволения Божия (divini beneficii factum). «Руководствуясь этими книгами, – говорит Леунклавий, – я мог с большим успехом восстановить искаженный смысл очень многих мест Назианзина…» По отношению к поэзии Григория комментарии Илии, по словам издателя, оказали ему очень большую услугу: они счастливо натолкнули его на разыскание таких стихотворений Григория, какие были еще неизвестны в печати. «Илия по местам цитирует, – говорит Леунклавий, – стихи из стихотворений Назианзина. Так как этих стихов не было в изданных сочинениях Григория, то мы обратились к имевшимся у нас под руками рукописям стихотворений его и все их отыскали». Из своих манускриптов Леунклавий обращает внимание читателя особенно на два: на рукопись, принадлежащую византийскому историку Никите Акоминату, и кодекс, найденный Леунклавием в библиотеке Базельской академии наук. Этому последнему он придает особенно важное значение. «Относительно древности его, – говорит он, – известно, что он принесен был туда (в Базельскую академию) за 150 лет до времени Базельского собора и с тех пор сохранялся там с величайшим благоговением. В нем по местам встречаются рисунки, на которых очень изящно изображаются одежды греков. Там же есть изображение Григория точь‑в‑точь такое, как описал черты лица и вообще наружность его Симеон Метафраст».
Издание свое Леунклавий сделал в трех томах, распределив в них материал следующим образом. В первом томе, обработка которого представляет результат его личного труда, он поместил 20 слов с комментарием Илии. Второй том обнимает остальные 32 слова с письмами и стихотворениями, взятыми и перепечатанными целиком, без всяких изменений, из Биллиева издания. К третьему и последнему тому, который «так же, как и первый, – говорит Леунклавий, – всецело принадлежит нам», он отнес такие стихотворения, которые в первый раз изданы им в свете. Кроме того, в состав его вошли: комментарий Никиты на стихотворения Григория, написанные одностишиями и четверостишиями, и объяснения Пселла[322] на трудные места. Плодом критических работ Леунклавия над материалом этого третьего тома была, между прочим, поправка им ошибки, общей всем прежним издателям, которые относили стихотворение святого Григория «Exhortatio ad virgines» (Πρός παρθένους παραινετικός) «Советы девственникам» [см. наст. изд.: № 3. «Увещевание к девам»; кн. I, разд. II] к отделу его слов. Леунклавий, основываясь на метрическом размере этого стихотворения и ясной схолии к нему одного весьма древнего кодекса, первый указал этому стихотворению надлежащее место, поместив его в числе стихотворений святого Григория.
Поэтическими произведениями святого Григория Леунклавий занимался с большим увлечением; видно, что произведения эти произвели чарующее впечатление на знаменитого ученого. Он не только усердно работал над ними, но и внутренне наслаждался ими, не только хорошо изучил их, но и глубоко полюбил их. Своему восхищению поэтическими произведениями святого Григория Леунклавий посвящает даже одно собственное стихотворение (elogium); в нем он, под впечатлением своего восторженного удивления им, несколько преувеличенно делает следующий отзыв о достоинствах стихотворений и поэтическом гении их автора, предпочитаемого Леунклавием даже лучшим древнеклассическим поэтам и самому Гомеру: «Когда я читаю и перечитываю божественные стихотворения Григория, я теряю всю любовь к произведениям Меонида (Гомера). Насколько золото лучше меди, серебро – олова, насколько небесное выше земного, настолько древние риторы ниже Григория в красноречии, а поэты – в поэзии»[323]
Как ни важны, однако, заслуги Леунклавия и Биллия, но, строго говоря, упомянутые труды их мало подвинули вперед дело изучения творений святого Григория Богослова. По самому свойству своему эти труды, относясь, собственно, к латинской обработке сочинений святого Григория, скорее имели целью (и на самом деле могли) облегчить способ пользования последними, чем задачу строго научной разработки их. Дело в том, что греческий текст сочинений святого Григория, за незначительным исключением, оставался в том же совершенно виде, в каком напечатан он был в Базельском Гервагианском издании 1550 года. Ни филологической, ни историко‑критической работы к нему, в научном смысле, не было еще приложено.
Имея в виду это обстоятельство, парижские ученые, во главе с Фредериком Морелем, в первой половине семнадцатого столетия предприняли греко‑латинское издание сочинений Григория под именем нового издания Якова Биллия. Такое издание, основанное на трудах и ученом авторитете Биллия, и вышло в двух фолиантных томах в Париже под редакцией Ф. Мореля, сначала в 1609–1611 годах, затем aucta ex interpretatione Morelli там же, наконец в 1690 году – в Лейпциге, хотя издателям почему‑то заблагорассудилось прикрыть это место издания на заглавном листе именем города Кельна. Впрочем, это последнее издание, изобилующее множеством всевозможных ошибок, не заслуживает научного внимания: сделанное после всех, оно вышло хуже всех.
Самую распространенную известность получило парижское издание 1630 года. В предисловии к нему издатели говорят, что они предприняли греко‑латинское издание на основании Базельского кодекса Гервагианского издания 1550 года, тщательно сличенного и проверенного с королевскими Галльским и Италийским кодексами знаменитым Яковом Биллием, отличным знатоком того и другого языка, и т. д. На самом деле, однако, издание это не представляет столько достоинств, сколько обещают в предисловии к нему его ученые издатели. Слова их должны быть в значительной мере ограничены. Все преимущества этого нового издания сравнительно с прежними нужно отнести к одному латинскому тексту со всеми его научными приспособлениями, над которыми Биллий действительно, работал до самой смерти своей. Что же касается греческого текста, то Биллий трудился над ним ровно столько, сколько требовалось с его стороны старанья для согласования греческого текста с латинским в том виде этого последнего, в каком он вышел из‑под его личной обработки. Неблагодарная в научном смысле задача улаживания греческого текста с латинским, а не наоборот, естественно, должна была отразиться одинаково неблагоприятно на том и другом тексте. Основной греческий текст Гервагианского кодекса под рукой Биллия претерпел такое сильное изменение, что позднейшим издателям стоило большого труда очистить его до его первоначального вида. Латинский текст, с его богатым ученым аппаратом, в том виде, в каком он оставлен Биллием, скорее представлял ученый материал для перевода с комментарием к нему, чем в собственном смысле точно обработанный перевод. Масса примечаний, схолий, разночтений, поправок и пояснений, какими Биллий испестрил латинский текст, собрав и смешав их без разбора, представляет такой беспорядочный агрегат, что трудно узнать без счастливого дара непосредственного вдохновения, какое чтение подложно и какое подлинно, заимствовано ли оно из манускриптов или же еще откуда‑нибудь, – объяснение ли оно, догадка или исправление. Сам Морель сознается, что Биллий ни ясно, ни прикровенно, ни прямо и определенно, ни косвенно и предположительно нигде не объяснил, какое λέξιν και ρ́ήσιν он одобряет и какое отвергает, почему повсюду рассеяны и поставлены одно на место другого или чтения, или мнения его. Отдел стихотворений парижского издания 1630 года всего менее носит на себе следы строгой критической обработки. Стихотворения составляют всего только шестую часть второго тома, в котором они помещены, занимая начальные 308 страниц из всех 1851‑й страницы волюмина[324]. Число всех стихотворений, по Биллию, достигает 166. Но при внимательном обзоре их оказывается, что и эта незначительная цифра, сравнительно с числом стихотворений святого Григория Богослова по позднейшим изданиям, должна быть еще уменьшена. Она составлена из огульного, валового счета, в который входят частью стихотворения на одном латинском языке, частью повторения одних и тех же стихотворений с особым счетом, частью разделения и даже раздробления стихотворений на части, с обозначением также отдельного счета последних. Из стихотворений на одном латинском языке одно изложено у Биллия по правилам стихотворного метра, другие приведены просто в прозаическом пересказе содержания. Первое напечатано на странице 197, в отделе carmina iambica [стихотворения ямбические] под № 11 и под заглавием «Vitae finem optat»; против него на полях Биллий замечает, что греческого оригинала этого стихотворения он не мог отыскать ни в итальянских, ни в германских библиотеках. После него, однако, Толлий (Лейден, 1788) издал это стихотворение на греческом и латинском языках [325]. В одном латинском прозаическом изложении напечатаны стихотворения на странице 301, под заглавием «De episcopis» [ «О епископах»] и на последней 308‑й странице два заключительных стихотворения. Эти последние стихотворения напечатаны у Биллия под общим заглавием с названным предыдущим, но с обозначением отдельного счета (aliud) и с разделением на два особых стихотворения. Между тем, по лучшему изданию (Кайльо), в параллельном греко‑латинском тексте они, во‑первых, носят иное заглавие: «De rerum humanarum vanitate» (Είς τών άνθρωπίνων ματαιότητα) [см. наст. изд.: №. 40. «О суетности человеческой»; кн. I, разд. II], во‑вторых, оба они составляют одно целое стихотворение, и притом так, что последнее стихотворение, по Биллию, составляет первую половину цельного стихотворения, а первое – вторую часть его. С этим недостатком Биллиева издания, то есть с дроблением цельных стихотворений на различные по своей величине самостоятельные части с особым счетом, а подчас – и с особым заглавием этих последних – приемом, не выдерживающим ни исторической, ни логической критики, встречаешься в стихотворениях не один раз. Кроме вышеприведенного примера укажем еще на страницу 180, где под № 109 и 110 (по порядку общей нумерации) напечатаны два отдельных стихотворения под заглавием: 1) «Молитва ко Христу в болезни» («ОгаШ ad Christum in morbo»); 2) «Другая молитва» («^ratio alia»), тогда как оба эти стихотворения, по Кайльо, составляют одно целое поэтическое произведение (т. II, с. 863). Есть и такие, довольно странные в ученом труде, случаи, что одно и то же стихотворение в одном месте напечатано в цельном, логически и ритмически неразрывном виде, а через несколько страниц вперед или назад то же самое стихотворение попадается разорванным на две части, с особым счетом обеих половин. Таким образом, одно и то же стихотворение в общей нумерации занимает три отдельные цифры.
Примером может служить стихотворение «Плач и моление ко Христу»; на странице 195 оно помещено в цельном виде, как одно органически неразрывное поэтическое произведение; а между тем на странице 178 то же самое стихотворение разорвано на две неравные половины (первая – из пяти, вторая – из трех стихов) и напечатано в виде двух отдельных стихотворений: 1)«Θρήνος» [ «Плач»], 2) ««Ετερος θρήνος» [ «Другой плач»]. Вообще говоря, повторения стихотворений или частей их в разнообразных комбинациях: четверостишиях, трехстишиях и пр. – составляют один из наиболее резко и неприятно бросающихся в глаза недостатков Биллиева издания. Встречаются повторения одного и того же стихотворения даже до трех раз. Так, например, четверостишие:
Σκεύαζε σαυτόν ώς τάχος, προς ούρανόν
Ψυχήν πτερώσας τώ λόγω τήν τιμίαν
Μηδέν περισσόν, άλλά πάν ρίψας βάρος
Βίου ματαίου, καί κακών τών ενθάδε [326], –
составленное из 13, 14, 15 и 16 стихов стихотворения под заглавием «На свое удаление»(Είς τήν άναχώρησιν), напечатанного на странице 181, повторяясь в стихотворении «К себе самому» (τού αύτοΰ παραίνεσις) на странице 197, образует на странице 252 само по себе целое, отдельное стихотворение: «Гимн ко Христу». В вышеупомянутом стихотворении «На свое удаление» мы не находим последнего стиха: «Σκοπείτε και τρεμοιτε, λαών ποιμενες» [ «Заметьте сие, пастыри людей, и трепещите!»], заключающего это стихотворение по изданию Кайльо (с. 865). Между тем этот искомый стих вместе с шестью последними стихами названного стихотворения на странице 197 образует особую поэтическую композицию с надписью: «Εις Θεον» [ «К Богу»]. Таким образом, одно поэтическое целое раздроблено на три особые части. Стихотворение на той же (197‑й) странице с вышеприведенным заглавием: «К себе самому», оканчиваясь указанным четверостишием, своими предыдущими семью стихами повторяет стихотворение под тем же заглавием на странице 180. На странице 198 трехстишие под заглавием: «Είς διάβολον» [ «На лукавого»] взято из стихотворения на странице 177 под заглавием«'Αλλος θρήνος πρός Χριστόν» [ «Другой плач ко Христу»].
Изучая и сравнивая стихотворения по изданию Биллия с теми же произведениями святого Григория по другим позднейшим изданиям, в первом, изобилующем, как сказано и показано, повторениями, мы заметили по местам еще недостаток противоположного свойства. В некоторых стихотворениях оказывается пропуск стихов или даже строф либо в середине, либо в конце стихотворения. Так, на странице 97 в стихотворении:«Θρήνος» [ «Плач»] (у Биллия не совсем ладно – «Θρήνοι» [ «Плачи»]) перед последним двустишием недостает элегической строфы:
Τετρωμαι πολλοΐσι κακοΐς και αλγεσι σαρκός
Σοι δε, Χριστέ, χάρις, ος με πυροΐς πάθεσιν[327], –
и, таким образом, это стихотворение у него состоит из 18 стихов вместо 20. Далее, на странице 154, в гномическом стихотворении, написанном двустишиями («Γνωμικάδίστιχα»), у Биллия отсутствует двустишие:
«Α δυσμενείς φοβοΰσι των άλλων πλέον, Ό σταυρός και
βαπτισμοΰ ή κοινωνία [328], –
и, таким образом, все стихотворение состоит у него из 144 стихов (или 72 двустиший), а не из 146, как у Кайльо. На странице 181 в стихотворении «На терпение»(«Εις την υπομονην»), у Биллия, после пятого стиха, недостает ямбического двустишия:
Ώςμηδέν εις πΰρωσιν ελθγ των κακών «Ηπεΐραν είναι και
πάλην του δυσμενοΰς, –
так что стихотворение вместо девяти стихов, как у Муратори [329], состоит только из семи.
В стихотворении «Гимн Богу»(«ʼʼΎμνος εις Θεόν»), на странице 252, у Биллия не оказывается стиха:
Πάντα δε και λαλεοντα, και ου λαλεοντα λιγαίνει [330], –
который, по Бенедиктинскому изданию Кайльо (с. 287), сличившего греческий текст этого гимна с Ватиканским кодексом, составляет шестой стих этого гимна; между тем латинский перевод его у Биллия состоит сполна из 16 стихов; объяснения этой разности в количестве стихов оригинала с переводом у Биллия не находим. Наконец, в прекрасном ямбическом стихотворении «О добродетели» [см. наст. изд.: № 10; кн. I, разд. II], по изданию Биллия состоящем из 996, а по изданию Кайльо – из 998 стихов, по первому недостает 448‑го стиха:
Καιρού φθόνον τε παίγνιον τιμωμενον[331], –
и 821‑го:
Ει ςοψιν ουκ εδεξατ είναι γαρ κακοΰ[332].
Что касается внешней стороны Биллиева издания поэтических произведений святого Григория, то и в этом отношении, с точки зрения удобства пользования стихотворениями, рассматриваемое издание представляется не совсем безукоризненным. Невольно обращает на себя внимание с этой стороны прежде всего порядок или, точнее, беспорядок Биллиева издания стихотворений святого Григория. Трудно догадаться, каким соображением руководился Биллий, давая стихотворениям свой порядок расположения их, по какому принципу он делал деление и распределение их. Стихотворения богословского характера перемешаны у него со стихотворениями историческими, догматические – с нравственно‑дидактическими, эпиграммы – с гимнами, ямбические стихотворения – с элегическими. О порядке хронологическом, то есть о расположении стихотворений по порядку следования их друг за другом по времени, можно думать всего менее. Уже стихотворение «De vita sua» [№ 11. «Стихотворение, в котором Григорий пересказывает жизнь свою»; II, I], поставленное на первом месте, написано в 381 году, десятью годами позднее стихотворения «De rebus suis» [№ 1. «Стихи о самом себе»; II, I] (написанного в 371‑м), занимающего у него второе место. Правда, это первое стихотворение почему‑то не идет у Биллия в общий счет, который начинается у него только со второго стихотворения. Но стихотворение под № V «De suis calamitatibus» [№ 19. «Жалобы на свои страдания»; II, I] написано, в свою очередь, на десять лет позднее (382 год) стихотворения «Iusjurandum Gregorii» [№ 2. «Клятвы Григория»] (написанного в 372 году), поставленного под № XVII, и на три года позднее эпитафии Василию Великому (379 год), занимающей у него 64‑е место. Далее, стихотворение под № XIX «Adversus carnem» [№ 46. «На плоть»; II, I] написано двумя годами позднее (383 год) стихотворения «De se ipso adversus invidos» [№ 14. «О себе самом и на завистников»; II, I] (381 год), занимающего у Биллия по порядку место № 122. Стихотворение «Ad Hellenium pro monachis exhortatorium» [№ 1. «Увещательное послание к Геллению о монахах»; II, II] (372 год) написано хронологически на 11 лет раньше стихотворения: «De Dei desiderio» [№ 87. «О томлении к Богу»; II, I] (после 383 года), но у Биллия первое (под № XLVII) на двадцать один номер ниже последнего (под № XXVI), и тому подобное. Остается, таким образом, предположить, что Биллий пытался дать своему расположению стихотворений порядок систематический. До некоторой степени действительно можно заметить у Биллия систематизацию поэтического материала, распределяемого как будто по известным группам стихотворений, если только у него имеют какой‑либо смысл отдельные категории нумераций (римскими цифрами), объединяющие собой каждую группу стихотворений отдельно одна от другой. Но что это за группы и как он делил и распределял материал – это другой вопрос. Стихотворения любой группы у него ни между собой не представляют строго выдержанного сходства по одному известному признаку, ни со стихотворениями другой категории не представляют действительного различия по тому же признаку и потому одинаково доступны для перемещения из одной группы в другую. Мы уже заметили выше, что у Биллия самые разнообразные и разнохарактерные по содержанию и форме стихотворения в расположении перемешаны между собой. А это произошло оттого, что он не определил точно одного известного признака (fundamentum divisionis), на основании которого можно было бы расположить подлежащий материал в известном систематическом порядке. Располагая в своем издании стихотворения, Биллий берет признаком деления их то внутреннее содержание (arcana, то есть стихотворения таинственные, богословско‑догматические, с. 161), то их внешнюю сторону, метрический размер (carmina iambica, стихотворения ямбические, с. 187 и др.; tetrasticha, четверостишия, с. 156 и др.), то, не подводя ни под какой признак, ставит благодарную с точки зрения удобовместимости рубрику «carmina varia» (с. 92 и др.), к которой он с одинаковым основанием мог бы отнести все стихотворения святого Григория.
К внешним недостаткам рассматриваемого издания нужно отнести также отсутствие в нем обычного в издании поэтических произведений каждого классика деления стихотворений по стихам. Недостаток этот в особенности ощутим в справках и вообще критическом изучении текста их.
Говоря о недостатках Парижского издания 1630 года, мы вовсе не желаем умалить важности его и заслуги его издателей. Мы потому и остановились с некоторой подробностью на этом издании, что оно, вплоть до второй половины настоящего столетия [XIX века], было и лучшим, и единственно полным изданием сочинений святого Григория Богослова. Но, само собой разумеется, что и оно, со своими несомненными преимуществами сравнительно с прежними изданиями, имело лишь временное значение; при своих немаловажных недостатках, а главное – при своей неполноте оно далеко не могло считать законченным дело изучения рукописей святого Григория и не ожидать, в свою очередь, пополнения материала.
После Биллия, в конце XVII и в начале XVIII столетия, было найдено весьма много новых, еще не изданных в свет поэтических произведений святого Григория. Важнейшие издания их отдельно от слов и писем Григория Богослова были сделаны: Толлием, напечатавшим в 1696 году in cuatro в греко‑латинском тексте 20 стихотворений в «Insignibus Itinerarii Italici», p. 1–105; «Trajecti ad Rhenum» [ «Перешедшие через Рейн»], и трудолюбивым Л. А. Муратори, издавшим в 1709 году in cuatro, также на греческом и латинском языках, 222 эпитафии и эпиграммы Григория Назианзина в «Anecdotis Graecis», p. 1–217; Patavii. В большую заслугу Муратори должно быть поставлено то, что он не только издал этот весьма ценный и в некоторых отношениях почти единственный для истории IV века материал, но и осветил его своими учеными примечаниями, снабдив еще его variis lectionibus [различными прочтениями] различных манускриптов.
Оба эти издания новых стихотворений Григория, сделанные Толлием и Муратори, вместе с парижским изданием 1630 года Биллия легли в основу того прекрасного последнего греко‑латинского издания сочинений святого отца, которым мы обязаны необыкновенному трудолюбию и учености французских мавриниан[333]. Это по своей тщательной обработке образцовое издание было начато при стечении крайне неблагоприятных для него обстоятельств, которые растянули историю его больше, чем на столетие. Инициатива этого «гигантского» предприятия, как его называет в своем предисловии ко второму тому издания А. Б. Кайльо, принадлежала, кажется, бенедиктинцу Якову Фришу; он первый, по крайней мере, взялся за этот труд в первом десятилетии XVIII столетия, но на самом пороге своей учено‑трудовой деятельности он скошен был смертью. Тогда дело перешло в руки Франциска Луварда, который принялся за него с редкой энергией и одушевлением. Нужно удивляться, как мог он разобраться в изумительной массе рукописного материала и как успел хотя бы только пересмотреть его. В одних только парижских библиотеках Лувард критически сличил между собой более 200 кодексов. Он выписал множество чтений и разночтений, заимствованных из королевских, колбертинских и мазаринских манускриптов, и собственноручно внес их на поля греко‑латинского парижского издания 1630 года. И хотя Луварду не суждено было привести к концу предпринятого труда, как это не суждено было ни предшественнику его Якову Фришу, ни непосредственному продолжателю его Пруденцию Марону, однако Луварду Бенедиктинское издание обязано своей существенной частью, обязано своим фундаментом, на который твердо оперлись последующие продолжатели. Переходя из рук в руки за смертью одного сотрудника за другим, драгоценный материал получил, наконец, окончательную обработку для первого тома, который в 1778 году и вышел в Париже под редакцией Д. Клеманцета. Полное его латинское заглавие следующее: «S. Patris nostri Gregorii Theologi opera omnia, quae extant… opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri. Tom I. Paris sumt. viduae Desaint, 1778»[334]
Но этот первый том давно желанного издания обнимает только одни Слова Григория. Работы по приготовлению второго тома были надолго прерваны «tumultu publicarum discordiarum» [общественными нестроениями], то есть ужасами Французской революции, пошатнувшей во Франции основы самой религии и разрушившей священные ордена монахов. Казалось, что подлинная рукопись мавриниан была совсем затеряна. Но 60 лет спустя французскому аббату А. В. Cailau, не расстававшемуся с заветной мыслью об этом кодексе, хранившемся в душе его, как манна хранилась в ковчеге Завета, и постоянно представлявшему пред своими глазами второй том бенедиктинского издания, действительно посчастливилось отыскать в Париже драгоценную рукопись мавриниан; так что в 1840 году последняя, наконец, явилась в печати «post operam et studium monachorum O. S. B. edente et accurante D. A. B. Caillau. Par.curis et sumptibus Parent Debarres» [335], составив второй том к упомянутому первому тому бенедиктинского издания 1778 года. Этот том содержит самое полное собрание писем и стихотворений Григория с объяснительными примечаниями и извлечениями из комментаторов: Косьмы Иерусалимского, Никиты, Илии и Пселла. В него именно вошло: 166 стихотворений, изданных Биллием; 222 – Муратори и 20 – Толлием; всего – 408 стихотворений. Количество строф всех этих стихотворений простирается до 17 531, а со включением в счет строф трагедии «Χριστός Πάσχων» [ «Страждущий Христос»] – до 19 682.
Все стихотворения разделены на две обширные части (liber), из которых первая (с. 207–629 включительно) обнимает стихотворения богословские; вторая (с. 631‑1203) – стихотворения исторические. Каждая из этих частей, или книг, в свою очередь, подразделяется на два отдела (sectio), из которых первый отдел первой части (I, а, с. 207–297) содержит стихотворения догматические; второй отдел той же части (I, в, с. 299–629) – стихотворения нравственные (moralia). Первый отдел второй части (II, а, с. 631–695) составляют те исторические стихотворения, которые по содержанию своему относятся к самому поэту; второй (II, в, с. 997–1203) – стихотворения, относящиеся к другим лицам; к этой же последней группе стихотворений отнесены эпитафии (с. 1109–1163) и эпиграммы (стр. 1165–1203).
Трагедия«Χριστός Πάσχων» служит приложением (appendix). Кроме того, следует заметить, что в отделе исторических стихотворений Кайльо в расположении их придерживается по возможности и хронологического порядка, опустив его совсем в стихотворениях богословских, время появления которых не может быть определено и восстановлено с точностью.
Это последнее издание Кайльо, совместив в себе все лучшие стороны и достоинства прежних изданий, не только чуждо их недостатков, но имеет и свои особенные преимущества, что можно уже видеть отчасти из самой систематизации материала. Как греческий, так и латинский текст стихотворений разделен и обозначен по стихам, по обычной в классической поэзии пятеричной системе деления. Греческий текст снабжен критико‑сравнительно‑филологическими и историческими подстрочными примечаниями.
Ко всем прежним латинским переводам и переложениям стихотворений святого Григория Кайльо отнесся со всей строгостью критики. «Латинские стихи Биллия, которыми он старался передать греческий подлинник, с соблюдением его размера, – говорит Кайльо, – принесли больше труда Биллию, чем пользы читателям. Стесняемый законами метра, он часто передавал нехорошо не только слова, но даже и мысли автора». Находя, таким образом, латинскую метрическую версификацию Биллия недостаточно соответствующей греческим стихам, он заменил ее своим собственным переводом последних, сделанным вольной прозаической речью. Версификации же Биллия и по местам версификации Фр. Мореля он поместил на нижних полях, сделав снисхождение из всех поэтических опытов переложения стихотворений святого Григория только этим двум издателям. Все же латинские метрические версификации Толлия и Муратори он исключил из своего издания, заменив их своим переводом.
Строгая беспристрастная критика, тщательная аккуратность и отчетливая методичность – вот главные отличительные свойства этого издания; знакомство с ним наделяет читателя впечатлением труда, явившегося не только результатом многосложных исследований, добросовестности издателя его, его обширной христианскоклассической эрудиции и полного изучения всего, что было сделано прежде его предшественниками на том же поприще, но и плодом глубокой любви его к предпринятому делу, плодом теплого, непритворного чувства благоговения к великому церковно‑литературному имени, богослову‑поэту Григорию Богослову. Это лучшее издание стихотворений святого Григория, с сохранением всех его отличительных особенностей, с предисловием к нему Кайльо и с примечаниями к стихотворениям комментаторов – Косьмы Иерусалимского и Никиты Давида, перепечатано было в 1862 году Минем в его известном капитальном издании «Cursus compeltus». Здесь стихотворения Григория Богослова заняли два тома: 3 и 4‑й, 37 и 38 tom. Patrologia Graeca.
В своем сочинении мы будем приводить цитаты из стихотворений святителя Григория по изданию их Кайльо, указывая вместе с тем и на параллельные места существующих из них в русском переводе, причем, за отсутствием в последнем деления стихотворений на стихи, указания наши, по необходимости, будут относиться не прямо к означаемым стихам, а к страницам, на которых может случиться и два, и три стихотворения.
Что касается деления стихотворений и группировки их, то, при всех бесспорных библиографических достоинствах последнего, Бенедиктинского издания стихотворений святого Григория, мы не сочли удобным воспользоваться для своего сочинения классификацией Кайльо, находя ее, в отношении к специальной задаче нашего сочинения (святой Григорий Богослов как поэт), односторонней. Разделяя стихотворения на общие отделы по одному только лишь предметному содержанию стихотворений, Кайльо не обнимает своей классификацией всего разнообразия художественно‑литературных форм поэтических произведений святого Григория Богослова, не дает видеть уже внешним образом, из одного только распределения стихотворений по их настоящим поэтическим родам и видам, всей гибкости и плодовитости поэтического таланта святого отца. Мало того, Кайльо неизбежно допускает в своей общей классификации некоторые явные погрешности со строго литературной точки зрения, относя, например, чисто лирические произведения к разряду стихотворений исторических. Мы решились поэтому применить в своем сочинении деление стихотворений более подробное (детальное) и, как нам кажется, более точное, ближе подходящее к характеру сочинения и прямо вытекающее из самой задачи его.
Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 188; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
