Глава IТеория авангарда и критическое литературоведение
Петер Бюргер Теория авангарда
Перевод с немецкого Сергея Ташкенова
Редактор Карен Саркисов
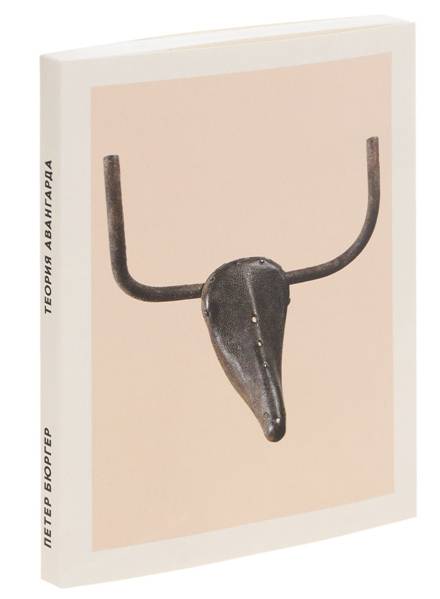
Б 98 Бюргер П. Теория авангарда. М.: V-A-C press, 2014. - 200 с. - 12+
УДК 7.01 ББК 87.8
Б 98 ISBN 978-5-9904389-7-2
© 1974, Surhkamp Verlag Frankfurt am Main
© 2014, V-A-Cpress Все права защищены
В оформлении обложки использована фотография работы Пабло Пикассо «Голова быка», 1942
(предоставлено SuccessionPicasso)
Содержание
Предварительное замечание. 3
Введение. Предварительные размышления о критическом литературоведении. 4
Глава I Теория авангарда и критическое литературоведение. 11
1. Историчность эстетических категорий. 11
2. Авангард как самокритика искусства в буржуазном обществе. 16
3. К дискуссии о теории искусства Беньямина. 22
Глава II К проблеме автономии искусства в буржуазном обществе. 28
1. Проблемы исследования. 28
2. Автономия искусства в эстетике Канта и Шиллера. 33
3. Отрицание автономии искусства в авангарде. 37
Глава III Авангардистское произведение искусства. 45
1. К проблеме категории произведения. 45
2. Новизна. 48
3. Случайность. 53
|
|
|
4. Понятие аллегории у Беньямина. 57
5. Монтаж.. 60
Глава IV Авангард и ангажированность. 68
1. Спор между Адорно и Лукачем.. 68
2. Дополнительное замечание с учетом Гегеля. 75
Послесловие ко второму изданию.. 78
Примечания. 81
Библиография. 100
Предварительное замечание
Если исходить из того, что эстетическая теория содержательна лишь в той мере, в какой она осмысляет историческое развитие своего предмета, то теория авангарда оказывается сегодня необходимой частью теоретико-художественных размышлений.
Настоящая работа опирается на результаты моего исследования о сюрреализме. На представленные в той книге частные примеры я укажу в общем,1 чтобы в дальнейшем можно было по возможности избежать отдельных отсылок. Приводимые здесь рассуждения имеют иной статус. Они не стремятся заменить собой необходимый анализ конкретных произведений, но предлагают категориальные рамки, позволяющие предпринять такой анализ. В соответствии с этим, упоминаемые примеры из литературы и изобразительного искусства выступают не историко-социологической трактовкой отдельных произведений, но иллюстрациями к теории.
|
|
|
Настоящая работа выросла из проекта «Авангард и буржуазное общество», проводившегося в университете Бремена с летнего семестра 1973 до летнего семестра 1974 года. Без интереса к предмету занятых в проекте студентов не родилась бы и данная книга. В обсуждении отдельных глав работы приняли участие Криста Бюргер, Хелена Харт, Кристель Рекнагель, Янек Ярославски, Хельмут Лампрехт и Герхард Лейтхойзер; им я выражаю благодарность за критические замечания.
Введение. Предварительные размышления о критическом литературоведении1
Критическая наука отличается от традиционной тем, что анализирует общественное значение своей деятельности.2 Это порождает определенные проблемы, осознание которых важно для учреждения критического литературоведения. Я имею в виду не то наивное отождествление индивидуальной мотивации и общественной актуальности, которое встречается сегодня у антиавторитарных левых, но теоретическую проблему. Определение того, что актуально для общества, связано с политической позицией интерпретатора. Это значит, что вопрос, актуален предмет или нет, в антагонистическом обществе нельзя решить обсуждением, но его можно обсудить. Мне кажется, научная дискуссия добилась бы существенного прогресса, если бы для каждого ученого стало нормой обосновывать выбор своего предмета и постановку проблемы.
|
|
|
Критическая наука, какой бы опосредованной она ни была, понимает себя как часть социальной практики. Она не является «незаинтересованной», но руководствуется интересом. Последний можно примерно определить как заинтересованность в разумных состояниях и мире, свободном от угнетения и ненужного подавления. Этот интерес не может реализоваться в литературоведении непосредственно. Такого рода попытки(например, установление жесткого мерила, по которому прогрессивность литературы определяется изображением положительного героя из рабочего класса)3 игнорируют особенность иисторичность предметной области. Нацеленный на познаниеинтерес реализуется в литературоведении лишь опосредованно — через определение категорий, с помощью которых будут осмысляться литературные объективации.
|
|
|
Суть критической науки не в том, чтобы изобретать новые категории, противопоставляя их «ложным» категориям традиционной науки. Напротив, при анализе категорий традиционной науки она пытается выяснить, какие вопросы они могут ставить, а какие уже исключены на уровне теории (самим выбором категорий). В литературоведении при этом важен вопрос, обладают ли категории теми качествами, которые позволили бы анализировать взаимосвязь литературных объектаваций и общественных отношений. Я настаиваю на важности категориальных рамок, которыми пользуется исследователь. Можно, например, описать литературное произведение как решение определенных художественных проблем, возникающих в зависимости от состояния художественной техники в эпоху его создания; но это отсекает вопрос о социальной функции уже на теоретическом уровне, если только не удастся показать наличие общественной составляющей в казалось бы чисто художественной проблематике.
Разумеется, критическое литературоведение выбирает своим исходным пунктом не случайно взятые традиционные концепции, но наиболее актуальные. К таковым, несомненно, относится герменевтика. В книге «Истина и метод» Гадамер разработал два ключевых герменевтических понятия: предрассудок и аппликация. Предрассудок применительно к процессу понимания чужих текстов означает, что интерпретаторне является пассивным реципиентом, словно растворяющимся в тексте, а привносит определенные представления, проникающие в толкование текста. Аппликация (применение) — это всякое толкование, проистекающее из определенного интереса к современности. Гадамер подчеркивает, «что в понимании всегда имеет место нечто вроде применения подлежащего пониманию текста к той современной ситуации, в которой находится интерпретатор».4 В целом с Гадамером можно согласиться, но содержание, которым он наполняет эти понятия, справедливо критиковалось, особенно Юргеном Хабермасом: «Гадамер превращает свою идею понимания как структуры предрассудка в реабилитацию предрассудка как такового».5 Это происходит потому, что Гадамер определяет понимание как «включение в свершение предания» (Истина и метод, с. 345). Для консервативного Гадамера понимание в конечном счете совпадает с подчинением авторитету традиции; Хабермас же, напротив, указывал на «силу рефлексии», которая делает структуру предрассудка прозрачной и тем самым разрушает его власть (LogikderSozialwiss., S. 283 f.). Он поясняет, что для самостоятельной герменевтики традиция предстает абсолютной властью лишь потому, что она не учитывает системы труда и господства (logikderSozialwiss. 289). Именно в этом пункте, по его мнению, должна вступать игру критическая герменевтика.
«Относительно наук о духе, — пишет Гадамер, - скорее следует сказать, что исследовательский интерес, обращаясь к преданию, каждый раз совершенно особым образом мотивирован здесь современностью и ее интересом. Лишь благодаря подобной мотивации самой постановки вопроса конституируются тема и предмет исследования» (Истина и метод с. 338). Указание на соотнесенность историко-герменевтических наук исовременности несет в себе большую теоретическую значимость, но формулировка «современность и ее интерес» подразумевает, что современность есть нечто единообразное и ее интересы можно определить. Именно в этом кроется заблуждение. В истории интересы правящих и угнетенных едва ли когда совпадали. Лишь полагая современность как монолитное единство, Гадамеру удается приравнять понимание к «включению в свершение предания». В противовес этой точке зрения, делающей историка пассивным реципиентом, можно согласиться с Дильтеем, который настаивает на том, «что историю исследует тот же, кто ее творит».6 Хочет он того или нет, но историк или интерпретатор занимает определенную позицию в рамках общественных дискуссий своего времени. Перспектива, из которой он рассматривает свой предмет, определена его собственным положением среди социальных сил эпохи.
Герменевтика, ставящая своей целью не простую легитимацию традиции, а рациональное испытание претензии традиции на действенность, оборачивается критикой идеологии.7 Не секрет, что с понятием идеологии связано множество отчасти противоречащих друг другу значений; и все же критической науке без него не обойтись, поскольку оно позволяет мыслить противоречивые отношения духовных объективаций и социальной реальности. Вместо того чтобы пытаться дать определение, обратимся к критике религии, которую Маркс развил во введении к «Критике гегелевской философии права» и которая демонстрирует это противоречивое отношение. Ранний Маркс — в этом заключается как сложность, так и научная плодотворность его понятия идеологии — разоблачает как ложное сознание такой образ мыслей, истинность которого он вместе с тем не отрицает. Эта двойственность идеологии обнаруживается на примере религии:
1. Религия есть иллюзия. Человек проецирует в небо то, что он хочет видеть воплощенным на земле. Веря в Бога, который является лишь овеществлением человеческих свойств, он вводит себя в заблуждение.
2. Вместе с тем религии присущ и момент истины: она есть «выражение действительного убожества» (поскольку чисто идеальная реализация человечности на небесах указывает на нехватку реальной человечности в человеческом обществе). И она есть «протест против этого действительного убожества»,8 потому что и в отчужденной форме религиозные идеалы являются мерилом того, что должно быть в действительности.
Критику религии у Маркса можно обобщить в модель, применимую к предметам литературы. Маркс устанавливает связь между идейным содержанием (религиозным учением) и общественным положением носителей этого идейного содержания (социальное убожество). Сложнее всего при этом изложить суть установленной связи — мы назовем ее социальной функцией идейного содержания. В модели она понимается как противоречивая: она содержит момент истины (выражение убожества и протест против него) и момент не-истины (пробуждение иллюзорных надежд). Значение модели заключается в том, что она не устанавливает однозначного отношения духовных объективаций и социальной действительности сразу на теоретическом уровне, но рассматривает это отношение как противоречивое и тем самым предоставляет конкретному анализу необходимый простор для познания, так что он не превращается в пустую демонстрацию изначально заданной схемы. Важно, кроме того, следующее: критика понимается как производство знаний, а не как пассивное восприятие данного. Хотя элемент истины и присутствует в идейном содержании (религии) изначально, он раскрывается только посредствомкритики. Последняя разрушает иллюзию автономного существования Бога и позволяет тем самым познать элемент истины идейного содержания.Из этого следует:
1. Критика идеологии, построенная по образцу критики религии у Маркса, не разрушает духовное образование прошлого — она лишь раскрывает его историческую истину.
2. Кроме того, следует помнить, что идейное содержание (литературное произведение) понимается не просто как слепок, то есть дублирование общественной реальности, но как ее продукт. Оно есть результат деятельности, отвечающей на действительность, которая воспринимается ущербной. (Человеку, которому недоступна «истинная действительность», то есть возможность гуманного развития в реальности, приходится идти на «фантастическое осуществление» самого себя в сфере религии.) Идеологии не просто отражают определенные общественные отношения, но и являются частью общественного целого. «Идеологические моменты „скрывают" не только экономические интересы, являются не только знаменами и боевыми лозунгами, но выступают как часть и элемент самой действительной борьбы».9
Чтобы быть пригодной для анализа литературы, описанная модель нуждается тем не менее в некоторых преобразованиях. Идейное содержание, позволяющее постигать духовные объективации лишь на содержательном уровне их высказывания, должно быть заменено определением, учитывающим, что содержание художественного произведения во многом складывается из его формы. Для этого я предлагаю понятие интенции произведения. Им следует обозначать не осознанное авторское намерение воздействовать на реципиента, а точку схождения обнаруживающихся в произведении средств этого воздействия(стимулов). Здесь возникает проблема включения формальных методов анализа текста в критическое литературоведение. Такое включение необходимо; однако оно требует теоретических размышлений, которые бы прояснили научный статус формальных методов и легитимность их включения в критико-герменевтическую науку.
Названные преимущества модели, выведенной из критики религии Маркса, можно обобщить следующим образом: эта модель позволяет сформулировать взаимосвязь отдельного произведения и социальной действительности, которой оно обязано своим появлением, как диалектическое отношение (функцию). Кроме того, она позволяет поставить вопрос об изменениях социальной функции произведения после заката обусловливающего его общества. Эта модель позволяет допустить, что в изменившейся общественной ситуации произведение получает новые социальные функции.10 Ведь если понимать функцию не просто как эманацию интенции произведения, но как результат интенции произведения, с одной стороны, и реального положения аудитории этого произведения, с другой, то антиномия историчности и вневременности становится частично объяснимой.
Недостаток модели (не Марксовой критики религии, но предложенного здесь ее применения к литературным произведениям) заключается в том, что она строится на иллюзии, будто отдельное произведение и воздействует отдельно. Но это не так - произведение воздействует в рамках института искусства. Этот недостаток был устранен в предпринятом Маркузе перенесении Марксовой критики религии на культуру буржуазного общества. Однако и здесь, как мы увидим, не обошлось без трудностей.
Изложим для начала в общих чертах центральное положение Маркузе из его статьи «Аффирмативный характер культуры». Подобно тому как Маркс раскрыл «аффирмативный»момент в религии (в качестве утешения она избавляет общество от давления сил, направленных на изменения), Маркузеобнаруживает его в буржуазной культуре, допускающей гуманные ценности лишь в качестве фикции и тем самым препятствующей их реализации. И подобно тому как Маркс улавливал в религии критический момент («протест против действительного убожества»), Маркузе считает гуманистические притязания великих произведений буржуазной культуры протестом против несправедливого общества. «И разумеется, она [аффирмативная культура] освобождает „внешние условия” отответственности за „призвание человека”, что позволяет стабилизировать их несправедливость. Однако она также указывала в качестве задачи на образ лучшего строя».11
Перенос глобальной модели критики Маркса на сферу культурных объективаций еще не решает вопроса о научном статусе такой модели. Критика буржуазной культуры Маркузе опирается на ее идейный характер; она глобальна в той мере, в какой она одинаково затрагивает все объективации искусства буржуазии. Возникает вопрос, как эта модель относится к интерпретации отдельных произведений. Было бы, конечно, совершенно бессмысленно утверждать, что она охватывает все произведения буржуазной культуры или же наделяет их ярлыком «аффирмативности». Если из статьи Маркузе и можно сделать такие выводы, агрессивные по отношению к культуре и чуждые самому автору,12 то только в результате ошибочного анализа. Ведь значение этого анализа кроется скорее в том, что он предоставляет модель диалектического толкования, не дав прежде толкования отдельных произведений. Желая определить статус этой модели точнее, можно понимать ее через призму рассуждений Хабермаса о метапсихологии Фрейда как всеобщей интерпретации.13 Подобно тому как структурная модель метапсихологии на основании понятий Оно, Я, Сверх-Я и заимствованных у семейной структуры ролевых моделей вырабатывает нарративную схему, служащую реконструкции индивидуальных биографий, так и модель Маркузе позволяет интерпретировать произведения буржуазной культуры как образования, в которых, как правило, расходятся идеальное притязание и реальная функция. Маркузе констатирует практическую неэффективность искусства в отношении преследуемых им целей и обращает внимание на взаимосвязь между этой неэффективностью и автономным статусом искусства в буржуазном обществе. Это ставит рамки, в которых отдельная интерпретация может задаваться вопросами, каким образом произведение пользуется весьма исторически изменчивым пространством свободы внутри буржуазного общества и в какой мере оно стремится преодолеть свою практическую неэффективность.
Помимо понятий, заимствованных для построения модели критического литературоведения из Марксовой критики религии, мы заимствуем еще одно важное понятие из подхода Маркузе — понятие института искусства (или культуры). То, что мы называли функцией (единство критической интенции и аффирмативного воздействия), зависит у Маркузе уже не от двух факторов (реального положения носителей идейного содержания и его самого), но и от третьего — того статуса, который в буржуазном обществе приобретает изолированное от жизненной практики искусство. Этот статус (институт искусства) задает условия, в которых производятся и воспринимаются отдельные произведения. Пытаясь построить модель понимания литературных произведений с опорой на Марксову критику религии, мы могли упустить важное понятие института, потому что под словом «религия» подразумевали «идейное содержание» и не учитывали содержащегося в понятии религии институционального момента.
Модель Маркузе фиксирует важную теоретическую мысль: отдельное произведение искусства всегда воспринимается в заданных, так сказать, институциональных условиях, определяющих в итоге его реальное воздействие. Можно даже сказать, что институт искусства (автономия) занимает в этой модели ключевое место и детерминирует реальную общественную функцию произведения. Не вызывает сомнений, что институт искусства должен считаться общественным; но возникает вопрос, каким образом он доступен исследователю. Проблема становится очевидной, если сопоставить институт искусства с институтом права; последний дан нам в виде писаных законов, то есть корпуса текстов, непосредственно регулирующих работу института. Для института искусства не существует ничего подобного В его не определяют никакие правила. Цензурные положения могут оказаться полезными для изучения сферы влияния литературных произведений какой-либо эпохи, но они ни в коем случае не позволяют определить статус искусства в обществе. О нем можно судить прежде всего по рефлексии авторов и критиков. О статусе искусства классико-романтический период нам сообщают «Критика способности суждения» Канта и «Письма об эстетическом воспитании человека» Шиллера. (Авторы последних социологических работ о проблеме автономии справедливо ссылаются на эти сочинения.) Но если статус искусства в определенный исторический период раскрывается нам преимущественно в рефлексии авторов и критиков, то, постигая этот статус, мы приходим не к социальному факту, но к чему-то, что само опять-таки требует социального объяснения. Другими словами, на этом уровне мы опять сталкиваемся с проблемой социальной детерминированности произведения искусства. Не значит ли это, что проблема всего лишь смещается с одного уровня на другой? В некотором смысле да; но было бы неверно заключать, что можно избавить себя от таких рассуждений, раз в итоге вновь обнаруживается эта проблема. Такая точка зрения упускает самый существенный момент всякого теоретического построения: задача его не в том, чтобы таким образом решать проблемы, но в том, чтобы понятийно артикулировать идеи, позволяющие для начала вообще поставить четко сформулированные вопросы.14Вновь представим себе нашу модель, дополненную концепцией Маркузе: бросается в глаза, что в ней общество существует не на одном, но на нескольких уровнях. Нет никакого противоречия в том, что общество, преобразованное и пропущенное сквозь фильтр заданного художественного материала, входит как в само произведение, так и в его интенцию. Можно сказать, общество входит в произведение как «конструкт». Институт искусства в буржуазном обществе можно определить через противопоставление жизненной практике. Сколь бы неубедительным ни было противопоставление или сопоставление искусства и общества в качестве модели объяснения отдельных произведений, ей все же присущ момент истины в плане определения института искусства, который классические теоретики определяют как нечто обособленное от социальной жизненной практики. Общество оказывается здесь повседневностью, давлением отношений, которым подчиняется каждый человек в практической жизни. Введенная институтом искусства дихотомия искусства и общества (в смысле жизненной практики) отнюдь не является, однако, чем-то первичным — она обусловлена всем обществом в целом (противоречивым единством производительных сил и производственных отношений), которое, кроме того, определяет социальное положение первичных носителей произвединия или группы произведений. Понятием института искусства обозначается степень опосредования между функцией отдельного произведения и обществом. Степень опосредования представляется исторической переменной, меняющейся гораздо медленнее чередования отдельных произведений.
Присутствие общества на разных уровнях этой модели и в разных значениях (как конструкт в произведении, как оппозиция искусства и жизненной практики при определении института искусства, как совокупно-общественная данность в социальном положении первичных носителей и в детерминации института искусства) снимает жесткое противопоставление искусства и общества, при котором первое гипостазируется как нечто внесоциальное, и пусть и не в достаточной мере, но позволяет принять во внимание, что произведение искусства не стоит особняком от общественной целостности, но является ее частью.
Модель является герменевтической, поскольку диалектически трактуемое понятие функции занимает в ней центральное положение. Обладает ли произведение, в терминах Маркузе, критической или аффирмативной функцией и какой элемент (в заданный момент времени) доминирует — также зависит от позиции интерпретатора в современной ему общественной полемике. Если бы все зависело только от этого, то не возникало бы и никакой литературоведческой дискуссии; противоречащие друг другу интерпретации, привязанные к политической позиции интерпретатора, относились бы тогда друг к другу децизионистски. Возможность обсуждать расходящиеся друг с другом интерпретации пусть и не дает повода выносить на их счет решения (в смысле «верности» или «ложности»), но позволяет приводить доводы в пользу убедительности той или иной интерпретации. Как со стороны «социальной логики первичных носителей», так и со стороны «интенции произведения» в очерченной модели обнаруживаются данные, которые хоть и не носят номологического характера, поскольку могут быть получены лишь в контексте интерпретации, но обладают тем не менее относительно высокой верифицируемостью. Предпринятое интерпретатором определение функции произведения убедительно в той мере, в какой он способен связать социальные «данные» с «данными произведения». В этом заключается собственно герменевтическая задача. Кроме того, изложенная модель преследует цель обеспечить в рамках герменевтически понятого литературоведения возможность рационального обсуждения различных интерпретаций за счет включения в дискуссию, так сказать, номологических результатов анализа. Произвольное, не подкрепленное никакой теоретической рефлексией бесцельное толкование лишилось бы тогда легитимации.
Разумеется, я знаю, что реализуемость того или иного метода не является вопросом о том, чьи аргументы лучше (если Эрих Кёлер приобрел так мало учеников, принявших марксистский подход, то виной тому явно не недостатки его метода);и все же мы должны исходить из контрафактической гипотезы, что лучшие аргументы всегда добиваются признания, ведь в противном случае нам пришлось бы вообще отказаться от научных дискуссий.
Глава IТеория авангарда и критическое литературоведение
1. Историчность эстетических категорий
История внутренне присуща эстетической теории.Ее категории носят радикальноэстетическийхарактер.
—Т. Адорно1
Сколько бы эстетические теории ни гнались за надысторическим познанием своего предмета, не составит особого труда postfestumраспознать на них самих явную печать породившей их эпохи. Если эстетические теории историчны, то критическая теория предметной области искусства, пытаясь пролить свет на свою деятельность, также должна распознать собственную историчность. Другими словами, ей следует историзировать эстетическую теорию.
Для начала разберемся, что значит историзировать теорию. Это не значит применять к сегодняшней эстетической теории истористский подход, понимающий все явления эпохи через призму ее самой и затем вписывающий отдельные эпохи («одинаково близкие к Богу», по Ранке) в некую идеальную одновременность. Ложный объективизм истористского подходасправедливо критиковался; бессмысленно возрождать его, рассуждая о теориях.2 Точно так же это не значит рассматривать все предыдущие теории лишь как ступени на пути к собственной. Фрагменты былых теорий при этом отделяются от своего первоначального контекста и реконтекстуализируются без осмысления возникающей перемены функции и значения этого теоретического фрагмента. Характерное для восходящих классов построение истории как предыстории настоящего оказывается, несмотря на свою прогрессивность, в гегелевском смысле слова односторонним, поскольку охватывает лишь одну сторону исторического процесса, в то время как другую в ложном объективизме удерживает историзм. Под историзацией теории здесь следует понимать нечто иное, а именно постижение взаимосвязи между раскрытием предмета и категориями науки. Понятая в таком ключе, историчность теории основана не на том, что теория является выражением духа времени (такой взгляд является истористским), и не на том, что она поглощает предыдущие теории (история как предыстория настоящего), но на том, что предмет и категории взаимосвязаны в своем раскрытии. Ухватить эту взаимосвязь и значит историзировать теорию.
Можно возразить, что подобное начинание необходимо претендует на внеисторическое положение, так что историзация также необходимо становится деисторизацией; иными словами, выявление историчности языка науки предполагает метауровень, на котором это выявление возможно, и этот метауровень необходимо является трансисторическим (что потребует его историзации и т.д.). Понятие историзации означает здесь не разделение различных уровней языка науки, а рефлексию, которая в среде одного языка постигает историчность собственной речи.
Очерченную мысль можно пояснить с опорой на некоторые базисные методологические положения, сформулированныеМарксом в «Экономических рукописях 1857-1859 годов». На примере труда Маркс показывает, «что даже самые абстрактные категории, несмотря на то, что они — именно благодаря своей абстрактности — имеют силу для всех эпох, в самой определенности этой абстракции представляют собой в такой же мере продукт исторических условий и обладают полной значимостью только для этих условий и в их пределах».3Уловить эту мысль нелегко, поскольку Маркс утверждает, что, с одной стороны, определенные простые категории всегда имеют силу, а с другой, их всеобщность вытекает из определенных исторических отношений. Решающее различие здесь кроется между «иметь силу для всех эпох» и сознавать эту всеобщую значимость (в терминологии Маркса, «определенность этой абстракции»). Стало быть, положение Маркса гласит, что такое осознание возможно лишь в исторически развернутых отношениях. В монетаризме, рассуждает он, под богатством еще понимаются деньги, то есть связь богатства и труда не осознается. Лишь в теории физиократов труд признается источником богатства, однако не труд вообще, но его определенная разновидность — земледелие. Затем, в английской классической политэкономии, у Адама Смита, уже не определенный вид труда, а труд вообще признается источником богатства. Для Маркса это не просто развитие экономической теории. Ему скорее кажется, что возможным прогресс познания делает раскрытие предмета, на которое направлено познание. Когда физиократы развивали свою теорию (во второй половине XVIII века во Франции), земледелие еще оставалось господствующим сектором экономики, от которого зависели все остальные. Лишь экономически гораздо более развитая Англия, где промышленная революция уже набрала ход и где господство земледелия над остальными секторами общественного производства окончательно пало, позволила Смитуосознать, что не конкретный вид труда, но труд как таковой создает богатство. «Безразличие к определенному виду труда предполагает весьма развитую совокупность действительных видов труда, ни один из которых уже не является более господствующим» (Экономические рукописи, с. 41).
Мой тезис состоит в том, что выявленная Марксом на примере категории труда взаимосвязь общезначимости какой-либо категории и реального исторического развития той области, на которую эта категория нацелена, действительна и для художественных объективаций. Выделение предметной области здесь также является условием возможности адекватного познания предмета. В буржуазном обществе полного выделения феномена искусства добился только эстетизм, ответом на который выступает исторический авангард.4
Уточним тезис за счет центральной категории «художественного метода» («приема»). С ее помощью художественный творческий процесс можно реконструировать как процесс рационального выбора среди разнообразных приемов — в расчете на достижение желаемого эффекта. Подобная реконструкция художественного производства предполагает не только относительно высокую степень рациональности в художественном производстве, но и свободный доступ к художественным средствам, уже не привязанным к системе стилистических норм, на которой, пусть и опосредованно, сказываются общественные нормы. Разумеется, в комедии Мольера художественные средства используются точно так же, как у Беккета, но из критики Буало явствует, что в эпоху Мольера они еще не осознаются в качестве художественных средств. Эстетическая критика того времени по-прежнему является прямой критикой отвергаемых господствующим слоем общества стилистических средствгрубо-комического. В феодально-абсолютистском обществе ФранцииXVII века искусство еще во многом интегрировано в жизненный уклад правящей верхушки. Даже когда в XVIII веке развивающаяся буржуазная эстетика освобождается от стилистических норм, связывавших искусство феодального абсолютизма с правящей верхушкой, искусство и дальше продолжает существовать Я принципу imitationaturae. Стилистические средства поэтому еще не обрели всеобщности художественного средства, призванного лишь воздействовать на реципиента, но подчиняются (исторически изменчивому) стилистическому принципу.Без сомнения, художественное средство – самая общая из категорий, применимых для описания художественных произведений. Но осознавать отдельные приемы как художественные средства становится возможным лишь с появлением исторических авангардных движений, потому что лишь в них становится доступной совокупность художественных средств как таковых. До этой эпохи в развитии искусства использование художественных средств было ограничено стилем эпохи и заданным каноном допустимых приемов, нарушать который допускалось лишь до известных пределов. Но пока господствует один стиль, категория художественного средства не очевидна в качестве всеобщей категории, потому что на деле она кажется лишь особенной. Характерная черта исторических авангардных движений заключается как раз в том, что они не развили определенного стиля; не существует дадаистского или сюрреалистического стиля. Возможность единого стиля эпохи эти движения, напротив, ликвидировали, возведя доступность художественных средств прошедших эпох в принцип. Лишь универсальная доступность превращает категорию художественного средства вобщую.
Когда русские формалисты провозглашают «остранение» художественным приемом,5 признание всеобщности этой категории возможно потому, что в исторических авангардных движениях шок реципиента становится главнейшим принципом художественной интенции. Поскольку остранение тем самым действительно становится господствующим художественным приемом, оно может быть признано общей категорией. Это ни в коем случае не означает, что русские формалисты выявили остранение преимущественно на основе авангардистского искусства (напротив, излюбленные примеры Шкловского —это «Дон Кихот» и «Тристрам Шенди»); утверждается лишь одна, тем не менее необходимая, взаимосвязь между принципом шока в авангардистском искусстве и осознанием общезначимости категории остранения. Необходимой эта связь предстает потому, что лишь полное раскрытие предмета (здесь — радикализация остранения через шок) позволяет познать общезначимость категории. Акт познания ни в коем случае не переводится тем самым в сферу реальности, а познающий субъект не отрицается; всего лишь признается, что возможности познания ограничены реальным (историческим) развитием предмета.6
Я утверждаю, что авангард первым раскрывает общий характер определенных общих категорий произведения искусства и что, следовательно, предыдущие стадии развития феномена искусства в буржуазном обществе можно понять исходя из авангарда, а не наоборот (авангард — исходя из предшествующих ему стадий искусства). Но это положение не значит, что все категории произведения искусства получают свое полное развитие лишь в авангардистском искусстве. Напротив, мы увидим, что определенные, существенные для описания доавангардистского искусства категории (например, органичность, подчиненность частей целому) в искусстве авангарда как раз отрицаются. Поэтому нельзя полагать,будто все категории (и то, что они выражают) проходят одинаковый путь развития. Подобная эволюционистская позиция сглаживает противоречивость исторических процессов в пользу представлений о линейном ходе развития. В противовес этому следует настоять на том, что историческое развитие как общества в целом, так и отдельных его частей следует рассматривать лишь как результат во многом несовместимых линий развития категорий.7
Необходимо дополнительно уточнить сформулированное выше положение. Только авангард, как говорилось, демонстрирует всеобщность художественных средств, потому что уже не выбирает художественные средства по какому-то стилистическому принципу, но располагает ими как художественными средствами. Возможность видеть категории художественного произведения в их общезначимости возникла в искусстве авангарда, разумеется, не exnihilo. Напротив, ее исторические предпосылки кроются в развитии искусства в буржуазном обществе. С середины XIX века, то есть после утверждения политического господства буржуазии, развитие это протекало так, что диалектика формы и содержания произведения искусства все больше смещалась в сторону формы. Содержательная сторона художественного произведения – его «высказывание» — все больше оттесняется на задний план формой, определяющей себя как эстетическое в узком смысле слова. Такое преобладание (примерно с середины XIX века) формы в искусстве с точки зрения производственной эстетики можно трактовать как распоряжение художественными средствами, с точки зрения рецептивной эстетики —как установку на сенсибилизацию реципиента. Важно видеть единство этого процесса: художественные средства становятся доступными в качестве таковых по мере ослабления категории содержания.8
С этой точки зрения оказывается понятным одно из центральных положений эстетики Адорно, согласно которому «ключ ко всякому содержанию искусства лежит в его технике».9 Подобный тезис вообще возможен лишь благодаря тому, что за последние сто лет изменилось отношение между формальными (техникой) и содержательными (высказыванием) моментами произведения и что форма действительно стала преобладать. Вновь обнаруживается взаимосвязь между историческим развитием предмета и категориями, охватывающими данную предметную область. Однако в формулировке Адорно проблематичен один момент — претензия на общезначимость. Если верно, что положение Адорно стало возможным лишь благодаря эволюции, которую искусство претерпело со времен с Бодлера, то применимость этого положения к предыдущим эпохам в искусстве оказывается спорной. В цитированном выше методологическом рассуждении Маркс обращается к этой проблеме и подчеркивает, что даже самые абстрактные категории обладают «полной значимостью» лишь для и внутри тех условий, продуктом которых они являются. Если не усматривать здесь скрытого историзма Маркса, то возникает проблема –можно ли познавать прошлое, не питая истористской иллюзии его беспредпосылочного понимания и не постигая его в категориях, представляющих собой продукт более поздней эпохи?
2. Авангард как самокритика искусства в буржуазном обществе
В «Экономических рукописях 1857-1859 годов» Маркс формулирует еще одну важную методологическую мысль. Онатакже касается возможности познания предшествующих общественных формаций или общественных подсистем. Маркс совсем не затрагивает истористскую позицию, согласно которой предшествующие общественные формации можно постигать, не ссылаясь на настоящее исследователя. Связь между развитием предмета и развитием категорий (а стало быть, и историчность познания) не подлежит для него сомнению. Предмет его критики составляет не истористская иллюзия возможности исторического познания без опорной точки в истории, а прогрессивная конструкция истории как предыстории современности. «Так называемое историческое развитие покоится вообще на том, что последняя по времени форма рассматривает предыдущие формы как ступени к самой себе и всегда понимает их односторонне, ибо лишь весьма редко и только при совершенно определенных условиях она бывает способна к самокритике; здесь, конечно, речь идет не о таких исторических периодах, которые самим себе представляются как времена упадка» (Экономические рукописи, с. 42-43). Понятие «односторонне» здесь употреблено в строго теоретическом смысле; оно означает, что противоречивое целое постигается недиалектически (в своей противоречивости) и фиксируется лишь одна сторона этого противоречия. Несомненно, прошлое надо конструировать как предысторию настоящего, но эта конструкция охватывает лишь одну сторону противоречивого процесса исторического развития. Чтобы схватить процесс в его целостности, следует выйти за рамки настоящего, которое вообще делает познание возможным. Для этого Маркс прибегает не к измерению будущего, а к понятию самокритики настоящего. «Христианская религия лишь тогда оказалась способной содействовать объективному пониманию прежних мифологий, когда ее самокритика была до известной степени, так сказать,уже готова. Так и буржуазная политическая экономия лишь тогда подошла к пониманию феодальной, античной, восточной экономики, когда началась самокритика буржуазного общества» (Экономические рукописи, с. 43).
Говоря об «объективном понимании», Маркс вовсе не поддается объективистскому самообольщению историзма, потому что связь исторического познания с настоящим является для него самой собой разумеющейся. Его волнует лишь диалектическое преодоление (через понятие самокритики настоящего) «односторонней» конструкции прошлого как предыстории настоящего.
Если использовать самокритику как историографическую категорию для описания определенной стадии развития общественной формации или общественной подсистемы, то придется сначала точнее определить ее значение. Маркс отличает самокритику от иного типа критики, например, «критики, с которой христианство выступало против язычества или протестантизм — против католицизма» (Экономические рукописи, с. 43). Этот тип мы обозначим как внутрисистемную критику. Особенность ее состоит в том, что она работает в рамках общественного института. В примере Маркса внутрисистемной критикой в рамках института религии будет критика определенных религиозных представлений во имя других представлений. Самокритика же, напротив, предполагает дистанцию по отношению к борющимся друг с другом религиозным представлениям. Однако эта дистанция является лишь результатом другой, по сути своей более радикальной критики —критики самого института религии.
Разница между внутрисистемной критикой и самокритикой действительна и для сферы искусства. Примером первой может служить критика теоретиков французского классицизма в адресбарочной драмы или критика Лессинга в адрес немецких подражаний классической французской трагедии. Критика здесь работает внутри института театра, при этом друг с другом сталкиваются различные концепции трагедии, которые (пусть и через многочисленные опосредования) коренятся в социальных позициях. От этого необходимо отличать тот тип критики, который целиком касается института искусства, — самокритику искусства. Методологическое значение категории самокритики состоит в том, что и в случае общественных подсистем она показывает условия возможности «объективного понимания» предшествующих стадий развития. Применительно к искусству это значит, что «объективное понимание» предшествующих эпох развития искусства станет возможным, лишь когда искусство войдет в стадию самокритики. Под «объективным пониманием» разумеется при этом не понимание, независимое от нахождения познающего индивида в настоящем, а только постижение совокупного процесса в той мере, в которой в настоящем познающего индивида этот процесс, пусть и временно, но завершился.
Мой второй тезис звучит так: вместе с движениями исторического авангарда искусство как общественная подсистема вступает в стадию самокритики. Дадаизм, наиболее радикальное из течений европейского авангарда, критикует уже не предшествовавшие ему художественные направления, но институт искусства, каким он сложился в буржуазном обществе. Понятием института искусства здесь следует обозначать как аппарат производства и распространения искусства, так и господствующие в данную эпоху представления об искусстве, существенно определяющие рецепцию произведений. Авангард выступает против того и другого: против аппарата распространения, которому подчинено художественное произведение, и против статуса искусства в буржуазном обществе, охватываемого понятиемавтономии. Только после того как в эстетизме искусство целиком отделяется от жизненной практики, эстетическое получает возможность развиваться «в чистом виде». Но, с другой стороны, автономия обнаруживает свою изнанку — общественную неэффективность. Авангардистский протест, цель которого — вернуть искусство в жизненную практику, раскрывает взаимосвязь автономии и неэффективности. Зарождающаяся самокритика искусства как общественной подсистемы делает возможным «объективное понимание» предыдущих стадий развития. В то время как, например, в эпоху реализма развитие искусства шло по линии все большего приближения изображения к действительности, сегодня односторонность такого развития может быть осознана. Реализм сегодня больше не выступает истинным принципом художественного изображения, но понимается как сумма приемов определенной эпохи. Целостность процесса развития искусства принимает ясные очертания лишь на стадии самокритики. Только когда искусство действительно целиком освободится от всякой связи с жизненной практикой, станут очевидны поступательное высвобождение искусства из контекстов жизненной практики и сопутствующее этому обособление специфической области опыта (эстетического) в качестве принципа развития искусства в буржуазном обществе.
На вопрос об исторических условиях возможности самокритики текст Маркса не дает прямого ответа. В нем прочитывается лишь общая мысль о том, что предпосылкой самокритики выступает полное выделение общественной формации или общественной подсистемы, на которую направлена критика. Если применить это общее положение к сфере истории, то предпосылкой самокритики буржуазного общества окажется возникновение пролетариата, поскольку становление этого класса позволяет осознать либерализм как идеологию. Предпосылкойсамокритики религии как общественной подсистемы выступает утрата легитимирующей функции религиозными картинами мира. Последние теряют свою общественную функцию по мере того, как при переходе от феодального общества к буржуазному на место картин мира, легитимирующих господство (к ним относятся и религиозные картины мира), приходит базисная идеология справедливого обмена. «Поскольку социальная власть капиталистов в форме личного трудового договора институционализируется как отношения обмена, а получение прибыли с находящейся в личном распоряжении прибавочной стоимости занимает место политической зависимости, рынок, вместе со своей кибернетической функцией, перенимает еще и идеологическую: классовые отношения могут принимать анонимный вид в форме неполитической зависимости от оплаты труда».10 Так как в основе буржуазного общества лежит центральная идеология, легитимирующие господство картины мира утрачивают свою функцию. Религия становится личным делом каждого, и одновременно становится возможной критика института религии.
Какие же исторические условия необходимы для возможности самокритики искусства как общественной подсистемы? Отвечая на этот вопрос, следует прежде всего остерегаться поспешно выстроенных взаимосвязей (типа кризис искусства — кризис буржуазного общества).11 Если придерживаться мысли об относительной самостоятельности общественных подсистем по отношению к развитию общества в целом, то нельзя полагать, будто кризисные явления, затрагивающие общество в целом, непременно спровоцируют кризис его подсистем, и наоборот. Чтобы постичь условия возможности самокритики искусства как подсистемы, необходимо выстроить историю этой подсистемы. При этом опять-таки нельзя в основупостигаемой истории искусства класть историю буржуазного общества. Такой подход лишь привязывает художественные объективации к стадиям развития буржуазного общества, которые считаются уже известными; так не достичь познания, потому что искомое (история искусства и его общественное влияние) уже полагается известным. История общества в целом предстает как бы смыслом истории подсистем. Напротив, надо настаивать на неодновременности развития отдельных подсистем. Однако это значит, что историю буржуазного общества можно писать лишь как синтез неодновременностей развития разных подсистем. Трудности, лежащие на пути такого предприятия, очевидны; они обозначены, чтобы пояснить, почему история искусства как подсистемы рассматривается здесь самостоятельно.
Для выстраивания истории искусства как подсистемы представляется необходимым различать между институтом искусства (работающим по принципу автономии) и содержанием конкретных произведений. Лишь такое различие позволяет осознать историю искусства в буржуазном обществе как историю снятия расхождения между институтом и содержанием. В буржуазном обществе (а точнее, еще до того, как буржуазия во время Великой французской революции захватила и политическую власть) искусство обретает особый статус, который точнее всего обозначается категорией автономии. «Автономное искусство устанавливается, лишь когда вместе с возникновением буржуазного общества экономическая и политическая системы отделяются от культурной, а традиционалистские картины мира, распространившиеся через базовую идеологию справедливого обмена, освобождают искусства от их ритуального применения».12 Следует подчеркнуть, что автономия здесь означает функциональный модус искусства как общественной подсистемы: его (относительную) независимость от притязаний на его общественное использование.13 Тем не менее не стоит забывать, что изолирование искусства от жизненной практики и сопутствующее этому выделение особой области опыта (эстетического) не протекают прямолинейно (существуют значительные встречные течения) и не могут интерпретироваться недиалектически (к примеру, как самореализация искусства). Напротив, следует заострить внимание на том, что автономный статус искусства в рамках буржуазного общества отнюдь не бесспорен, но представляет собой довольно проблематичный продукт общественного развития в целом. Общество (вернее, господствующий класс) вполне может подвергнуть его сомнению, как только ему покажется выгодным вновь поставить искусство себе на службу. Это доказывает не только крайний пример фашистской политики искусства, ликвидировавшей автономный статус, но и целый ряд судебных процессов против художников в связи с нарушениями норм морали и нравственности.14 От подобных нападок на автономный статус со стороны общественных инстанций следует отличать ту силу, которая исходит от материала отдельных произведений, проявляющего себя в целостности формы и содержания, и которая нацелена на преодоление дистанции между произведением и жизненной практикой. В буржуазном обществе искусство живет за счет напряжения между институциональными рамками (освобождение искусства от притязаний на его общественное применение) и возможным политическим содержимым отдельных произведений. Это напряжение вовсе не стабильно-напротив, оно, как мы увидим, подчиняется исторической динамике, стремящейся к его снятию.
Хабермас предпринял попытку определить «содержимое» всего искусства в буржуазном обществе. «Искусство — резервация для (пусть и виртуального) удовлетворения тех потребностей, которые в материальном жизненном процессе буржуазного общества становятся словно незаконными»(BewubtmachendeoderrettendeKritik, S. 192). К этим потребностям он среди прочего относит «миметическое обращение с природой», «солидарное сосуществование» и «счастье коммуникативного опыта, свободного от императивов целерациональности и оставляющего простор как для фантазии, так и для спонтанного поведения» (S. 192 f.). Такой подход, оправданный в рамках предложенного Хабермасом определения функции искусства в буржуазном обществе, в нашем случае был бы проблематичен, поскольку он не позволяет понять историческое развитие выраженных в произведениях содержаний. Мне кажется, необходимо различать между институциональным статусом искусства в буржуазном обществе (оторванность произведения искусства от жизненной практики) и реализованными в произведениях искусства содержаниями (таковыми могут, но не обязаны быть «остаточные потребности» в смысле Хабермаса). Потому что только такое различение позволит обнаружить эпоху, в которую возможна самокритика искусства. Лишь с помощью такого различения можно ответить на наш вопрос об исторических условиях возможности самокритики искусства.
В ответ на попытку разграничить формальную определенность искусства15 (автономный статус) и его содержательную определенность («содержимое» отдельных художественных произведений) можно было бы возразить, что и сам автономный статус должен пониматься содержательно, а изолированность от целерациональной организации буржуазного общества уже означает претензию на недопустимое в обществе счастье. В этом, несомненно, присутствует доля истины.
Формальная определенность не может не затрагивать содержание; независимость от претензий на непосредственную функциональность сообщается и явно консервативному по своему содержанию произведению. Но именно это должно побудить ученого проводить различие между автономным статусом, определяющим функционирование отдельного произведения, и содержанием отдельного произведения (или группы произведений). И contesВольтера, и стихотворения Малларме являются автономными художественными произведениями. Но в различных социальных контекстах и по определенным социально-историческим причинам возможности, которыми автономный статус наделяет произведение искусства, будут использоваться по-разному. Как показывает пример Вольтера, автономный статус ничуть не исключает наличия у художника политической позиции; что он все же ограничивает, так это возможность оказывать влияние.
Предложенное разделение между институтом искусства (функциональным модусом которого является автономия) и содержанием произведений позволяет ответить на вопрос об условиях возможности самокритики искусства как общественной подсистемы. Что касается сложного вопроса об историческом становлении института искусства, то достаточно заметить, что этот процесс завершается примерно тогда же, когда и борьба буржуазии за свою эмансипацию. Предпосылкой заложенных в эстетических теориях Канта и Шиллера взглядов выступает полное выделение искусства в особую область, свободную от жизненной практики. Стало быть, можно исходить из того, что самое позднее в конце XVIII века институт искусства целиком сформировался в описанном выше смысле. Тем не менее это не дает начало самокритике искусства. Младогегельянцы не принимают идею Гегеля о конце искусства.
Хабермас объясняетэто «особым положением, которое искусство занимает среди форм абсолютного духа, поскольку оно, в отличие от субъективированной религии и сциентизированной философии, не перенимает задач экономической и политической систем, но восполняет остаточные потребности, которые не удовлетворяются в „системе потребностей" буржуазного общества»(BewufitmachendeoderrettendeKritik, S. 193 f.). Я склонен полагать, что самокритика искусства пока еще не может сложиться по историческим причинам. Хотя институт автономного искусства полностью сформировался, в рамках него действуют содержания, носящие вполне политический характер и тем самым противоречащие принципу автономии этого института. Лишь в тот момент, когда и содержания утрачивают политический характер, а искусство желает быть лишь искусством, становится возможна самокритика искусства как общественной подсистемы. Этой стадии в конце XIX века достигает эстетизм.16
По причинам, связанным с развитием буржуазии после захвата политической власти, во второй половине XIX века напряжение между институциональными рамками и содержанием отдельных произведений начинает ослабевать. Изолированность от жизненной практики, которая и до того определяла институциональный статус искусства в буржуазном обществе, становится теперь содержанием произведений. Институциональные рамки и содержания совпадают. Реалистический роман XIX века еще служит самопониманию буржуа. Вымысел является средством рефлексии об отношении индивида к обществу. В эстетизме тематика утрачивает значение в пользу растущего внимания производителей искусства к самому средству, медиуму. Неудавшийся главный литературный проект Малларме, почти полная непродуктивность Валери на протяжении двадцати лет, «Письмо лорда Чандоса» Гофмансталя — все этосимптомы кризиса искусства.17 В момент, когда все «чуждое искусству» отбраковывается, оно становится проблематичным для самого себя. Совпадение института и содержаний делает социальную нефункциональность сущностью искусства в буржуазном обществе и тем самым дает основания самокритике искусства. Практическое осуществление самокритики — заслуга движений исторического авангарда.
3. К дискуссии о теории искусства Беньямина
Как известно, в тексте «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» Вальтер Беньямин,18 описывая решающие изменения, которые искусство претерпевает в первой четверти XX века, использует идею утраты ауры и пытается объяснить эту утрату через изменения в технике воспроизводства. В связи с этим следует разобраться, пригодно ли положение Беньямина для объяснения условий возможности самокритики, до сих пор выводимой из исторического развития сферы искусства (институт и содержание произведений). Согласно Беньямину, эти условия представляют собой непосредственный результат изменений в сфере производительных сил.
Беньямин исходит из определенного типа отношений между произведением и реципиентом, который он называет аурати- ческим.19 То, что Беньямин обозначает понятием ауры, проще всего перевести как «недоступность»: «уникальное ощущение дали, как бы близок при этом предмет ни был» (Произведение искусства, с. 198). Аура берет начало в культовом ритуале, но ауратическая рецепция остается, по Беньямину, характерной и для искусства, утратившего свою сакральность в эпоху Возрождения. Решающим для истории искусства Беньямину видитсяне разрыв между сакральным искусством Средневековья и профанным искусством Возрождения, но разрыв, возникающий с утратой ауры. Беньямин связывает его с изменениями техник воспроизводства. Ауратическая рецепция связана у него с категориями уникальности и подлинности. Именно они утрачивают свою силу в отношении искусства (например, кино), рассчитанного на воспроизводимость. Решающая мысль Беньямина заключается в том, что вместе с изменениями техник воспроизводства меняются и способы восприятия, но, кроме того, «изменился... и весь характер искусства» (Произведение искусства, с. 206). Характерное для буржуазного индивида созерцательное восприятие замещает массовая рецепция — рассеянная и вместе с тем рационально-испытующая. Место ритуального основания искусства занимает основание политическое.
Рассмотрим для начала беньяминовское построение развития искусства, а затем предложенную им материалистическую объяснительную схему. Эпоха сакрального искусства, когда оно вплеталось в церковный ритуал, и эпоха автономного искусства, которое возникает вместе с буржуазным обществом и отделяется от ритуала, формируя особый тип восприятия (эстетический), объединяются у Беньямина понятием «ауратического искусства». Однако предложенная тем самым историческая периодизация искусства проблематична по нескольким причинам. Для Беньямина ауратическое искусство связано с индивидуальной рецепцией (погружением в предмет). Но такая характеристика подходит лишь автономному, а не сакральному искусству Средневековья (как скульптуры на средневековых соборах, так и мистерии воспринимались коллективно). В беньяминов- ском построении истории отсутствует достигнутая буржуазией эмансипация искусства от сферы сакрального. Отчасти это может быть связано с тем, что вместе с движением VartpourUartи эстетизмом действительно происходит нечто вроде ресакрализации (или реритуализации) искусства, которая, однако, не имеет ничего общего с его изначальной сакральной функцией. Искусство здесь не включается в церковный ритуал, в котором получает свою потребительную стоимость; оно скорее порождает ритуал из самого себя. Вместо того чтобы включаться в сакральную сферу, искусство занимает место религии. Предпринятая в эстетизме ресакрализация искусства предполагает, таким образом, абсолютную эмансипацию искусства от сакрального и ни в коем случае не может приравниваться к сакральному характеру средневекового искусства.
Чтобы оценить беньяминовское материалистическое объяснение изменений в способе рецепции через изменения в техниках воспроизводства, важно отметить, что он намечает и другое объяснение, быть может, даже более убедительное. Художники авангарда, особенно дадаисты, поясняет Беньямин, еще до изобретения кино пытались добиться кинематографического эффекта средствами живописи (Произведение искусства, с. 223-225). «Возможности меркантильного использования своих произведений дадаисты придавали гораздо меньшее значение, чем исключению возможности использовать их как предмет благоговейного созерцания... Их стихотворения — это „словесный салат“, содержащий непристойные выражения и всякий словесный мусор, какой только можно вообразить. Не лучше и их картины, в которые они вставляли пуговицы и проездные билеты. Чего они достигали этими средствами, так это беспощадного уничтожения ауры творения, выжигая с помощью творческих методов на произведениях клеймо репродукции» (Произведение искусства, с. 224). Утрата ауры здесь связывается не с изменением в технике воспроизводства, но с интенцией производителя искусства. Изменение «характеравсего искусства» больше не является результатом технологических новшеств, но опосредовано осознанным поведением определенного поколения художников. Беньямин отводит дадаистам всего лишь роль предшественников; они создают «спрос», удовлетворить который может только новый технический медиум. Но здесь возникает затруднение: как объяснить эту преемственность? Иными словами: объяснение изменения в способе рецепции через изменение в технике воспроизводства приобретает иное значение; оно больше не может претендовать на разъяснение исторического процесса, будучи в лучшем случае гипотезой возможного обобщения определенного способа рецепции, которое первыми замыслили дадаисты. Трудно противиться впечатлению, будто впоследствии Беньямин хотел постфактум материалистически обосновать открытие, совершенное в результате анализа авангардистского искусства, — открытие утраты ауры произведения искусства. Но это начинание сомнительно, поскольку тогда решающий перелом в развитии искусства, который Беньямин схватывает во всей его исторической значимости, оказался бы результатом технологического изменения. Здесь устанавливается прямая связь между эмансипацией (или ее ожиданием) и техникой.20 Но хотя эмансипация является процессом, которому может способствовать развитие производительных сил в той мере, в которой они предоставляют пространство новых возможностей для удовлетворения человеческих потребностей, ее нельзя мыслить независимо от человеческого сознания. Эмансипация, проходящая естественным путем, была бы противоположностью эмансипации.
В сущности, Беньямин пытается перенести с общества в целом на частную область искусства положение Маркса, согласно которому развитие производительных сил подрывает производственные отношения.21 Следует задаться вопросом, не является ли этот перенос в конечном итоге чистой аналогией.
У Маркса понятие производительных сил обозначает технологический уровень развития определенного общества и охватывает как овеществленные в машинах средства производства, так и умения работников использовать эти средства. Можно ли из этого вывести понятие художественных производительных сил — вопрос спорный, потому что в сфере художественного производства было бы трудно объединить в одном понятии навыки и умения производителей и уровень развития материальных техник производства и воспроизводства. Художественное производство остается до сих пор разновидностью простого товарного производства (и это в позднекапиталистическом обществе), в котором материальные средства производства сравнительно мало влияют на качество изделия. Но они влияют на возможности его распространения и воздействия. Несомненно, с тех пор как появился кинематограф, техники распространения стали оказывать обратное воздействие на производство. Однако утверждающиеся вследствие этого в некоторых областях квазииндустриальные техники производства22 оказались вовсе не столь «подрывными» — напротив, содержание произведений целиком подчинилось погоне за прибылью, а критический потенциал произведений был упущен в пользу отработки потребительского поведения (вплоть до самых интимных межчеловеческих отношений).23
Брехт, «Трехгрошовый процесс» которого перекликается с теорией Беньямина об уничтожении ауратического искусства посредством новых техник воспроизводства, более осторожен в своих формулировках: «Эти аппараты как никакие другие могли бы пригодиться для преодоления старого нетехнического, антитехнического, связанного с религией „излучающего искусства"».24 В отличие от Беньямина, склонногоприписывать эмансипационные свойства новым техническим средствам (кино) как таковым, Брехт подчеркивает, что в технических средствах скрываются определенные возможности, но дает понять, что развитие этих возможностей зависит от способа их использования.
Если перенос понятия производительных сил из области общественного анализа в сферу искусства проблематичен по указанным выше причинам, то не менее затруднителен и перенос в сферу искусства понятия производственных отношений, хотя бы по той причине, что у Маркса оно относится к совокупности общественных отношений, регулирующих труд и распределение продуктов труда. Однако выше мы вводили понятие института искусства, обозначающее условия, при которых производится, распространяется и воспринимается искусство. В буржуазном обществе он характеризуется прежде всего тем, что продукты, функционирующие в рамках этого института, остаются (относительно) свободны от притязаний на их общественное использование. Заслуга Беньямина в том, что понятием ауры он охватил тот тип отношений между произведением и реципиентом, который складывается в искусстве как институте буржуазного общества, действующем по принципу автономии. Тем самым признаются две вещи: во-первых, произведения искусства воздействуют не сами по себе, но их воздействие, напротив, обусловлено институтом; во-вторых, способы рецепции следует укоренять в социальной истории (например, ауратический — в буржуазном индивиде). Беньямин открывает не что иное, как формальную определенность искусства (в марксистском смысле слова); здесь же кроется материализм его подхода. И напротив, теория, согласно которой техники воспроизводства разрушают ауратическое искусство, является псев- доматериалистической объяснительной моделью.
Наконец, пара слов о периодизации развития искусства. Выше мы критиковали беньяминовскую периодизацию, так как она сглаживает разрыв между средневековым сакральным и нововременным профанным искусством. Исходя из описанного Беньямином разрыва между ауратическим и неауратичес- ким искусством можно прийти к методологически важному выводу, что периодизацию развития искусства надлежит искать в области искусства как института, а не в сфере изменения содержаний отдельных произведений. Это предполагает, что периодизация истории искусства не может слепо повторять периодизацию истории общественных формаций и стадии их развития; напротив, наука о культуре должна ставить своей задачей выявление крупных переломов в развитии своего предмета — лишь так она может внести подлинный вклад в изучение истории буржуазного общества. Когда же история берется в качестве заранее известной системы координат для исторического изучения отдельных сфер общества, наука о культуре деградирует до процедуры подгонки. Подобный подход имеет малую познавательную ценность.
Обобщим: исторические условия возможности самокритики искусства как общественной подсистемы нельзя прояснить с помощью беньяминовской теории; скорее, их следует выводить из снятия конститутивного для искусства в буржуазном обществе напряжения между институтом искусства (автономный статус) и содержанием отдельных произведений. Важно при этом, чтобы искусство и общество не сополагались как две взаимоисключающих области. Ведь как (относительная) независимость искусства от претензий на его использование, так и развитие содержаний являются общественными явлениями (определенными развитием общества в целом).
Если здесь критикуется тезис Беньямина, согласно которому техническая воспроизводимость произведений искусства приводит к иному (неауратическому) способу восприятия, то это вовсе не значит, что я отрицаю значение развития техник воспроизводства. Мне кажется необходимым уточнить, что, во-первых, техническое развитие нельзя рассматривать как независимую переменную, потому что оно само зависит от совокупного общественного развития, во-вторых, нельзя сводить решающий перелом в развитии искусства в буржуазном обществе единственно к развитию технических методов воспроизводства. С учетом этих двух оговорок можно обобщить значение развития техники для развития изобразительного искусства следующим образом: с появлением фотографии и пришедшей с ней возможностью точного отображения действительности механическим путем приходит в упадок изобразительная функция искусства.25 Границы этой объяснительной модели становятся отчетливы, если осознать, что ее нельзя перенести на литературу, потому что в сфере литературы нет технической инновации, сопоставимой по своему воздействию с фотографией в сфере изобразительного искусства. Беньямин понимает возникновение UartpourUartкак реакцию на появление фотографии,26 но эта объяснительная модель, несомненно, притянута за уши. Теория UartpourUart— не просто реакция на новое средство воспроизводства (как бы сильно оно ни способствовало тенденции к полному обособлению изобразительного искусства), но ответ на тот факт, что в развитом буржуазном обществе произведения искусства склонны утрачивать свою общественную функцию. (Это развитие мы охарактеризовали как утрату политического содержания отдельных произведений.) Речь не идет о том, чтобы оспорить значение изменения техник воспроизводства для развитияискусства. Просто нельзя выводить второе из первого. Начавшееся в VartpourVartи завершившееся в эстетизме полное обособление искусства как подсистемы следует рассматривать в связи с характерной для буржуазного общества тенденцией к разделению труда. К тому же в полностью обособленной подсистеме «искусство» творчество перестает брать на себя общественные функции.
Пожалуй, с определенной уверенностью можно сказать лишь следующее: выделение искусства как общественной подсистемы в особую сферу следует логике развития буржуазного общества. По мере усиления разделения труда художник также превращается в специалиста. Этот процесс, достигший своего пика в эстетизме, адекватнее всего отразил Валери. В рамках общей тенденции ко все большей специализации необходимо признать взаимовлияние различных общественных подсистем. Так, развитие фотографии влияет на живопись (ослабление изобразительной функции). Но нельзя и переоценивать взаимовлияние общественных подсистем. Сколь бы важным оно ни было, особенно для объяснения неодновременного развития различных искусств, нельзя считать его «причиной» процесса, в ходе которого они обретают специфику. Этот процесс обусловлен совокупным общественным развитием, частью которого он является, и не может адекватно пониматься посредством причинно-следственной схемы.27
До сих пор мы рассматривали достигнутую авангардными движениями самокритику в связи с характерной для буржуазного общества тенденцией к разделению труда. Общественная тенденция к обособлению подсистем при одновременной специализации функций понимается как закон развития, которому подчиняется и сфера искусства. Это составляет объективную сторону процесса; однако необходимо также задаться вопросом, как процесс выделения отдельных подсистем общества осмысляется субъектами. Здесь, мне кажется, поможет понятие сокращения опыта. Если рассматривать опыт как переработанный пучок восприятий и рефлексий, которые можно вернуть в жизненную практику, то следствием выделения общественных подсистем, обусловленного возрастающим разделением труда, для субъекта будет сокращение опыта. Оно не подразумевает, что, став специалистом в отдельной области, субъект больше не воспринимает и не рефлексирует; в предлагаемом здесь смысле понятие означает, что «опыт», получаемый специалистом в конкретной области, уже не может быть переведен обратно в жизненную практику. Специфически эстетический опыт, который был в чистом виде развит в эстетизме, оказывается формой, в которой сокращение опыта (в вышеуказанном смысле) проявляется в сфере искусства. Иначе говоря, эстетический опыт представляет собой положительную сторону процесса выделения искусства как общественной подсистемы. Его отрицательной стороной является утрата художником всех социальных функций.
Пока искусство толкует действительность или идеалистически удовлетворяет остаточные потребности, оно, даже находясь в отрыве от жизненной практики, с ней все равно соотносится. Лишь в эстетизме обрывается существовавшая прежде связь с обществом. Разрыв с обществом (империализма) составляет ядро произведений эстетизма. Здесь кроется причина неоднократных попыток Адорно спасти эстетизм.28 Интенцию авангардистов можно определить как попытку направить сформированный эстетизмом эстетический опыт (противостоящий жизненной практике) в практику. То, что сильнее всего противоречит целерациональному порядку буржуазного общества, должно стать организующим началом жизни.
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 343; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
