О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)»
Из постановления ЦК ВКП(б)
II
1) Основным недостатком постановки партийной пропаганды является отсутствие необходимой централизации руководства партийной пропагандой и вытекающие отсюда кустарщина, неорганизованность в деле пропаганды.
Кустарничество и неорганизованность в области партийной пропаганды выразились, прежде всего в том, что партийные организации основной формой пропаганды избрали устную пропаганду через кружки, забывая, что кружковый метод пропаганды был свойственен преимущественно нелегальному периоду партии, в силу условий работы партии в то время, и что в условиях Советской власти и при наличии в руках большевистской партии такого мощного орудия пропаганды, как печать, созданы совершенно новые условия и возможности для неограниченного размаха пропаганды и для централизованного руководства ею...
...Необходимо разбить вредный предрассудок, будто учиться марксизму-ленинизму можно только в кружке, тогда как в действительности главным и основным способом изучения марксизма-ленинизма является самостоятельное чтение.
2) Одной из основных причин непомерного раздувания кружковой работы и устной пропаганды вообще, в ущерб пропаганде через печать, явился вредный разрыв в организации печатной и устной пропаганды, нашедший свое
выражение в раздельном существовании отделов пропаганды и отделов печати как в обкомах, крайкомах и ЦК нацкомпартий, так и в аппарате ЦК ВКП(б).
|
|
|
В пропаганде марксизма-ленинизма главным, решающим оружием должна являться печать – журналы, газеты, брошюры, а устная пропаганда должна занимать подсобное, вспомогательное место. Печать дает возможность ту или иную истину сразу сделать достоянием всех, она поэтому сильнее устной пропаганды. Расщепление же руководства пропагандой между двумя отделами привело к принижению роли печати в пропаганде марксизма-ленинизма и, тем самым, к сужению размаха большевистской пропаганды, к кустарничеству и неорганизованности.
Отделы партийной пропаганды и агитации, ограничив свою деятельность устной пропагандой, погнавшись за количеством кружков, не использовали для дела пропаганды партийную печать, и в результате лишили себя возможности руководить пропагандой по существу.
В свою очередь отделы печати, будучи лишены необходимых квалифицированных кадров пропагандистов, которые почти целиком ушли в устную пропаганду, оказались неспособными вести пропаганду марксизма-ленинизма через печать.
3) Важнейшим недостатком в деле партийной пропаганды является пренебрежение со стороны партийных организаций к делу политической подготовки, к делу марксистско-ленинской закалки наших кадров, нашей советской интеллигенции, – кадров партийных, комсомольских, советских, хозяйственных, кооперативных, торговых, профсоюзных, сельскохозяйственных, просвещенских, военных, то есть кадров партийного, государственного и колхозного аппарата, при помощи которых управляют рабочий класс и крестьянство Советской страной. Практика нашей партийной пропаганды, сосредоточившись на охвате, главным образом, рабочих от станка, упустила из виду командные кадры – нашу советскую, партийную и непартийную интеллигенцию, состоящую из вчерашних рабочих и крестьян.
|
|
|
«Краткий курс истории ВКП(б)» ставит одной из своих задач положить конец этому дикому, антиленинскому, пренебрежительному отношению к нашей, советской интеллигенции и к нуждам ее политического, ленинского воспитания...
III
ЦК ВКП(б) постановляет:
1.Считать неправильной практику погони за количественным охватом коммунистов кружками сети партпросвещения в ущерб качеству пропаганды, приводящую к дроблению сил и принижению уровня пропагандистской работы.
2.Обязать партийные организации ликвидировать организационное кустарничество в деле партийной пропаганды, установить необходимую централизацию в руководстве ею и перестроить организацию партийной пропаганды таким образом, чтобы обеспечить подъем ее качества, ее идейного уровня.
|
|
|
3. В основу пропаганды марксизма-ленинизма положить «Краткий курс истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)».
...16. В дополнение к системе политической переподготовки руководящих партийных кадров, установленной февральско-мартовским пленумом ЦК ВКП(б), провести следующие мероприятия по переподготовке и подготовке квалифицированных пропагандистских кадров партии:
а) Организовать годичные курсы переподготовки пропагандистов и газетных работников в следующих центрах: 1) Москва, 2) Ленинград, 3) Киев, 4) Минск, 5) Ростов, 6) Тбилиси, 7) Баку, 8) Ташкент, 9) Алма-Ата, 10) Новосибирск. Годичные курсы переподготовки пропагандистов, организованные в этих центрах, должны обслуживать не только данную область, край, но и смежные области, края, республики. Программа годичных курсов пропагандистов должна быть составлена применительно к программе «Ленинских курсов», а занятия должны быть построены так, чтобы развивать навыки пропагандистской работы и самостоятельного глубокого изучения произведений Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина.
|
|
|
Общий контингент слушателей всех годичных курсов переподготовки пропагандистов установить в количестве 1500– 2000 человек, с тем чтобы в этом составе примерно половину составляли газетные работники.
б) Организовать Высшую школу марксизма-ленинизма при ЦК
ВКП(б) с трехгодичным курсом для подготовки высококвалифицированных теоретических кадров партии.
17. Построить преподавание марксистско-ленинской теории в высших учебных заведениях на основе глубокого изучения «Краткого курса истории ВКП(б)». В связи с этим: а) Взамен самостоятельных курсов ленинизма, диалектического и исторического материализма, ввести в вузах единый курс «Основы марксизма-ленинизма», сохранив в учебном плане общее количество часов, отводившееся ранее на социально-экономические дисциплины. Преподавание основ марксистско-ленинской теории в вузах должно начинаться с изучения «Краткого курса истории ВКП(б)», с одновременным изучением первоисточников марксизма-ленинизма. Преподавание политической экономии должно проводиться после изучения «Истории ВКП(б)».
б) Вместо ныне существующих отдельных кафедр диалектического и исторического материализма, ленинизма и истории ВКП(б) создать в вузах единую кафедру марксизма-ленинизма.
в) В университетах и институтах, где имеются факультеты философские, исторические, литературные, сохранить на этих факультетах преподавание курса диалектического и исторического материализма.
г) Поручить Отделу пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и Всесоюзному комитету по делам высшей школы отобрать к началу учебного 1939–40 года руководителей кафедр марксизма-ленинизма и представить их на утверждение ЦК ВКП(б). Предложить ЦК нацкомпартий, крайкомам, обкомам и горкомам ВКП(б) отобрать теоретически подготовленных и политически проверенных преподавателей основ марксизма-ленинизма.
д) Организовать при Высшей школе марксизма-ленинизма шестимесячные курсы переподготовки преподавателей марксизма-ленинизма для вузов.
В целях коренного улучшения партийного руководства пропагандой марксизма-ленинизма, ЦК ВКП(б) постановляет:
18. Объединить отделы партийной пропаганды и агитации и отделы печати и издательств ЦК ВКП(б), ЦК нацкомпартий, крайкомов и обкомов ВКП(б) создав единые отделы пропаганды и агитации.
19. Сосредоточить в отделах пропаганды и агитации всю работу по печатной и устной пропаганде марксизма-ленинизма и массовой политической агитации (партийная пресса; издание пропагандистской и агитационной литературы; организация печатной и устной пропаганды марксизма-ленинизма; контроль за идейным содержанием пропагандистской работы; подбор и распределение пропагандистских кадров, политическая переподготовка и подготовка партийных кадров; организация массовой политической агитации).
В основу работы отделов пропаганды и агитации положить практическое проведение в жизнь настоящего решения ЦК ВКП(б).
14 ноября 1938 года
«КПСС в резолюциях и решениях», ч. II, стр. 859-875
А. Зорич [1889-1937]
Общий знакомый
...Значок с красной розеткой на груди – это только жетон общества по охране карася во внутренних водоемах, но выглядит, как орден, и можно лезть с передней площадки; кустики подстриженных усов на губе – как будто капнуло из носу и это так и оставили вместо того, чтобы вытереть платком; длинный ноготь на мизинце, которым попеременно ковыряются в зависимости от потребностей момента, то в зубах, то в ухе, то в носу; язык, засоренный всеми вульгаризмами псевдосоветского жаргона, всеми этими «пока», «от той мамы», «на ять», «на це», «с покрышкой», «с присыпкой», «с накладкой». Где только ни встретишь, где только ни увидишь и ни услышишь этого человека, этот сложный, модернизированный гибрид невежества, пошлости, лицемерия, мещанства, житейской ловкости и чудовищного себялюбия?
Вот он сидит в театре или на концерте – на концерте обязательно с закрытыми глазами, чтобы каждый видел, что он благоговеет. Как же – Лист, Чайковский, Бетховен! Он растроган, он парит в высотах, он потрясен. Но не верьте! Ничего он не потрясен, апросто, томясь от скуки, подсчитывает мысленно и на пальцах, сколько дано на базар и почему мало сдачи, а выйдя, обязательно скажет жене за вашей спиной, когда в ушах у вас и в сердце будет звучать еще трепетная мелодия:
- Да, прекрасно! Какая мощь, какая экспрессия, какая глубина! Но я хочу спросить, милая, вчера на обеде подавали потроха, и было пять пупков. Два мы
съели, а где же остальные три? Надо, милая, смотреть за Дашкой: она объедается, как на беконной фабрике...
Нигде он не парит, и если идет «Вишневый сад», и вы почувствуете, как защекочет у вас в горле, когда Фирс бросит свою потрясающую фразу: «Человека забыли!», он зевнет рядом, прикрыв рот программкой:
– Да, это – пьеса! Современным драматургам и не понять, пожалуй, как это можно: четыре акта и ни одного выстрела, и ни одного бранного слова. Ах, Чехов, Чехов, Антон Павлович! Какой талант! Хотя, с другой стороны, смотришь и думаешь: чего, собственно, люди тоскуют? Отчего страдают? Яички у них есть, говядина есть, в молоке хоть купайся... Чего же им еще надо?..
Ничего он не благоговеет и, придя домой, прямо после Бетховена поставит сейчас же «Гоп со смыком» и долго будет, наслаждаясь, причмокивать и подпевать: «Гоп со смыком, это буду я!» А потом оглядит стол, потрет руки и скажет: – Огурчики малосольные? О, це дило треба разжувати! Ударим, ударим по огурчикам!
Это тоже его любимое словечко: «ударим по бульончику», «ударим по фрикаделькам»... А ударивши, погладит живот, зевнет и скажет:
- Ну-с, а теперь и храповицкого задать можно.
И ляжет, и захрапит, но как захрапит! С присвистами, с руладами, с вариациями, как будто у него целый джаз в носоглотке разместился. И, если жене станет невыносимо и она растолкает его, удивится: «Милочка, но что же тут такого? Храпел даже Игорь Северянин».
А вот он ходит по выставке, завернув туда, потому что это делают все и не побывать неудобно, ходит и громко изливает свои чувства, и блещет вслух эрудицией знатока перед каждой картиной. Послушать его, так кажется, будто это, по крайней мере, Игорь Грабарь со значком карасиного ударника на груди. Но не верьте! О, да о чем бы ни зашла речь, у него всегда есть в запасе десяток готовых заученных общих фраз, которыми он прикрывает свое невежество, как фокусник прикрывает салфетками сосуд, чтобы скрыть его пустоту. Искусство? Как же, как же! Репин, например, – помните убийство царевича Ивана? Как гениально раскрыта драма личности! А Серов? Вот кто нашел настоящие краски в тоскливой русской природе! А Куинджи? Вот кто заставляет содрогаться перед лирическим пейзажем! Литература? Как же, как же, Фет, например: «Шопот, робкое дыханье, трели соловья...» Вот она, настоящая романтика бытия! Разве нынешние так пишут? Философия? Ах, как гениально сказал Розанов: «Я не ищу истины, я ищу покоя». О, это навсегда останется близко каждому во все эпохи...
Но на самом деле – какие там чувства, какая эрудиция! И перед картинами он стоит холодным, как поросячий студень, все это вычитано из справочника по Третьяковской галерее; и в действительности больше всего он любит цветную картинку из старой «Нивы» с надписью «Купающаяся нимфа» – берете в руки, имеете вещь. И в области философии он искренне убежден, что Розанов, который написал трактат о цели человеческой жизни, и Владимир Николаевич Розанов, который режет аппендициты, исправляет грыжи в Боткинской
больнице, – одно и то же лицо, и если что ему близко тут, так это единственно гоголевский философ Хома Брут, который никогда науками себя не изнурял, но преимущественно курил тютюн и ходил в гости к булочнице. И из всех писателей нынешних он не читал кроме Зощенки – как в бане у кого-то номерок с ноги сперли, а в кухне подрались из-за ежика и нервного инвалида стукнули по кумполу. По кумполу! Над этим он хохотал до упада, и это – единственный образ, который пленил его во всей современной литературе. Да, впрочем, и у Фета-то, кроме этих двух строк, он ничего не знает, старых не читал точно так же, как и новых, и его настоящий вкус – это книжечки, которые продавались раньше из-под полы на Петровке: «Что делает жена, когда мужа дома нема»...
Его невежество прямо поразительно для человека наших дней. Ведь это именно о нем рассказывают, что, когда в его присутствии прочли однажды из Пушкина: «Судите сами, какие розы нам заготовит Гименей» – речь зашла о том, кто же такой этот Гименей, он высказался, что, поскольку тот заготовляет розы, очевидно, это садовник из Лариных. И если имя нерусское как будто – так, очевидно, немца выписали. И это именно он ответил, когда у него спросили, почему пустыня Сахара называется Сахарой: – Наверно, там сахар делают.
— Да нет, там песок!
— Ну, а я разве сказал, что рафинад?
Он вездесущ, он настигает вас всюду, он неумолимо вторгается в поле вашего зрения, ваших мыслей, ваших чувств на каждом шагу, где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались.
Вот вы пришли утром на работу, вы развернули свежий газетный лист. Он уже ждет вас и говорит, жуя бутерброд с кетовой икрой: – Привет, привет. Ну, как жизнь молодая? Читали последнюю сводку о вспашке под зябь? Миллион гектаров! О, это увлекательно, как роман, это упоительно, как сказка! Новая деревня может волновать, как мечта!
Ведь он – сочувствующий, и это все должны знать, и он не упустит ни одного случая, когда это можно лишний раз подчеркнуть. Но, конечно, в своем сочувствии он напоминает того исторического исправника из Елабуги, который в дни Февральской революции послал телеграмму Родзянке: «Двадцать два года состоял скрытым республиканцем, честь имею в нынешние светлые дни поздравить ваше превосходительство». Он сочувствует, но попробуйте-ка отправить его в эту новую деревню, которая упоительна, как мечта! С каким бешенством встретит он это известие, посягающее на его покой, на его квартиру, на его плюшевый зеленый гарнитур «от той мамы», на его двуспальную довоенную никелевую кровать, на которой можно «задавать храповицкого». Как будет возмущаться и негодовать, как неистово будет шипеть:
- Но с какой стати! Но почему именно я? Но по какому праву?
Он поднимет на ноги всех и вся, целую неделю он без устали будет носиться по всем инстанциям, всем надоест, всех измучит, и конечно, в конце-концов его никуда не пошлют. О, он не из тех, которые поступаются собственным комфортом во имя торжества идей...
Или в какой-нибудь одуряющий весенний день вы выбрались посмотреть восход солнца на Воробьевы горы. Конечно, и он уже там – ведь солнце всходит здесь на большой с присыпкой. И в самую чудесную минуту, когда скользнут первые розовые лучи по застывшей воде и сверкнет первая росистая паутинка на ветвях деревьев, в самую замечательную минуту, когда у вас дрогнет от восторга и радости все существо, он громко скажет сбоку своей спутнице:
- Кр-расота, кто понимает! А вот нарисуй художник, никто и не
поверит. Вы любите природу?
Потом заложит уши ватой, чтобы не продуло ветром, и предложит пойти к сторожихе в лес, заказать молоко с коржами и яичницу-глазунью. Ударим по глазунье! И, уходя, непременно оставит на ближайшем дереве или скамейке имена для потомства. Не просто какая-нибудь Ольга Павловна или Павел Иванович, нет! Ему нравится, чтобы любимая называла его козлик или пусик, а сам он именует любимую – Люлю, птичка или киска. И напишет: «Люлю и козлик. Июнь 1934». Пусть весь свет знает, что он – романтик и весной наслаждается здесь лицезрением зари!
Или вы вышли погулять в парк – и вот он стоит с компанией где-нибудь в самом людном месте, у фонтана, и, щурясь, оттопырив губу и подрыгивая ногой, раздевает глазами каждую проходящую девушку. О, в своем мужском кругу и внутри себя он никогда не подумает и не скажет о женщине – умна она или глупа, добра или черства, развита или пустовата. Это для него и неважно, и неинтересно. Зато какие у нее ноги, грудь, спина, бедра, это разбирается, это смакуется, это обсуждается со всех сторон, как стать лошади, на которую делается ставка. Он твердо убежден, что нет женщины, от которой в течение недели нельзя было бы добиться взаимности и которая устояла бы перед парой шелковых чулок. И если ему сказать, что женщина, на которую он сощурился, – идеалистка, например, или ей противны пятиминутные адюльтеры, или она верна человеку, которого любит, он только пожмет плечами:
- Что же, если верна, тогда нужно две пары.
Его вкус – это, собственно, парикмахерские гризетки, у которых низкие лбы, шиньоны на висках, которые любят, чтобы мужчины смотрели на них бараньими, осоловелыми глазами, жали им ноги, одевая ботинки, и в патетические минуты говорят, закрывая глаза:
– Как ты красив, проклятый!..
Но это необязательно, и по злой иронии жизни и судьбы большей частью в орбиту его попадают женщины, которые в душевном смысле стоят на десять голов выше его.
Вот они встретились, познакомились, и уже через день он начинает говорить, что стосковался по жизненной красоте, по любви, которая полна духовной близости, и жаждет окунуться в нирвану и видеть небо в алмазах, а жена у него мещанка и, несмотря на все его усилия, не подымется выше интересов кухни и старого тряпья. Конечно, он врет! Какие там усилия, какая там нирвана! Достаточно послушать сцены, которыми сопровождает он каждую пережаренную котлету, каждый незаштопанный носок. Глаза у него делаются в эти
минуты круглые и злые, голос визгливый, и от волненья он свистит и шипит передним зубом:
– Кажется, я просил! Кажется, я заслуживаю! Или, вы думаете, я женился для того, чтобы наживать изжогу и ходить в носках без пяток?..
Потом, наскоро покончив с духовной нирваной, он переходит к делу и уже говорит волнующим, вкрадчивым шепотом, что в глазах ее есть что-то вакхическое и, когда он смотрит в них, у него начинает кружиться голова, уже философствует, что жизнь коротка и надо ловить мгновенья и уже цитирует с манерой скверного провинциала-любовника стишки: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать!» Но какая там дерзость! Да он, когда купается, сначала полчаса мочит подмышками, а, увидев в комнате мышь, вспрыгивает на диван или на стол. И голова у него не кружится, потому что слова эти он говорил уже десятки раз, и в эту минуту, наверно, обдумывает, где бы половчей достать боны, или соображает, что сказать жене, если откроется это очередное похождение. Впрочем, тут у него раз и навсегда установлен удобный стандарт, в котором он не трудится даже варьировать ни одной детали. – Но, милая, разве это важно? – говорит он каждый раз, уличенный в обмане. – Биологическое отправление и больше ничего. А сердце бьется в унисон только с твоим, а святая святых всегда будет только в тебе!
И если сказать ему, что так нельзя, что в это надо вкладывать душу, потому что иначе получается свинство, он только усмехается:
– Душа? Дорогой мой, а что есть душа? Пар, коллоидное вещество, и не больше. Об этом даже у Малашкина сказано...
Если стишки не помогают, срочно изменив тактику, он объявляет вдруг, что безумно хочет иметь ребенка. Дети – цветы бытия, дети – это наше будущее, и, боже мой, всю жизнь он мечтал иметь
ребенка! О, он хорошо знает эту струну в душе женщины, на которой можно играть! Но вот это случается, его случайная подруга расскажет ему и вдруг увидит с отчаянием, рухнув сразу с алмазного неба в грязь, как растерянно и блудливо забегают у него глаза, ей станет сразу холодно, и все опустится внутри...
- Да, – скажет он, – конечно... но, знаете ли, нынешние условия... Теснота, шесть долгих и двадцать два коротких, пеленки по талонам дают... Пожалуй, мы и не подумали в те чарующие минуты... Я рад, я растроган, это – мечта всей моей жизни, но имеем ли мы право быть эгоистами? Но будет ли счастливо это дитя, которое я уже люблю?
И опять он врет, потому что у него не шесть долгих и двадцать два коротких, а прекрасная квартира в Арбатском переулке, и не пеленки по талонам, но отличный распределитель с грушами и сигаретками на витрине. Почему, за что, как это удается устраивать? Он ничем не заслужил этого, он не несет никакой большой работы, он не нуждается в этом по здоровью и не имеет на это никаких прав, но у него всегда есть все, что обеспечивает покой, удобства, комфорт. О, это поразительное искусство брать от жизни все, ничего не отдавая взамен!
О, это удивительное уменье нырять мгновенно в каждую щель, которая хоть на миг откроется глазам!
Этот человек не упустит нигде и ничего, за что можно ухватиться и что может обеспечить лишнюю крупицу благополучия в жизни. Даже пяти минут времени в очереди, сквозь которую он всегда лезет вперед, жонглируя своим карасиным значком, даже место в трамвае, которое предназначено для инвалидов и в которое он врастает мгновенно, точно припаянный оловом.
- Уступите, гражданин, больному. Ведь человек на костылях. – Ну, знаете, у меня у самого мозоли.
И не уступит, и еще попросит не толкать костылями, и будет сидеть так, с видом человека, для которого единственно и создан мир, пока не доедет до службы, до кино, до магазина, до стадиона, до одного из тысячи мест, где каждый видит изо дня в день эту мелькающую фигуру...
Ибо он – везде, втираясь ужом, он проникает частицами своей поганой философии и своего морального уродства во все поры нашей жизни, оскверняя дыханием старого все, к чему бы он ни прикоснулся. И, сталкиваясь с ним, хочется сдернуть мишуру его внешних покровов и на глазах у всех посветить ему, по выражению Гейне, в лицо: «Смотрите, он каков, пошляк и шельма наших дней!»...
Известия. 1934. 24 мая
И.А. Ильф [1887-1937], Е.П. Петров [1882-1942]
Как создавался Робинзон
В редакции иллюстрированного двухдекадника «Приключенческое дело» ощущалась нехватка художественных произведений, способных приковать внимание молодежного читателя.
Были кое-какие произведения, но все не то. Слишком много было в них слюнявой серьезности. Сказать правду, они омрачали душу молодежного читателя, не приковывали. А редактору хотелось именно приковать.
В конце концов решили заказать роман с продолжением.
Редакционный скороход помчался с повесткой к писателю Мол-даванцеву, и уже на другой день Молдаванцев сидел на купеческом диване в кабинете редактора.
—Вы понимаете, – втолковывал редактор, – это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо. Так, чтобы читатель не мог оторваться.
—Робинзон – это можно, – кратко сказал писатель.
—Только не просто Робинзон, а советский Робинзон.
—Какой же еще! Не румынский!
Писатель был неразговорчив. Сразу было видно, что это человек дела.
И действительно, роман поспел к условленному сроку. Молдаванцев не
слишком отклонился от великого подлинника. Робинзон так Робинзон.
Советский юноша терпит кораблекрушение. Волна выносит его на необитаемый остров. Он один, беззащитный, перед лицом могучей природы. Его окружают опасности: звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия, казавшиеся непреодолимыми. И через три года советская экспедиция находит его, находит в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик, окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугая будить себя по утрам словами: «Внимание! Сбросьте одеяло, сбросьте одеяло! Начинаем утреннюю гимнастику!»...
– Очень хорошо, – сказал редактор, – а про кроликов просто великолепно. Вполне своевременно. Но, вы знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения.
- Борьба человека с природой, – с обычной краткостью сообщил Молдаванцев.
—Да, но нет ничего советского.
—А попугай? Ведь он у меня заменяет радио. Опытный передатчик.
—Попугай – это хорошо. И кольцо огородов хорошо. Но не чувствуется советской общественности. Где, например, местком? Руководящая роль профсоюза?
Молдаванцев вдруг заволновался. Как только он почувствовал, что роман могут не взять, неразговорчивость его мигом исчезла. Он стал красноречив.
—Откуда же местком? Ведь остров необитаемый?
—Да, совершенно верно, необитаемый. Но местком должен быть. Я не художник слова, но на вашем месте я бы ввел. Как советский элемент.
—Но ведь весь сюжет построен на том, что остров необита...
Тут Молдаванцев случайно посмотрел в глаза редактора и запнулся. Глаза были такие весенние, такая там чувствовалась мартовская пустота и синева, что он решил пойти на компромисс.
—А ведь вы правы, – сказал он, подымая палец. – Конечно. Как это я сразу не сообразил? Спасаются от кораблекрушения двое: наш Робинзон и председатель месткома.
—И еще два освобожденных члена, – холодно сказал редактор.
—Ой! – пискнул Молдаванцев.
—Ничего не ой. Два освобожденных, ну и одна активистка, сборщица членских взносов.
- Зачем же еще сборщица? У кого она будет собирать членские взносы?
—А у Робинзона.
—У Робинзона может собирать взносы председатель. Ничего
ему не сделается.
—Вот тут вы ошибаетесь, товарищ Молдаванцев. Это абсолютно
недопустимо. Председатель месткома не должен размениваться на
мелочи и бегать собирать взносы. Мы боремся с этим. Он должен
заниматься серьезной руководящей работой.
—Тогда можно и сборщицу, – покорился Молдаванцев. – Это
даже хорошо. Она выйдет замуж за председателя или за того же
Робинзона. Все-таки веселей будет читать.
—Не стоит. Не скатывайтесь в бульварщину, в нездоровую эротику. Пусть она себе собирает свои членские взносы и хранит их в несгораемом шкафу.
Молдаванцев заерзал на диване.
- Позвольте, несгораемый шкаф не может быть на необитаемом острове!
Редактор призадумался.
– Стойте, стойте, – сказал он, – у вас там в первой главе есть чудесное место. Вместе с Робинзоном и членами месткома волна выбрасывает на берег разные вещи.
– Топор, карабин, бусоль, бочку рома и бутылку с противоцинготным средством, – торжественно перечислил писатель.
– Ром вычеркните, – быстро сказал редактор, – и потом, что это за бутылка с противоцинготным средством? Кому это нужно? Лучше бутылку чернил! И обязательно несгораемый шкаф.
- Дался вам этот шкаф! Членские взносы можно отлично хранить в дупле баобаба. Кто их там украдет?
- Как кто? А Робинзон? А председатель месткома? А освобожденные члены? А лавочная комиссия?
– Разве она тоже спаслась? – трусливо спросил Молдаванцев.
– Спаслась. Наступило молчание.
– Не-пре-мен-но! Надо же создать людям условия для работы. Ну,
там графин с водой, колокольчик, скатерть. Скатерть пусть волна выбросит какую угодно. Можно красную, можно зеленую. Я не стесняю удожественного творчества. Но вот, голубчик, что нужно сделать в первую очередь – это показать массу. Широкие слои трудящихся.
- Волна не может выбросить массу, – заупрямился Молдаванцев. – Это идет вразрез с сюжетом. Подумайте! Волна вдруг выбрасывает на берег несколько десятков тысяч человек! Ведь это курам на смех.
—Кстати, небольшое количество здорового, бодрого, жизнерадостного смеха, – вставил редактор, – никогда не помешает.
—Нет! Волна этого не может сделать.
- Почему волна? – Удивился вдруг редактор.
—А как же иначе масса попадет на остров? Ведь остров не
обитаемый?!
—Кто вам сказал, что он необитаемый? Вы меня что-то путаете.
Все ясно. Существует остров, лучше даже полуостров. Так оно спокойнее. И там происходит ряд занимательных, свежих, интересных приключений. Ведется профработа, иногда недостаточно ведется. Активистка вскрывает ряд неполадок, ну хоть бы в области собирания членских взносов. Ей помогают широкие слои. И раскаявшийся председатель. Под конец можно дать общее собрание.
Это получится очень эффективно именно в художественном отношении. Ну, и все.
—А Робинзон? – пролепетал Молдаванцев.
—Да. Хорошо, что вы мне напомнили. Робинзон меня смущает.
Выбросьте его совсем. Нелепая, ничем не оправданная фигура нытика.
- Теперь все понятно, сказал Молдаванцев гробовым голосом, - завтра будет готово.
- Ну, всего. Творите. Кстати, у вас в начале романа происходит кораблекрушение. Знаете, не надо кораблекрушения. Пусть будет без кораблекрушения. Так будет занимательней. Правильно? Ну и хорошо. Будьте здоровы!
Оставшись один, редактор радостно засмеялся.
- Наконец-то, – сказал он, – у меня будет настоящее приключенческое и притом вполне художественное произведение.
Правда. 1932. 27 октября
Равнодушие
В том, что здесь будет рассказано, главное – это случай, происшедший на рассвете.
Дело вот в чем.
Молодые люди полюбили друг друга, поженились, говоря высокопарно – сочетались браком. Надо заметить, что свадьбы – вообще нередкое явление в нашей старане. Сплошь и рядом наблюдается, что люди вступают в брак, и дружеский обмен мнений, а равно звон стопочек на свадьбах затягиваются далеко за полночь.
В изящной литературе эти факты почему-то замалчиваются. Будущий исследователь, может быть, никогда и не узнает, как объяснялись в любви в 1932 году. Было ли это как при царском режиме («шепот, робкое дыханье, трели соловья») или как-нибудь иначе, без соловья и вообще без участия пернатых. Нет о любви сведений ни в суперпроблемных романах, написанных, как видно, специально для потомства, ибо современники читать их не могут, ни в эстрадных номерах, сочиненных по бригадно-лабораторному методу ГОМЭЦа.
Разговор о любви возвращает нас к случаю на рассвете.
В семье художника ожидали ребенка. Роды начались немного раньше, чем предсказывали акушеры. Это бывает почти всегда. Начались они в самое неудобное время – в конце ночи. Это тоже бывает всегда. Все шло стремительно. Родовые схватки возникали через каждые десять минут. Жену надо было немедленно везти в родильный дом. Первая мысль была о такси.
А телефона в квартире не было. Свою биографию художник мог бы начать фразой, полной глубокого содержания: «Я родился в 1901 году. Телефона у меня до сих пор нет». Эта спартанская краткость дает возможность пропустить длительные описания того, как художник подавал заявления в абонементное бюро, подговаривал знакомых, интриговал и ничего не добился.
Итак, на рассвете он ворвался в чужую квартиру и припал к телефонной трубке. Он много читал о ночных такси, которые являются по первому зову желающего, а номер гаража – 42–21 – художник знал на память уже три месяца. Он был предусмотрителен. Он учел все.
Но из гаража мягко ответили, что машин нет. Ночные такси свою работу уже закончили, а дневные еще не начинали.
– Но у меня жена, роды
- С десяти часов, гражданин.
А было семь.
«Скорая помощь» на такие случаи не выезжает. Художник это знал. Он все знал. И тем не менее ему было очень плохо. Он побежал на улицу.
Натурально, никаких приборов для передвижения в этот час утра столица предоставить не могла. Трамваи еще только вытягивались из депо (к тому же трамвай никак сейчас не годился), а извозчиков просто не было. Где-то они, вероятно, толпились у вокзалов, размахивая ручищами и пугая приезжих сообщениями о цене на овес.
Художник оторопел.
И вдруг – радость сверх меры, счастье без конца – машина, и в ней два добрых шофера. Они благожелательно выслушали лепет художника и согласились отвезти его жену в родильный дом.
С великими предосторожностями роженицу свели с четвертого этажа вниз и усадили в машину. Художник очень радовался. В памяти помимо воли всплывали какие-то прошлые прописи: «Свет не без добрых людей», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» и, совсем уже не известно почему: «Терпенье и труд все перетрут». Машина тронулась. Теперь все должно было пойти хорошо. Но все пошло плохо.
Автомобиль пробежал десять метров и остановился. Заглох мотор.
И такое дьявольское невезение! До родильного дома всего только пять минут езды. Но было видно по шоферам, которые начинали злиться, что они потеряли власть над машиной, что она пойдет не скоро. А у жены схватки возникали уже через каждые две минуты. Ждать было бессмысленно. Художник выскочил из автомобиля и снова побежал. От Кропоткинских ворот он бежал до самого Арбата. Извозчиков он не встретил, но по Арбату машины проходили довольно часто.
Что же вам сказать, товарищи, друзья и братья? Он остановил больше пятидесяти автомобилей, но никто не согласился ему помочь. Событие это настолько мрачное и прискорбное, что не нуждается ни в подчеркивании, ни в выделении курсивом. Ни один из ехавших в тот час по Арбату не согласился уклониться в сторону на несколько минут, чтобы помочь женщине, рожающей на улице.
Сначала художник стеснялся. Он бежал рядом с машиной, объяснял на ходу свое горе, но его даже не слушали, не останавливались, хотя видели, что человек чем-то чрезвычайно взволнован.
Тогда он стал действовать решительней. Ведь уходило время. Он сошел на мостовую и загородил дорогу зеленому форду. Сидел в нем человек, довольно обыкновенный и даже не со злым лицом. Он выслушал художника и сказал:
- Не имею права. Как это я вдруг повезу частное лицо? Тратить казенный бензин на частное лицо!
Художник стал что-то бормотать о деньгах. Человек с незлым лицом рассердился и уехал.
Бежало по улице полуразвалившееся такси. Шофер попытался обогнуть бросившегося навстречу художника, но художник вскочил на подножку, и весь последовавший затем разговор велся на ходу.
В такси ехала веселая компания. Людей там было много – четверо с девушкой в купе (один – на чужих коленях), а шестой рядом с шофером (он-то и оказался потом главная сволочь). На молодых долдонах были толстые, как валенки, мягкие шляпы. Девушка, болтушка-лепетушка, часто, не затягиваясь, дымила папироской. Им было очень весело, но как только они услышали просьбу художника, все сразу поскучнели и отвечали противными трамвайными голосами. Но от просителя было нелегко отделаться.
- Ну что вам стоит, – говорил он, – ведь вы не очень торопитесь! Ведь такой случай.
—То есть как – что нам стоит? – возражали из машины. – Почему ж это мы не торопимся?
—Но ведь вам не на вокзал. Пожалуйста!
—Вам пожалуйста, другому пожалуйста, а мы два часа такси искали.
—На десять минут! Через десять минут я вам доставлю машину назад.
Долдоны упорно говорили, что они никак не могут и что лучше их даже не просить.
– Подумайте, она каждую минуту может родить!
—Ей-богу, он нас считает за пижонов! Что это такое, в самом
деле? Уже в такси толкаться начинают!
—В конце концов я могу требовать! – настаивал художник.
- Ну, это уже нахальство, – заметила болтушка-лепетушка. Тогда обернулся молчавший до сих пор шестой, тот, который сидел рядом с шофером. Он задрожал от гнева.
- Хулиган! – завизжал он на всю улицу. - Сойдите с подножки, я вам говорю. Он еще будет требовать, мерзавец!
И он высунулся из машины, чтобы сбросить художника на ходу.
Машина завернула на Смоленский рынок, грозя завести художника черт знает куда, и он соскочил.
Ах, как хотелось драться, поносить долдонов различными благородными словами! Но было некогда.
Он увидел машину, остановившуюся у обочины. Счастливый отец высаживал на тротуар жену и двоих детей. Художник бросился к нему.
Надо сказать, что по природе своей он был человек не застенчивый, скорее даже натура драматическая. Он умел убеждать и волновать. И сейчас он без
стеснения заговорил так называемыми жалкими словами, которые вызывают слезы в театре и которыми так стыдно пользоваться в быту.
– Вы – отец, – говорил он, – вы меня поймете. У вас у самого маленькие дети. Вы счастливы, помогите мне!
В театре счастливый отец заплакал бы. Но здесь поблизости не было занавеса с белой чайкой, не было седых капельдинеров. И он ответил:
—Товарищ, мне некогда. Я опоздаю на службу.
—Я заклинаю вас, – молил художник, понимаете, заклинаю! Во имя...
—Товарищ, я все понимаю, но у меня нет ни одной минуты свободного времени. Позвольте мне войти в машину.
—Ну, хорошо, – сказал несчастный, перейдя почему-то на шепот: – Ну, если река и тонет человек, что вы сделаете?
- Товарищ, я так занят, что два года не был в кино, даже «Путевки в жизнь» не видел, а вы... буквально нет ни одной минуты.
Художник опять остался один. Снова он бежал за кем-то, прижимая руки к груди и бормоча:
– Русским языком заклинаю вас!
Снова он вскакивал на подножки автомобилей, упрашивал, предлагал деньги, произносил речи, грозил или плакал, и – вы знаете - это не подействовало. Оказалось, что все очень заняты делами, не терпящими отлагательства. И машины катились одна за другой, и не было в эту минуту силы, которая могла бы их свернуть с предначертанного пути.
Ленин, погруженный в работу, громадную, неизмеримую, находил время, чтобы узнать, как живут не только его ближайшие товарищи, но и люди, которых он видел мельком, несколько лет назад, – не нужно ли им чего-нибудь, здоровы ли они, не мешает ли им кто-нибудь работать и жить.
А у этих пятидесяти человек, которые, конечно, считают себя исправными жителями социалистической страны, не нашлось ни времени, ни желания, чтобы выполнить первейшую обязанность члена коллектива и гражданина Советского Союза – броситься на помощь.
Это не изящный вымысел писателя, а история, происшедшая этим летом в Москве.
Как жалко, что номера машин остались неизвестными, что нельзя уже собрать всех этих безумно занятых людей, собрать в Колонном зале Дома союзов, чтобы судить их всей страной с прожекторами, микрофонами-усилителями, с громовой речью прокурора, судить как отчаянных врагов социалистического общества за великое преступление – равнодушие[128].
О равнодушие! С ним всегда встречаешься неожиданно. Созидательный порыв, которым охвачена Советская страна, заслоняет его. Равнодушие тонет в большой океанской волне социалистического творчества. Равнодушие – явление маленькое, но подлое. И оно кусается.
Был дом, счастливый дом, семьдесят две квартиры, семьдесят две входных двери, семьдесят два американских замка. Утром жильцы уходили на работу, вечером возвращались. Летом уезжали на дачи, а осенью приезжали назад.
Ничто не предвещало грозы. О кражах даже не думали. В газетах отдел происшествий упразднен, очевидно за непригодностью уголовной тематики. Возможно, что какое-нибудь статистическое ведомство и выводит раз в год кривую краж, указывающую на рост или падение шнифа и домушничества, но граждане об этом ничего не знают. Не знали об этом и жильцы счастливого дома в семьдесят две квартиры, запертые семьюдесятью двумя массивными американскими замками – производство какой-то провинциальной трудовой артели. Отправляясь в свои предприятия и учреждения, жильцы беззаботно покидали квартиры.
Сперва обокрали квартиру номер восемь. Унесли все, кроме мебели и газового счетчика. Потом обокрали квартиру номер шестьдесят три. Тут захватили и счетчик. Кроме того, варварски поломали любимый фикус. Дом задрожал от страха. Кинулись проверять псевдоамериканские замки, изготовленные трудолюбивой артелью. И выяснилось. Замки открываются не только ключом, но и головной шпилькой, перочинным ножиком, пером «рондо», обыкновенным пером, зубочисткой, ногтем, спичкой, примусной иголкой, углом членского билета, запонкой от воротничка, пилкой для ногтей, ключом от будильника, яичной скорлупой и многими другими товарами ширпотреба. К вечеру установили, что если дверь просто толкнуть, то она тоже открывается.
Пришлось завести семьдесят третий замок. Это был человек-замок, гражданин пятидесяти восьми лет, сторож по имени Евдоким Колонныч. Парадные подъезды заколотили наглухо. И сидит теперь старик Колонныч при воротах, грозя очами каждому, кто выходит из дома с вещами в руках. И платится Колоннычу жалованье. И уже закупается Колоннычу на особые фонды громаднейший тулуп для зимней спячки. И все же дом в страхе. И непрерывно в доме клянут ту буйную артель, которая бросила на рынок свое странное изделие.
А ведь артель знает, что ее продукция отмыкается и пером «рондо», и простым пером, и вообще любой пластиночкой. И работники прилавка знают. И начальники торгсектора в курсе. И все-таки идет бойкая торговля никому не нужным миражным замком – продуктом полного равнодушия.
Чья равнодушная рука забросила в ялтинские книжные магазины одни лишь медицинские труды, так что на благовонных крымских берегах духовная пища состоит исключительно из сумрачной изложения основ гистологии, детального описания суставного ревматизма, золотухи, язвы желудка и стригущего лишая?
Иногда в трамвае, пересекающем Свердловскую площадь, остолбенелому
взору потомственного почетного горожанина предстает отечески увещевающий картонный плакат:
Коль свинью ты вдруг забил,
Шкурку сдать ты не забыл?
За нее, уверен будь,
Ты получишь что-нибудь!
В проникновенном куплете, изготовленном по бригадно-лабораторному методу ГОМЭЦа, вам, московские трамвайные пассажиры, предлагают сдавать свиные шкуры.
Хорошо, посмотри. В вагоне двадцать восемь мест для сиденья, шесть мест на задней площадке, разговаривать с вагоновожатым воспрещается, пройдите вперед, там совсем свободно, итого, следовательно, двести сорок пять человек в различных прихотливых позах. Кто ж из них мог бы вдруг забить свинью?
Вот этот, в парадной толстовке, читающий журнал «Рабис»? Или маляр с кистью, закутанной в газетную бумагу? Или две девочки, напуганные отчаянно пихающимися взрослыми дядями и тетями? Или сами дяди и тети, уже начавшие извечную склоку насчет того, кто ходит в шляпе, кто «дурак» и кто «сама дура»?
Товарищи, друзья и братья! Разве похож московский трамвайный пассажир на свинодержателя или поросятовладельца? Не относится ли плакат скорее к деревне? Чья же равнодушная лапа наводнила им шумную столицу?
Это все тот же человек из ведомости, безразличный ко всему на свете, пугающийся даже мысли о том, что можно потратить поллитра казенного бензина, чтобы спасти женщину, рожающую на улице. Его кислая одышка слышится рядом с молодым дыханием людей, строящих мир заново.
Так открывается вдруг цепочка унылых людей, работающих только для видимости, комариная прослойка граждан, связанных с коллективом исключительно ведомостью на жалованье.
Человек из ведомости хитер. Если спросить его, почему он так равнодушен ко всему на свете, он сейчас же подведет под свое равнодушие каменную идеологическую базу. Он скажет преданным голосом:
- Это все мелочи – замочки, детки, всякая ерунда. Надо смотреть шире, глубже, дальше, принципиальнее. Я люблю класс, весь класс в целом, а не каждого его представителя в отдельности. Интересы отдельных единиц не поколеблют весов истории.
Вот маска человека из комариной прослойки. На деле он любит только самого себя (и ближайших родственников – не дальше второго колена).
По своей толстовочной внешности и подозрительно новеньким документам он – строитель социализма (хоть сейчас к фотографу!), а по внутренней сущности – мещанин, себялюбец и собственник.
Правда. 1932. 1 декабря
М.Е. Кольцов [1898-1942]
К вопросу о тупоумии
В небольших комнатах правления Еланского потребительского общества бурлила деловая суета. Входная дверь оглушительно хлопала, впуская и выпуская посетителей с брезентовыми портфелями. В прихожей четвертый раз разогревали чайник для руководящего персонала.
Ответственный кооператор товарищ Воробьев высунулся из кабинета в канцелярию.
- Как же с телеграфной директивой? Уже который день собираемся спустить ее в низовую сеть. Дайте текст на подпись.
Ему принесли листочек с текстом. В конце директивы бодро синели мужественные слова: «...усильте заготовку».
– А номер? Директиву без номера спускать не приходится.
Листок порхнул в регистратуру и вернулся с мощным солидным номером. «...усильте заготовку 13 530».
Воробьев обмакнул перышко, строго посмотрел на лишнюю каплю чернил и, презрительно стряхнув ее, поставил подпись вслед за номером.
Директиву спустили. Она скользнула по телеграфным проводам, потом ее повезли со станции нарочные по селам.
Нарочные мерзли, они кутали сизые носы в пахучие овчины, директиве было тепло, она лежала глубоко за пазухой у нарочных.
Уполномоченный районного потребительского общества в Ионово-Ежовке расправил телеграфный бланк и звонко до конца прочел уполномоченному райисполкома приказание высшего кооперативного центра:
- «...усильте заготовку 13 530 воробьев». Понял?
- Понял. Только в конце не расслышал. Чего там усилить заготовку?
- Сказано – тринадцать тысяч пятьсот тридцать штук. Понял?
- Так-так-так-так-так... Ясно. И много их, воробьев, надо заготовить?
- Сказано – тринадцать тысяч пятьсот тридцать штук. Понял?
– Так-так-так-так! Ясно, ясно. А подпись чья?
- Подписи нет. Да и к чему подпись? Дело простое: усилить заготовку тринадцати с половиной тысяч воробьев. Придется, дорогой товарищ, это дельце спешно провернуть. Вызывай председателя.
Ионово-ежовский председатель, осведомившись о полученной директиве, нахмурился, но не сплоховал. Он сказал прямо и открыто, что заготовка воробьев для ионово-ежевцев дело новое. Всякое заготовляли, но чего не заготовляли, того не заготовляли. Воробьев не заготовляли. Однако заготовить можно, ионово-ежовцы не подкачают. Дело провернуть можно, надо только поднять дух, воодушевить массу.
Председатель совета, совместно с двумя районными уполномоченными – исполкомским и кооперативным, устроил заседание актива. Перед активом были сделаны доклады о последних директивах по заготовке воробьев.
Далее последовало общегражданское собрание всей Ионово-Ежовки. Часть единоличников, вначале сильно встревоженная, узнав, что дело идет только о воробьях, пришла в приподнятое и даже веселое настроение. Один из граждан выразил это даже в виде краткой речи, под легкий смех в зале:
- Чего-чего, а воробьев заготовим. Воробьев нам не жалко. Смех показался президиуму подозрительным. Председатель собрания наставительно и сурово сказал:
– То-то же!
Дальше работа шла как по маслу. Население подошло к заготовке воробьев поистине как к важнейшей ударной и срочной кампании. Распоряжением местных властей были привлечены к работе не только взрослые, но и дети.
В целях успешного выполнения контрольного задания заготовка проходила не только днем, но и ночью. При фонарях.
В самый разгар воробьиных заготовок в Ионово-Ежовку приехали по другим делам районный прокурор Карлов, народный судья Семеркин, представитель районной милиции Дзюбин, бригада райисполкома по обследованию местной работы. Ежовцев они нашли в больших заботах.
– Немножко невпопад вы приехали. У нас сейчас воробзаготовки.
- Чего?
- Заготовки воробьев. Ну и цифру вы там в районе нам вкатили. Тринадцать с половиной тысяч! Не знаем, как и вылезем. Хорошо еще, население проявляет активность.
Районные вожди ничего не слышали насчет воробьев. Но каждый из них в отдельности не счел нужным показывать свою оторванность от текущих политико-хозяйственных задач. Каждый смолчал. А кое-кто даже проявил отзывчивость:
– Вы себе заготовляйте, а мы пока будем тут сидеть, тоже поможем, чем сможем.
Присутствие гостей из района внесло особый подъем в заготовительную работу. Кто-то приехал из соседнего села, из Александровки. Там тоже получили директиву из Елани, тоже приступили к заготовкам, но обратились в центр с ходатайством снизить контрольную цифру. Ежовцы торжествовали:
- Забили мы Александровку! В бутылку загнали! Отстали александровцы к чертям собачьим. А мы, еще того гляди, перевыполним задание!
Потом произошло бедствие. В амбар, где содержались две тысячи живых заготовленных воробьев, проникли кошки и съели двести штук.
По этому поводу был созван особый митинг протеста. На митинге уполномоченный райисполкома, зловеще поблескивая очками, сказал:
- Тот факт, что кошки съели двести воробьев, мы рассматриваем как вредительство, как срыв боевого задания государства. За это мы будем кого следует судить. Но при этом мы должны на действия кошек ответить усиленной заготовкой воробьев.
Возник еще ряд острых проблем. Для выяснения их инструктор потребительского общества товарищ Енакиева срочно выехала в Елань.
Она, Енакиева, явившись в район, в правление, заявила: - По линии заготовки воробьев я приняла на себя личное руководство. Заготовка проходит в общем и целом удовлетворительно. Но имеются неразрешенные вопросы, по каковым я сюда специально и приехала. Во-первых, крестьяне интересуются, какие заготовительные цены, а нам, кооператорам, цены неизвестны. Во-вторых, узким местом является отсутствие тары. Кстати, важно выяснить и такой вопрос: в каком виде заготовлять воробьев. Живых или битых? Надо бы поделиться опытом других организаций. Мы, например, производим в настоящее время заготовку живьем. Для чего разбрасываем просо, как приманку, а также в качестве приманки разбрасываем кучками хворост на гумнах... По получении нами заготовительных цен, равно тары, заготовка, безусловно, пойдет более интенсивным порядком. Необходимо также выяснить...
Докладом товарища Енакиевой и последовавшим затем скандалом заканчивается история о воробьиных заготовках. Ей, этой районной истории об идиотски понятой и головотяпски выполненной телеграфной директиве, не следовало бы придавать серьезного значения. Ведь в ней ничего нет, кроме безобидного тупоумия.
Но пора же наконец вступить всерьез в борьбу и с этим милым качеством! Можно ли вообще говорить о тупоумии как о безобидном, природном, «объективном» качестве?
Партия очень ценит, очень дорожит дисциплиной при выполнении ее заданий. И именно поэтому надо рубить на части тех, кто, спекулируя, злоупотребляя этой дисциплиной, переводит выполнение в издевательство, беспрекословность – в солдафонство.
При воробьиных заготовках на селе присутствовали работники из района – прокурор, судья, начальник милиции. Кто поверит, что эти уважаемые лица, нет, не лица, а рожи, сочли заготовку воробьев нормальным делом?.. Нет! Каждый из них мысленно изумлялся балагану с воробьями. Но каждый молчал.
Мы сейчас перебираем сверху донизу советскую и кооперативную систему. Выбрасываем гнилое, чужое, вредное. Не недоделать исключений для людей, изображающих из себя дурачков. Таких «наивных», как те, что заготовляли воробьев, можно воспитывать только в одном месте. В тюрьме...
Правда. 1931. 18 января
Похвала скромности
Будто бы в городе Казани, на Проломной улице, жили по соседству четверо портных.
Заказчиков мало было, конкуренция злая. И, чтобы возвыситься над соперниками, портной Махоткин написал на вывеске: «Исполнитель мужских и дамских фасонов, первый в городе Казани».
А тогда другой взял да изобразил: «Мастер Эдуард Вайнштейн, всероссийский закройщик по самым дешевым ценам».
Пришлось третьему взять еще тоном выше. Заказал огромное художественное полотно из жести с роскошными фигурами кавалеров и дам: «Всемирно известный профессор Ибрагимов по последнему крику Европы и Африки».
Что же четвертому осталось? Четвертый перехитрил всех. На его вывеске было обозначено кратко: «Аркадий Корнейчук, лучший партной на етай улицы».
И публика, как утверждает эта старая-престарая история, публика повалила к четвертому портному.
И, исходя из здравого смысла, была права...
Бывает, идет по улице крепкий, храбрый боевой полк. Впереди полка – командир. Впереди командира – оркестр. Впереди оркестра – барабанщик. А впереди барабанщика, со страстным визгом, - босоногий мальчишка; и из штанишек сзади торчит у него белый клок рубашки.
Мальчишка – впереди всех. Попробуйте оспорить.
С огромным разбегом и напором, собрав крепкие мускулы, сжав зубы, сосредоточив физические и моральные силы, наша страна, такая отсталая раньше, рванулась вперед и держит курс на первое место в мире, на первое место во всех отраслях – в производстве, потреблении, в благосостоянии и здоровье людей, в культуре, в науке, в искусстве, в спорте.
Курс взят наверняка. Дано направление без неизвестных. Социалистический строй, отсутствие эксплуатации, огромный народный доход через плановое хозяйство и прежде всего сам обладатель этого дохода, полный мощи и энергии советский народ, его партия, его молодежь, его передовики-стахановцы, его армия, его вера в себя и в свое будущее – что может устоять перед всем этим?
Но хотя исход соревнования предрешен, само оно, соревнование, не шуточное. Борьба трудна, усилий нужно много, снисхождения, поблажек нам не окажут никаких – да и к чертям поблажки. Пусть спор решат факты, как они решали до сих пор.
Оттого досадно, оттого зло берет, когда к боевому маршу примешивается мальчишечий визг, когда в огневую атаку путается трескотня пугачей.
Куда ни глянь, куда ни повернись, кого ни послушай, кто бы что бы ни делал, – все делают только лучшее в мире.
Лучшие в мире архитекторы строят лучшие в мире дома. Лучшие в мире сапожники шьют лучшие в мире сапоги. Лучшие в мире поэты пишут лучшие в мире стихи. Лучшие актеры играют в лучших пьесах, а лучшие часовщики выпускают первые в мире часы.
Уже самое выражение «лучшие в мире» стало неотъемлемым в словесном ассортименте каждого болтуна на любую тему, о любой отрасли работы, каждого партийного аллилуйщика, каждого профсоюзного Балалайкина. Без «лучшего в мире» они слова не скажут, хотя бы речь шла о сборе пустых бутылок или налоге на собак.
Недавно мы посетили библиотеку в одном из районов Москвы. Там было сравнительно чисто прибрано, хорошо проветрено. Мы похвалили также вежливое обращение с посетителями. Отзыв не произвел особого впечатления на заведующую. Она с достоинством ответила:
– Да, конечно... Это ведь лучшая в мире по постановке работы. У нас тут иностранки были, сами заявляли.
Этой струе самохвальства и зазнайства мало кто противодействует. А многие даже поощряют. Особенно печать. Описывают вещи и явления или черной, или золотой краской. Или магазин плох – значит, он совсем никуда не годится, заведующий пьяница, продавцы воры, товар дрянь, или магазин хорош – тогда он лучший в мире, и нигде, ни в Европе, ни в Америке, нет и не будет подобного ему.
Еще предприятие не пущено в ход, еще гостиница не открыта, и дом не построен, и фильм не показан, а бойкие воробьи уже чирикают на газетных ветках:
— Новые бани будут оборудованы по новому усовершенствованному принципу инженера Ватрушкина, а именно: будут обладать как холодной, так и горячей водой. Впервые вводится обслуживание каждого посетителя индивидуальной простыней. Впервые в мире будут радиофицированы и телефонизированы парильные отделения, благодаря чему моющийся сможет тут же на полке прослушать курс гигиены, навести по телефону любую справку или подписаться на любой журнал.
— В смысле постановки дела гостиница равняется на лучшие образцы американских отелей, хотя во многом будет их превосходить. Каждая комната в гостинице снабжается индивидуальным ключом. Каждый жилец сможет вызвать по телефону такси. Пользуясь почтовым ящиком, специально установленным на здании гостиницы, проживающие смогут отправлять письма в любой пункт как СССР, так и за границу.
— По производству ходиков советские часовые фабрики прочно удерживают первое место в мире.
- После окраски фасадов и установки дуговых фонарей Петровка может стать в первом ряду красивейших улиц мира, оставив за собой Унтер ден Линден, Бродвей, Елисейские поля и Нанкин-род.
И принимая у себя репортера, киномастер в шикарных бриджах цвета птичьего гуано рокочет уверенным басом:
- Наша первая в мире кинематография в лице своих лучших ведущих представителей готовится дать новые великие фильмы. В частности, лично я напряженно думаю над сценарием для своей ближайшей эпопеи. Сюжет еще не найден. Но ясно одно: по своей новизне этот сюжет не будет иметь прецедентов. Не определились также место съемок и состав актеров; но уже имеется договоренность: район съемок будет самым живописным в мире, а актерская игра оставит за собой все, что мы имели до сих пор в данном столетии...
Если какой-нибудь директор небольшого гиганта по утюжке штанов отстал от жизни и недогадлив, тот же репортер, как дрессировщик в цирке, умело равняет его на искомую терминологию.
– Реконструкция брючных складок производится у вас по методу «экспресс»?
- Безусловно. А то как же. Как есть чистый экспресс.
– Любопытно... Чикаго на Плющихе... Растем, нагоняем... А это что? Там, на табуретке?
- Это? Да как будто газета, «Вечерочка».
– Н-да, маленькая читальня для удобства ожидающих... Ловко! И цветочек рядом в горшке. Небольшая, уютно озелененная читальня дает назидательный урок американским магнатам утюга, как надо обслуживать выросшие потребности трудящегося и его конечностей... Ведь так?
- Безусловно. А то как же.
Эта глупая трескотня из пугачей особенно обидна потому, что тут же рядом идет подлинная борьба за мировое первенство, и оно подлинно достигается на подлинных цифрах и фактах.
Ведь это факт, что наша страна стала первой в мире по производству тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. По синтетическому каучуку, по сахару, по торфу, по многим другим материалам и машинам. Не смешно ли рядом с этим хвалиться первым местом по выпуску ходиков?
Мы вышли на второе место в мире по чугуну, по золоту, по рыбе.
Сосредоточив все мысли своей молодой головы, Ботвинник добился первого места на международном шахматном турнире. Но место пришлось поделить с чехословаком. А все-таки Ботвинник собирает силы, готовит новые битвы за международное, за мировое первенство.
Наши рабочие парни-футболисты пошли в бой с лучшей буржуазной командой Франции. Пока проиграли – факт. Но проиграли более чем прилично. Мы верим, что скоро отыграются. Но и это будет признано только на основе неумолимого факта же: цифры на доске футбольного поля должны будут показать это, и никто другой.
Парашютисты Советского Союза держат мировое первенство своей ни с чем не сравнимой храбростью. Три молодых героя побили рекорд подъема на стратостате, но заплатили за это своими жизнями, – разве не оскорблением их памяти звучат зазнайство и похвальба людей, зря, без проверки присваивающих своей работе наименование «лучшей в мире»!
А проверку мирового качества надо начинать со своей же собственной улицы.
Московское метро, по признанию всех авторитетов, несравнимо лучше всех метро на земном шаре. Но оно и само по себе хорошо, здесь, в Москве, для жителей своих же московских улиц. Москвич усомнился бы в мировых качествах своего метрополитена, если ему, москвичу, езда в метро доставляла бы мучение.
Вот представим себе такую картину.
Часовой магазин. Входит покупатель, по виду иностранец, солидный, важный, строгий. Требует карманные часы. Только получше.
- Вам марки «Омега» прикажете? Прекрасные часы, старая швейцарская фирма.
—Знаю. Нет. Что-нибудь получше.
—Тогда «Лонжин»?
—Лучше.
—Что же тогда? Может быть, Мозера, последние модели?
—Нет. Лучше. У вас ваших московских, «Точмех», нет?
—Есть, конечно. Но ведь очень дороги.
—Пусть дороги, зато уж на всю жизнь. Все эти швейцарские
луковицы я и у себя могу достать. А вот из Москвы хочу вывезти
настоящий «Точмех»...
Мы ждем, что эта волшебная картина скоро станет четким фактом. А пока не стала – будем, среди прочего, крепко держать первое место по скромности.
Правда. 1936. 10 февраля
Ф.Ф. Раскольников
Открытое письмо Сталину
Я правду о тебе...
Порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи.
Сталин, Вы объявили меня «вне закона». Этим актом Вы уравняли меня в правах – точнее в бесправии со всеми советскими гражданами, которые под Вашим владычеством живут вне закона.
Со своей стороны отвечаю Вам полной взаимностью: возвращаю Вам входной билет в построенное Вами «царство социализма» и порываю с Вашим режимом.
Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол Вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата.
Вам не поможет, если награжденный орденом уважаемый революционер-народоволец Н.А. Морозов подтвердит, что именно за такой «социализм» он провел 20 лет своей жизни под сводами Шлиссельбургской крепости.
Стихийный рост недовольства рабочих, крестьян, интеллигенции властно требовал крутого политического маневра, наподобие ленинского перехода к нэпу в 1921 году. Под напором советского народа Вы «даровали» демократическую конституцию. Она принята была всей страной с неподдельным энтузиазмом.
Честное проведение в жизнь демократических принципов конституции 1936 года, воплотившей надежды и чаяния всего народа, ознаменовало бы новый этап расширения советской демократии.
Но в Вашем понимании всякий политический маневр – синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку. Что вы сделали с конституцией, Сталин?
Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего Вашей личной власти, Вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, а выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями Вы бесшумно уничтожаете «зафинтивших» депутатов, насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, что хозяин земли советской не Верховный Совет, а Вы. Вы сделали все, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того, чтобы пойти по линии намеченного конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором. Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом Вашей личной диктатуры, Вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдет под именем «эпохи террора».
Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виновный, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза – все в равной мере подвержены ударам Вашего бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели. Как во время извержения вулкана огромные глыбы с треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так целые пласты советского общества срываются и падают в пропасть.
Вы начали кровавые расправы с бывших троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев, потом перешли к истреблению старых большевиков, затем уничтожили партийные и беспартийные кадры, выросшие в гражданской войне и вынесшие на своих плечах строительство первых пятилеток, и организовали избиение комсомола.
Вы прикрываетесь лозунгом борьбы с «Троцкистско-бухарински-ми шпионами», но власть в Ваших руках не со вчерашнего дня. Никто не мог «пробраться» на ответственный пост без Вашего разрешения. Кто насаждал так называемых «врагов народа» на самые ответственные посты государства? – Иосиф Сталин.
Кто внедрял так называемых «вредителей» во все поры советского и партийного аппарата?
– Иосиф Сталин.
Прочитайте старые протоколы Политбюро: они пестрят назначениями и перемещениями только одних «троцкистско-бухаринских шпионов», «вредителей» и «диверсантов», а под ними красуется подпись: И. Сталин.
Вы притворяетесь доверчивым простофилей, которого годами водили за нос какие-то карнавальные чудовища в масках.
– Ищите и обрящете козлов отпущения, – шепчете Вы своим
приближенным и нагружаете пойманные, обреченные на заклание
жертвы своими собственными грехами.
Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может бросить Вам в лицо правду.
Волны самокритики «не взирая на лица» почтительно замирают у подножия Вашего пьедестала.
Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь!
Но советский народ отлично знает, что за все отвечаете Вы, «кузнец всеобщего счастья».
С помощью грязных подлогов Вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения знакомые Вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.
Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, что М. Горький умер естественной смертью и Троцкий не сбрасывал поезда под откос.
Зная, что все это ложь, Вы поощряете своих клевретов:
- Клевещите, клевещите, от клеветы всегда что-нибудь останется.
Как Вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. И сейчас я не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой. Принципиально расходясь с Троцким, я считаю его честным революционером. Я не верю и никогда не поверю в его сговор с Гитлером и Гессом.
Вы – повар, готовящий острые блюда: для нормального человеческого желудка они несъедобны.
Над гробом Ленина Вы произнесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить, как зеницу ока, единство партии. Клятвопреступник, Вы нарушили и это завещание Ленина.
Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др., невиновность которых Вам была хорошо известна. Перед смертью Вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы.
А где герои Октябрьской революции? Где Бубнов? Где Крыленко? Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко? Вы расстреляли их, Сталин. Где старая гвардия? Ее нет в живых. Вы расстреляли ее, Сталин.
Вы растлили и загадили души Ваших соратников. Вы заставили идущих за Вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.
В лживой истории партии, написанной под Вашим руководством, Вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных Вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги.
Вы уничтожили партию Ленина и на ее костях построили новую «партию Ленина–Сталина», которая служит удачным прикрытием Вашего единовластия.
Вы создали ее не на базе общей программы и тактики, как строится всякая партия, а на безыдейной основе личной любви и преданности Вам. Знание программы новой партии объявлено необязательным для ее членов, но зато обязательна любовь к Сталину, ежедневно подогреваемая печатью. Признание партийной программы заменяется объяснением в любви к Сталину.
Вы – ренегат, порвавший со своим вчерашним днем, предавший дело Ленина. Вы торжественно провозгласили лозунг выдвижения новых кадров. Но сколько этих молодых выдвиженцев уже гниет в Ваших казематах? Сколько из них Вы расстреляли, Сталин? С жестокостью садиста Вы избиваете кадры, полезные и нужные стране. Они кажутся Вам опасными с точки зрения Вашей личной диктатуры.
Накануне войны Вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войны, во главе с блестящим маршалом Тухачевским.
Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову военной техники и сделали ее непобедимой.
В момент величайшей военной опасности Вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров.
Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров? Вы арестовали их, Сталин.
Для успокоения взволнованных умов Вы обманываете страну, что ослабленная арестами и казнями Красная Армия стала еще сильнее.
Зная, что закон военной науки требует единоначалия в армии от главнокомандующего до взводного командира, Вы воскресили институт политических комиссаров, который возник на заре Красной Армии и Красного Флота, когда у нас еще не было своих командиров, а над военными специалистами старой армии нужен был политический контроль.
Не доверяя красным командирам, Вы вносите в армию двоевластие и разрушаете воинскую дисциплину.
Под нажимом советского народа Вы лицемерно воскрешаете культ исторических русских героев: Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут Вам больше, чем казненные маршалы и генералы.
Пользуясь тем, что Вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и японская разведка с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной Вами воде, в изобилии подбрасывают Вам подложные документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей.
В созданной Вами гнилой атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщего сыска и всемогущества Народного комиссариата внутренних дел, которому Вы отдали на растерзание Красную Армию и всю страну, любому перехваченному документу верят – или притворяются, что верят, – как неоспоримому доказательству.
Подсовывая агентам Ежова фальшивые документы, компрометирующие честных работников миссии, «внутренняя линия РОВСа»[129] в лице капитана Фосса добилась разгрома нашего полпредства в Болгарии от шофера М.И. Казакова до военного атташе В.Т. Сухорукова.
Вы уничтожаете одно за другим важнейшие завоевания Октября. Под видом борьбы с текучестью рабочей силы Вы отменили свободу труда, закабалили советских рабочих и прикрепили их к фабрикам и заводам. Вы разрушили хозяйственный организм страны, дезорганизовали промышленность и транспорт, подорвали авторитет директора, инженера и мастера, сопровождая бесконечную чехарду смещений и назначений арестами и травлей инженеров, директоров и рабочих как «скрытых, еще не разоблаченных вредителей».
Сделав невозможной нормальную работу, Вы под видом борьбы с «прогулами» и «опозданиями» трудящихся заставляете их работать бичами и скорпионами жестких антипролетарских декретов.
Ваши бесчеловечные репрессии делают нетерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и выгоняют с квартиры.
Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тягость напряженного труда и недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров. Он верил, что Вы ведете к социализму, но Вы обманули его доверие. Он надеялся, что с победой социализма в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о великом братстве людей, всем будет житься радостно и легко.
Вы отняли даже эту надежду. Вы объявили социализм построенным до конца. И рабочие с недоумением, шепотом спрашивали друг друга: «Если это социализм, то за что боролись, товарищи?»...
Извращая теорию Ленина об отмирании государства, как извратили всю теорию марксизма-ленинизма, Вы устами ваших безграмотных доморощенных «теоретиков», занявших вакантные места Бухарина, Каменева и Луначарского, обещаете даже при коммунизме сохранить власть ГПУ.
Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. Под видом борьбы с «разбазариванием колхозной земли» Вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Организатор голода, грубостью и жестокостью неразборчивых методов, отличающих Вашу тактику, Вы сделали все, чтобы дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации.
Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», Вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовство запуганной Вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра,
критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом.
Вы душите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь Вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливым однообразием воспевает Вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность».
Бездарные графоманы славословят Вас, как полубога, рожденного от Луны и Солнца, Вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести.
Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично Вам неугодных писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что была женой Сокольникова?
Вы арестовали их, Сталин.
Вслед за Гитлером Вы воскресили средневековое сжигание книг.
Я видел своими глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащих немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии, то в 1937 году в полученном мною списке обреченной огню запретной литературы я нашел мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году». Против фамилии многих авторов значилось: «Уничтожить все книги, брошюры и портреты».
Вы лишили советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа становится невозможной.
Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать ученым в университетах, лабораториях и институтах.
Выдающихся русских ученых с мировым именем академиков Ипатьева и Чичибабина Вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для Вашего режима факт, что лучшие ученые бегут от Вашего рая, оставляя Вам Ваши благодеяния: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в Совнаркомовской столовой.
Вы истребляете талантливых русских ученых...
Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин.
Нет области, нет уголка, где можно спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссер, выдающийся деятель искусства Всеволод Мейерхольд не занимался политикой. Но Вы арестовали Мейерхольда, Сталин.
Зная, что при нашей бедности с кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, Вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили Дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел.
Уничтожая везде и повсюду золотой фонд страны, ее молодые кадры, Вы истребили во цвете лет талантливых и многообещающих Дипломатов.
В грозный час военной опасности, когда острие фашизма направлено против Советского Союза, когда война за Данциг и война в Китае – лишь подготовка плацдарма для будущей интервенции против СССР, когда главный объект германо-японской агрессии – наша Родина, когда единственная возможность предотвращения войны – открытое вступление Союза Советов в Международный блок демократических государств, скорейшее заключение военного и политического союза с Англией и Францией, Вы колеблетесь, выжидаете и качаетесь, как маятник между «осями».
Во всех расчетах Вашей внешней и внутренней политики Вы исходите не из любви к Родине, которая Вам чужда, а из животного страха потерять личную власть. Ваша беспринципная диктатура, как гнилая колода, лежит поперек дороги нашей страны. «Отец народов», Вы предали побежденных испанских революционеров, бросили их на произвол судьбы и предоставили заботу о них другим государствам. Великодушное спасение жизни не вВаших принципах. Горе побежденным! Они Вам больше не нужны.
Еврейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, Вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними двери нашей страны, которая на своих огромных просторах может приютить многие тысячи эмигрантов.
Как все советские патриоты, я работал, на многое закрывая глаза. Я слишком долго молчал. Мне было трудно рвать последние связи не с Вами, не с Вашим обреченным режимом, а с остатками старой ленинской партии, в которой я пробыл без малого 30 лет, а Вы разгромили ее в три года. Мне было мучительно больно лишаться моей Родины.
Чем дальше, тем больше интересы Вашей личной диктатуры вступают в непрерывный конфликт и с интересами рабочих, крестьян, интеллигенции, с интересами всей страны, над которой Вы измываетесь как тиран, добравшийся до единоличной власти.
Ваша социальная база суживается с каждым днем. В судорожных поисках опоры Вы лицемерно расточаете комплименты «беспартийным большевикам», создаете одну за другой привилегированные группы, осыпаете их милостями, кормите подачками, но не в состоянии гарантировать новым «калифам на час» не только их привилегии, но даже право на жизнь.
Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго.
Бесконечен список Ваших преступлений. Бесконечен список имен Ваших жертв! Нет возможности все перечислить.
Рано или поздно советский народ посадит Вас на скамью подсудимых, как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных процессов.
17 августа 1939 года
Неделя. 1988. № 26
Глава IV
ЖУРНАЛИСТИКА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
[1941-1345 В8.]
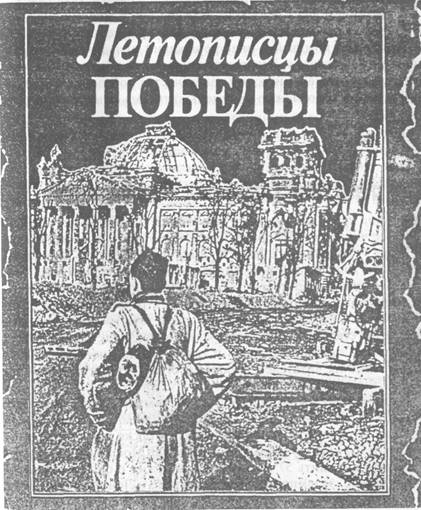
Великая Отечественная война явилась самым трудным испытанием для Советского государства. С первых дней она стала всенародной борьбой за свободу и независимость нашего народа, который и внес решающий вклад в разгром фашистских агрессоров. Длившаяся почти четыре года война увенчалась величайшей в истории человечества победой, в достижении которой невозможно приуменьшить роль советской журналистики.
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 580; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
