КОЗИМО РАЙМОНДИ ЛОРЕНЦО ВАЛЛА НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ МАРСИЛИО ФИЧИНО 14 страница
==109
призван был подчиниться даже папа. Можно сказать, что в этот ранний период Николай отдаленно предвосхищал лютеровские принципы, опережая их почти на век. Однако он эволюционировал в направлении, противоположном будущей Реформации: убедившись на Соборе, что церкви грозит раскол, он безоговорочно встал на сторону папской партии и, благодаря характерной для него энергичной сосредоточенности и дару слова, много сделал, чтобы склонить на тот же путь все немецкое духовенство. Как и вначале, им руководила полуутопическая цель религиозного и социального единства Европы и всего человечества, однако личность папы воплощала для него теперь ту таинственную центральную точку, откуда он ожидал стройного развертывания и освящения духовного и всякого другого вселенского порядка—в полном согласии с развитыми в «Науке незнания» мыслями о первенстве всесодержащего единства над обреченным на неполноту множеством. Эти идеалы он отстаивал всю жизнь в сочинениях (среди них «Согласие веры», проект объединения всех вероисповеданий, «Разбор Корана», выявление общих черт магометанства и христианства в видах их интеграции) и в неустанной деятельности на авансцене европейской политики в качестве кардинала (с 1448), легата по Германии, а в последние 6 лет жизни—первого заместителя и ближайшего советника папы Пия II (известного гуманиста Энея Сильвио Пикколомини). Он также ездил с многочисленными миссиями, работал над социальными реформами и городским благоустройством в Риме, Орвьето, создал приют для престарелых в Кузе.
|
|
|
Николай Кузанский знал схоластику, был близок к немецкой мистике (Мейстер Экхарт), усвоил философию античности и эллинизма (неоплатонизм), изучал восточных отцов церкви, профессионально владел математикой и астрономией. Однако ввиду интенсивной церковной и политической деятельности его философские произведения писались как бы порывами и по наитию. Самыми плодотворными периодами были 1440 год («Наука незнания»), 1445—1447 гг. («Богосыновство», «Искание Бога», «Дар Отца светов», «О становлении»), 1450 год (диалоги «Простец о мудрости», «Простец об уме», «Простец об опытах с весами»), 1458—1460 годы («Берилл», о философском методе, «Возможность-бытие») и особенно последний год жизни («Игра в шар», «Компендий», «Охота за мудростью», «Вершина созерцания»). Многие работы создавались в один присест, за день; только «Предположения» (1441—1444) писались долго, но, по-видимому, с перерывами.
Не изменяя традиции католического богословия, Николай Кузанский в то же время принадлежит уже будущей немецкой классической философии. Он предвосхищает Лейбница широтой занятий, интересом к математике и семиотике, идеей равного онтологического достоинства всех вещей в мире; Канта—развернутой в «Науке незнания» (II книга) системой космологических антиномий; Гегеля—триадным расположением мирового сущего; Гуссерля и Хайдеггера—учением о человеческой вселенной как априорной цельности. Непосредственным образом Николай Кузанский повлиял на эстетические построения Луки Пачоли и Леона Альберти,
|
|
|
К оглавлению
==110
натурфилософию Джордано Бруно, который с энтузиастическим восторгом ставил его «выше Пифагора, Коперника и Аристотеля»; трактат Мирандолы «О достоинстве человека» опирается на III книгу «Науки незнания».
В основе мироощущения философа стоит божественное бытиепотенция (posse-est), а именно такая абсолютная возможность всего, которая парадоксальным образом есть вместе и абсолютная действительность. Об этом всеобщем источнике и его творчестве можно что бы то ни было высказать только в виде тоже творческих «предположений», или «догадок» (coniectura), потому что безграничность его проявлений все равно рано или поздно опровергнет любое частное утверждение, превзойдет любое определение: он просто «все может». Мир—его произведение («Наука незнания», II, 13), и, согласно одному сравнению Николая Кузанского, как текст Аристотеля длинен и сложно-подробен только для того, чтобы можно было лучше понять единый замысел автора, так и во всем многообразии мира нет ничего, кроме осуществления творческого замысла создателя («Вершина созерцания», 5—6). Личная потенция творца выступает как «форма форм», потому что образует образ любой конкретной вещи. Почему вещи именно таковы и так разнообразны—это творческая тайна, которую нельзя разгадать, но к которой человек может приобщиться, если сам поднимется к творчеству. Благодаря повсеместности формы форм, «точнейшей меры» всякой вещи, мир не тонет в хаосе бесконечной пестроты, все скреплено через свой источник единой гармонией. Каждый индивид существует постольку, поскольку достигает в себе единства, связности цельного образа. Но всякий другой индивид тоже цельный образ, поэтому индивиды при всем несходстве равны в своем бытийном начале и соединены в вечности этим равенством. Они разобщены, несоизмеримы и взаимно непонятны только до тех пор, пока в них не просветлилась бытийная форма. Согласно Аристотелю (Poet. 4, 1448b 12-19), «подражания» доставляют нам удовольствие, поскольку мы опознаем в них тождество с подлинником. В развитии той же идеи у Николая Кузанского бытийная форма, проявляясь и воспринимаясь в вещи, становится предметом созерцательного наслаждения и «вкушения», потому что она явственно и ощутимо возвращает вещь на ее единственное и неповторимое, «свое» уютное место. Верность подлинному прообразу проявляется вещью, когда она равна самой себе: когда она есть, а не так, что то ли она есть, то ли ее нет; когда она именно эта вещь, а не какая-то другая; когда она именно такова, а не устроена каким-то другим образом. В том, что вещь есть, что она именно эта вещь и такая, какая есть, и сказывается присутствие в ней бытийной формы, ее подлинного существа. Подобная форма не парит вне и выше подражающей ей материальной вещи. «Если все может прийти к покою не иначе, как на своих местах,—говорит в одной проповеди Николай,—то формы суть некие покои, и когда вещи достигают своих форм, они успокаиваются». Прозрачность бытийной формы совпадает таким образом с возвращением вещи к самой себе и с приобретением ею самодостаточной полноты. Выразительные способности любого предмета
|
|
|
|
|
|
==111
при такой интерпретации идеи (эйдоса) оказываются одинаковыми, и здесь характерное расхождение с Платоном, который сомневался, есть ли вообще идеи у невозвышенных вещей. На любых путях, будь то причинные объяснения, математические выкладки, жизненный, художественный опыт, созерцание, интуиция, в каждой частице вселенского бытия для Николая Кузанского открывается упоительная, «питательная» глубина бесконечности с ее всеобъемлющим единством, источником всякой гармонии. Даже раздробленность и безобразие таковы только потому, что они торчат на фоне единства и красоты. Углубившись в интуитивные озарения, ум, по Николаю, увидит во всем только совершеннейшее единство, в котором узнает и свою собственную суть, ведь всякое его восприятие заранее обеспечено осознанным или неосознанным светом единства (единство есть свет потому, что, пусть хотя бы в предвосхищении, оно впервые дает восприятию полноту, а тем самым ясность). На той же основе единства покоится и второй традиционный аспект красоты—«пропорция».
Как для всего Возрождения, для Николая Кузанского пропорция и гармония тоже составляют сущность прекрасного. Но, несмотря на свое собственное увлечение математикой, он не поддается оптимистическому измерительному пафосу, который набирал силу среди художников и теоретиков (он развернулся потом у раннего Дюрера, Леонардо да Винчи, в тенденции полной перспективизации художественного изображения), и говорит о неизмеримости и нематематичности той меры, какой красота отмерена в мире и какой ее мерит человеческая душа («Поступайте по духу»). Обращение к безмерной основе гармонии и пропорции— необходимый восполняющий противовес измерительному техницизму Ренессанса; без учета мысли Николая Кузанского возрожденческая эстетика останется однобокой. Если Возрождение не было безотчетным праздником раскованного духа,—на примере Петрарки видно, что человеческий дух по крайней мере в начале этой эпохи был не менее серьезен, напряженно сосредоточен и мучим двойственностью искусства и красоты, чем в Средние века,—то оно не сводилось также ни к риторическому искусству, ни к психологизму, ни к техницизму, что доказывает фигура Николая Кузанского: гуманиста, у которого нет и тени риторики, а математичность и эстетическое восприятие бытия включены в универсальную онтологию.
Свой первый и главный труд, «Науку незнания», Николай Кузанский задумал, возвращаясь морем из посольства в Константинополь, и это едва ли простая случайность: в открытом им философском методе много от парадоксалистской антиномичности Дионисия Ареопагита и других восточных учителей. В приводимом ниже кратком отрывке из первой главы второй книги даются примеры применения так называемого «правила ученого незнания», согласно которому нельзя прийти к бесконечности путем постепенных прогрессивных приращений, откуда следует, что для постижения Величайшего (Максимума) надо совершить скачок к точке совпадения несоизмеримых величин, творения и творца, и признать, что любое положительное определение стоит на непостижимой основе.
==112
Следующий у нас далее диалог «Простец о мудрости» (1450)—это первый и, может быть, лучший в западноевропейской философии трактат о вкусе (мудрость, sapientia, понимается как sapere, «вкушение», «обладание вкусом»). Согласно Николаю Кузанскому, вкус иррационален потому, что стоит над рациональностью как ее источник. Мудрость заключается в том, чтобы следовать вкусу или предвкушению полноты и совершенства жизни. Известно, что идея реабилитации в этом свете и всякого непосредственного чувства счастья и наслаждения способствовала появлению последней редакции диалога «О наслаждении» Лоренцо Валлы (1451); Николай Кузанский энергично выступил в защиту Валлы против некоторых церковных критиков. Вплоть до XIX века «Простец о мудрости» включался в некоторые издания Петрарки как часть его диалога «Об истинной мудрости» («Лекарства от превратностей судьбы», I, 12); еще в 1957 году Дж. Саитта доказывал принадлежность его Петрарке. Подлог совершил, по-видимому, Франческо Филельфо (1398—1481), плодовитый гуманист, задавший большой труд последующим векам своими необузданными филологическими фантазиями. Вместе с тем этот подлог обратил внимание на действительную близость двух великих умов Возрождения. В библиотеке Николая Кузанского есть несколько рукописных книг Петрарки; на полях рукой Николая отмечены, например, мысль Петрарки о том, что «ученейшие мужи всех лучше понимают незнание» («О невежестве своем собственном и многих других людей»), и ряд суждений Петрарки о Платоне.
Текст Николая Кузанского, известный под условным названием «О красоте»,—это беседа на стих «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя...» из библейской «Песни песней» (IV, 7). Подобно Мейстеру Экхарту, Николай Кузанский ставил философские вопросы перед любой аудиторией. «Некоторые недовольны,—говорит он в беседе 271,—что я часто говорю с вами, людьми простыми, на слишком высокие темы... Но они извинили бы меня, если бы вспомнили, что Христос с пользой открыл глубочайшие тайны простой женщине, грешнице и самаритянке, которая говорила с ним один на один; а я обращаюсь ко многим, и среди вас, надо думать, есть люди и более способные, чем та простая женщина». Беседа 240 «О красоте» возникла в 1456 году, когда эта тема привлекала постоянный интерес мыслителя; к ней подводит ориентированный на эстетический опыт трактат «Видение Бога» (1453) и беседы 181 («Утешитель же, дух...», 1455) и 198 («Поступайте по духу», 1455).
Перевод сделан по изд.: Nicolai de Cusa Opera omnia, vol. I. Lipsiae, 1932, p. 61—63; vol. V. Lipsiae, 1937, p. 3—24; Nicolai de Cusa Tota pulchra es, arnica mea (Serrno de pulchritudine), ed. critica ed introduzione a cura di G. Santinello. Padova, .1958; Nicolai de Cusa Opera. Basileae, 1565, p. 554—555.
8— 650
==113
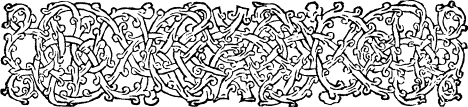
НАУКА НЕЗНАНИЯ

НАУКЕ незнания очень поможет, если из нашего первого принципа мы сначала выведем некоторые общие предпосылки; они дадут возможность приемами одного и того же искусства получать бесконечное множество сходных положений и сделают наш предмет более ясным.
В основе всего сказанного лежало, что к максимуму в бытии и потенции нельзя прийти путем постепенных превышений; соответственно
мы вывели выше, что точное равенство присуще лишь богу1. Отсюда следует, что помимо него все вещи в мире различны; никакое движение не может быть равно другому, и одно не может быть мерой другого, поскольку мера неизбежно отличается от измеряемого.
Можешь делать на этом основании бесчисленные выводы. Скажем, в приложении к астрономии ты легко заметишь, что вычислительное искусство лишено точности, раз оно исходит из предпосылки, что движением солнца можно измерить движение всех других планет. Положение неба, будь то какое-либо место, восход или заход созвездий, возвышение полюса и подобные вещи, точно познать тоже невозможно, и поскольку никакие два места не совпадают в точности по времени и положению, ясно, что частные суждения относительно звезд далеки от точности. Если затем то же правило применишь к математике, увидишь, что в геометрических фигурах актуально достичь равенства невозможно и ни одна вещь не совпадает в точности с другой ни по фигуре, ни по размеру, то есть пускай в своей логической абстрактности правила построения фигуры, равной данной, верны, но актуальное равенство различных фигур невозможно. Поднимись отсюда к пониманию того, что хотя истина допускает равенство себе в отвлечении от материальных вещей, по логике, однако на опыте в вещах это совершенно невозможно, поскольку здесь оно всегда неполное.
==114
Далее, в музыке нет точности по тому же правилу. Ничто не совпадает ни с чем ни по весу, ни по длине, ни по толщине, и невозможно найти столь точные гармонические пропорции между различными тонами человеческих голосов, флейт, колоколов и других инструментов, чтобы были немыслимы более точные. Ни на каких инструментах недостижима также одна и та же ступень пропорции к истине, как это недостижимо и ни для кого из людей, но во всем есть различие в зависимости от места, времени, обстоятельств и прочего2. Опять-таки точная пропорция усматривается только логически, и мы не можем среди чувственных вещей познать на опыте сладостнейшую гармонию без несовершенства, потому что тут ее нет. Поднимись отсюда к пониманию того, что точнейшая величайшая гармония есть пропорция, которая состоит в совершеннейшем равенстве, и человек не может услышать ее в плотской жизни, потому что, будучи всеобщим строем, она поглотила бы строй нашей души, как бесконечный свет поглощает всякий свет; и если бы отрешившаяся от чувственных вещей душа смогла умным слухом услышать гармонию высшего согласия, она исступила бы из себя в восторге3. Здесь можно найти источник великого наслаждения, размышляя и о бессмертии нашего умного и логического духа, хранящего в своей природе нетленный строй4, по согласию или несогласию с которым он, исходя из самого себя, улавливает в музыке гармонию или диссонанс, и о той вечной радости, в которую, отрешаясь от мирских вещей, переносятся блаженные. Однако об этом в другом месте5.
Наконец, приложив правило ученого незнания к арифметике, мы увидим, что никакие две вещи не могут сойтись в своих численных определениях, и поскольку с изменением численных определений, растяжимые до бесконечности, изменяются состав, сочетаемость, соотношение, гармония, движение и вообще все, то мы и отсюда начинаем понимать меру нашего незнания.
Раз никто не подобен другому ничем—ни чувством, ни воображением, ни разумом, ни исполнением, будь то в писании, в живописи или в другом искусстве,—то если бы даже кто-то тысячу лет старался подражать другому, он все равно никогда не достиг бы точности, хотя бы чувствами разница в каких-то обстоятельствах и не воспринималась. Искусство по мере сил подражает природе6, но тоже никогда не сможет в точности уподобиться ей, так что медицина, а также алхимия, магия и другие искусства превращений все лишены точной истины, хотя одно из них истиннее сравнительно с другими,—скажем, медицина истиннее, чем искусства превращений, как само собой очевидно.
Еще один вывод из того же основания. Раз мы имеем превышаемую и превышающую степень у противоположностей (простого и сложного, абстрактного и конкретного, формального и материального, тленного и нетленного и так далее), то, значит, невозможно прийти ни к чистой инаковости противоположных вещей, ни к совпадению двух в точности равных противоположностей: все состоящее из противоположностей располагается по степеням различия, одного имея больше, другого
==115
меньше и приобретая природу той из противоположных вещей, которая пересилила другую. На этом основании достигается рассудочное знание вещей: мы познаем, что в одной вещи сложность пребывает в некой простоте, в другой вещи—простота в сложности, в третьей тленность обнаруживается в нетленности, в четвертой наоборот и так далее, как мы разъясним в книге «Предположений», где об этом будет идти речь подробнее7. Но уже немногого сказанного достаточно, чтобы показать чудесную силу знающего незнания.
<ВСЯ ТЫ ПРЕКРАСНА, ВОЗЛЮБЛЕННАЯ МОЯ...»
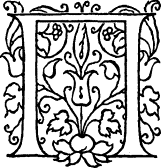
ПОСКОЛЬКУ мы празднуем праздник рождества Приснодевы и поем эти слова сегодняшнего песнопения1, наша беседа будет о красоте. Здесь первыми приходят на ум слова Дионисия2 из того места, где он говорит о красоте: надо заметить, что «добро» по-гречески называется кάλος, a «прекрасное»—кάλλς, как если бы доброе и прекрасное были родственны. К тому же греческое слово кαλώ значит «зову»; в самом деле, доброе зовет к себе и влечет, так же как и прекрасное3. Мы называем прекрасное еще благообразным от «образа», благовидным от «вида» и благолепным от «лепоты», то есть того, что лепо и пристойно; ведь пристойное приятно и прекрасно.
Если внимательно рассмотреть, то прекрасное мы постигаем, каждым по-своему, более духовными из наших чувств, через которые происходит и познание. Недаром мы говорим, что красивы бывают цвет и фигура, а также голос и речь,—стало быть, красоту каким-то образом постигают зрение и слух,—но мы не называем красивыми ни запах, ни вкус, ни что-либо только осязаемое; эти чувства не так близки разумному духу, они косные, неодухотворенные и принадлежат нашему животному существу. Конечно, всякое вообще человеческое чувство благороднее, чем у животных, от соединения с разумным духом,—более благородная сила облагораживает соединенное с ней, как солнечный луч освещает воздух,— но все же более тонкие чувства соединяются с умом прямее. Зрение тянется к прекрасной форме и цвету, а слух—к прекрасным согласиям, и это так у человека потому, что соразмерность, которой мы наслаждаемся в пропорциях, непосредственнее просвечивает через эти два чувства; хорошо упорядоченные и пропорциональные вещи, то есть такие, где в многообразии просвечивает единство пропорции или согласия, по той же причине приятны.
Суть красоты, говорит Дионисий, лежит как бы в созвучии различного4. Он рассуждает о том, что существуют некие исхождения Бога в творение, и благодаря их действию все сотворенное совершенствуется,
Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 100; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
