Автор благодарит владельцев за предоставленные фотографии. 2 страница


Откуда? Мы читали учебники. Мама и отец знали арабский язык. В свое время они закончили школу, и мой папа получил образование на уровне муллы. Об этом мы тоже узнали потом. Все так скрывалось...
Я считала, что настолько счастлива, живя рядом с дядей! Мир просто казался хорошим. Требования людей к жизни были очень скромными. Помню, в военном городке жили и большие чины. Жены военнослужащих ходили в сапогах мужей. Это очень хорошо запомнилось. Дядя при мне женился, и его жена тоже ходила в его сапогах. У нее было отороченное зайцем или кроликом пальто. И она считалась очень хорошо одетой. А сейчас... слишком много вещизма. Ненужного, отвлекающего от настоящей жизни. По-моему, сплошной вещизм. Хорошая была жизнь тогда. Хорошо помню эпизод: в военном городке продавали селедку. А кругом стояли часовые. Из близлежащей деревни Козловки, куда я ходила учиться в школу, несмотря на строгости пропуска, когда наметало достаточно снега, люди пробирались в магазин, чтобы купить эту ржавую селедку. Это осталось в памяти. Судя по этому эпизоду, люди, вероятно, жили достаточно скромно. Но я была маленькой — и все было хорошо. Читать с дядей я начала со сказок Пушкина. А потом уже настолько увлеклась чтением, что, помню, в 4 классе надо было готовиться к экзаменам, а я уходила в чащу читать...
Я вернулась домой. Мама и думать не могла, чтоб я пошла в татарскую школу, и я пошла в русскую. Незнание русского языка приравнивалось к
|
|
|
тому, что дорога тебе на всю жизнь закрыта. Только зная русский язык, можно было идти по жизни и чего-то достичь. Папы уже не было — он был в Сибири. Па па у нас тоже был крутого нрава, поэтому ему пришлось
 убраться. До того, как я уехала к дяде, случилось вот что. Мама, и папа были среди организаторов колхозов в Му-ртазино. Правда, он потом
убраться. До того, как я уехала к дяде, случилось вот что. Мама, и папа были среди организаторов колхозов в Му-ртазино. Правда, он потом

* Здесь и далее страницы дневника Ф.А.Шевчук со стихами ее сына Юрия.



отрицал, но моя мама не скажет неправды, значит, все так и было — организовывали. Папа был бригадиром. Он раздал голодным семенной фонд. Чтобы не поплатиться, он уехал на Крайний Север. На Бодаминские золотые прииски. Взял и уехал. Надо, конечно, было иметь мужество. Но что там папино мужество! Какое у мамы мужество! С папиным и не сравнимо. Потом мама поехала на Север. Поехала, не зная языка и будучи совершенно неграмотной. Не говоря по-русски. Поехала искать папу. Она сказала:
— Найдем где-нибудь там...
Бросив дом, хозяйство. Они же прекрасно жили... Тем не менее, дальше я пошла учиться в русскую школу. Мама, между прочим, все мои затеи поддерживала. Всю жизнь. Чтобы я ни задумала, чтобы я ни захотела. При этом она Ёсегда помогала материально, физически и духовно. Я и сейчас по ней очень тоскую. Очень.
|
|
|
Когда я вернулась, папы уже не было, он был в Сибири. Весь дом, хозяй ство, все заботы лежали на плечах мамы. И она все-таки устроила меня в Языково в семью, где я, закончив школу в субботу, шла пешком домой, по-моему, 10 километров. Оттуда мама меня чуть свет в понедельник провожала, и я успевала в школу. Всегда было темно, когда она меня провожала. В наших лесах было много волков, и помню, как однажды засверкали вдали огоньки:
— Ой, мама, что это?
— Да просто кто-то едет.
Но потом призналась: это были волки, и сказала, что их не надо бояться. Наша мама всю жизнь не знала, что такое страх. Это тоже противо естественно. Но однако такие люди бывают, и такой была наша мама. Она никогда ничего не боялась. У меня сестра младшая такая. В любое время куда угодно, зачем угодно отправиться — никто не тронет, куда бы она ни пошла.
Долго ли продолжалась та учеба? Год. У дяди я уже вошла во вкус к учебе. У нас тогда начали преподавать древнюю историю. Я ее по сей день люблю. Учебников не было. Конспектов тоже. Я вбирала каждое слово. На другой день приходила в школу, и все просили меня повторить. В Языково был учитель немецкого языка Карл Иванович. С Карлом Ивановичем я всего один год изучала немецкий, но по сей день что-то помню. Когда меня ставили в пример, русские дети говорили:
|
|
|
— Ну, конечно, она же татарка. А что такое татарка? Это все равно, что немка. Так что Вы нам ее, Карл Иванович, не ставьте в пример.



Очень хорошие впечатления у меня остались от этого учителя. Он был таким добрым. Ученики над ним издевались... А потом, к концу учебного года приехала мама и говорит:
— Знаешь, дочка, я думаю, что нам надо найти папу. Мне в то время было 11-12 лет.
— Ты знаешь по-русски...
— Хорошо, поехали, мама.
Мама насушила мешок сухарей. Взяла одного гуся, с которого в пути капал жир. Мы в этот жир мочили сухари и так всю дорогу ели. Сколько-то килограммов сахару... И это была вся наша пища до тех пор, пока мы не нашли папу. Шел 1938 год. Как мы ехали? Вначале поездом. Я помню, в середине вагона висел наш гусь, потому как с него все время капал жир. Вагон, конечно же, был жестким. Знаете, всю дорогу был добрый, отзывчивый народ.
Мы приехали в Качу, это начало Лены. До Качи ехали, наверное, очень долго, потому что на место, в Заполярье приехали уже глубокой осенью, последним пароходом. А выехали летом, когда я закончила школу. Как декабристки, только мы ехали не в колясках, а в вагонах. В Каче мы договорились с баркасами, которые шли до Витима. До Витима мы ехали на баркасах. Всегда и везде в пути было, как в своей семье. Люди добрые, отзывчивые, видят, что молодая женщина, куча детей... Конечно же, нам помогали. Детей было четверо. Самое интересное в том, что мы не знали, где папа. Папа последнее время не писал. Папа... гулял. В Витиме нам дали адрес, где раньше жил папа. У его знакомых. Через этих знакомых мама узнала все-таки настоящий адрес. Я пошла в милицию, милиция дала телеграмму в Якутск. Папу тут же нашли. Он собирался ехать в Заполярье. Его остановили — едет семья и никуда не выедешь! Я помню, тот участковый милиционер нам очень помог. У нас не хватало на пароход денег. У меня была мандолина, когда-то купил дядя. Я ее продала. А то, что не хватило, нам дал участковый. Смог купить билет. Посадил. Отправил в Якутск. Просто совершенно незнакомый человек принял в нас такое участие! Я помню об этом благородном человеке по сей день. Вряд ли он уже жив, но пусть его детям будет хорошо.
|
|
|
Приехали в Якутск. Папе об этом уже сообщили. Мы идем, я спрашиваю:
— Где тут находится здание Главсевморпути?
Нам показывают. Впереди видим высоченного человека. А наш папа был очень высоким, Юра не достиг все-таки его роста. Потому что Юра сутулится,



как его папа, а мой был статным. Так вот, идет навстречу человек с рыжей бородой, высокий. Я маме:
— Вот его спрошу.
Подходим. Он что-то хотел сказать. Мама раз ему оплеуху! Я завол новалась:
— Что такое?
— Что такое?! Да это ваш папа!
Из Якутска мы уехали. Папа уже завербовался дальше — в Заполярье. Мы ехали на барже, точнее внутри нее, в трюме. До самого устья Яны. Прошли мы всю Лену, море Лаптевых и дальше туда, к Чукотке. Так вот и приехали жить в Заполярье. Папа занимался строительством. Хороший плотник, столяр. Приобрел себе такую специальность. Вначале приехали в Усть-Янск — устье Яны. Маленький якутский поселок, в котором жили якуты. Это очень интересные люди. Дети природы. Я их увидела в 1938-39 годах. Они были настолько чисты, настолько искренни. Как вот ребенок бывает еще совершенно неиспорченным. Лодки строили, они называли их «ветками», из такого дубленого дерева. Страшно неустойчивые, но очень легкие на ходу. Они целый день рыбачат, эти «ветки»-лодки остаются на берегу, полные рыбы. Рыба висит на особых приспособлениях — вялится. Не солили, была уже проблема с солью. Все это было просто на улице, спо койно висело. Но когда уже появилось много русских... Они не принесли с собой этим людям блага, те, которые были завербованными... Это интересный район, я там прожила часть детства, юность и зрелые годы. Уехала только в 1952 году. Совсем. Очень долго я там жила. Очень. Я видела, как менялся этот народ. Я всегда за него переживала, страдала. Я видела, как они пьют...
Уже когда мы были с Юрой на Колыме, в 1976-77 году, я поняла, что отношение русских... Я не говорю об интеллигентах, сейчас на Севере народ деловой. Там романтиков нет. А в наше время еще было очень много романтиков. В наше время там было много и ссыльных, истинно интел лигентных людей. Когда мы приехали в Усть-Янск, а потом уже пришло время идти в школу, я стала требовать, чтоб меня отправили учиться. Папа сам не поехал, а погрузил меня в катер с мешком книг — и отправил в Казачье, где была средняя школа. Приехала туда. Знакомых нет. Как-то устроили к женщине. Звали ее тетя Клава. Она работала бухгалтером. Стала у нее нянчить ребенка, помогать по хозяйству и учиться в школе.
Такие вот были простые отношения людей. Можно было приехать с мешком книг, и помогли бы. Надо мной взяла шефство семья ленинградцев.



Они были очень молоды. Работали в гидрографической партии. У меня не очень ладилось с математикой. Они помогали решать задачи. Я помню роскошные альбомы, которые у них рассматривала... Самое страшное, что мы все потеряли за эти годы — простоту и благородство отношений. Вот как мы жили на Севере... Вернувшись на материк, я поняла взаимоотношения людей, но не приняла. И до сих пор не принимаю. Уже смотрю фильмы, понимаю источники лицемерия, нечестности — это можно понять, но при нять нет. И практичность эту тоже принять не могу, и мне от этого бывает больно. Мы заполучили вместо простых отношений прагматизм. В первые годы на материке я вообще была убита, потому что не понимала людей.
В той гидрографии была великолепная библиотека. На книгах было написано: «Из книг Его Императорского Величества». Такая богатая библи отека... В обыденной повседневной жизни было много отрицательного в связи с тем, что там почти не было женщин. Очень мало женщин. Я избежала всяких отклонений только потому, что я как раз была занята книгами. Только читала, училась, помогала маме. Потом уже работала и тоже читала. Потом переехали из Казачьего в Янск, Янское речное пароходство. Здесь я получила профессию радиста. Правда, к тому времени закончила школу, 7 классов. Сохранилась где-то фотография: в классе одни якуты и только я — русская. Теперь я уже русская. Раньше, в русском классе была татаркой-немкой, а тут, в якутском, стала русской! Я говорила, естественно, по-русски, но когда говорили по-якутски, я их тоже понимала. У нас очень много однотипных слов. Только звучание иное, как-то ударение не так падает... Все-таки я была одной «русской», и учитель говорил:
— Фаина, времени дважды обьяснять нет, и если я успею, тебе объясню,
а нет — вот книга, читай!
Учитель говорил на якутском, дети-то другого языка не знали. Вот так училась с татарами, с немцами, с русскими, а закончила с якутами! Препо даватели-якуты столько времени занимались с нами! И танцевальный, и хоровой, и гимнастический — каких кружков там только не было. Каждый преподаватель вел свой кружок, и мы, школьники, представляли культуру этого поселка, пели, выступали с концертами. У меня еще раньше проявился голос, а тут он зазвучал. Я была в Казачьем почти профессионалом, смело выходила и пела. В основном это были русские народные песни. А вообще копировала все услышанное, начиная от оперы, оперетты, и, заканчивая романсами нашего времени. Все пластинки. Голос по наследству — мама и




папа прекрасно пели. У всех родственников по моей линии просто отличные голоса.
...Маму и папу я похоронила совсем недавно. Папа собирался жить до 90, но похоронила его я в 89 лет. Мама умерла в 85. Совсем недавно. Они жили в Уфе. На материк они выехали в 1950 году. А я попозже. Мы выехали
в 50-м, и не хватило денег на покупку дома. У папы денег никогда не было,
в семье деньги зарабатывала я, так как была очень профессиональной радисткой. Была знаменита на весь Крайний Север. Зарплата была хорошей, зарабатывала много. Решили: кто же может поехать и заработать на дом? Только я. И я уехала на Север снова. Зарабатывать на дом.
Я работала в Эги-Хая, на Яне. Эги-Хая — очень интересное место. Я не слышала о нем нигде. А между тем, там были лагеря! Я их застала, еще как застала. Они как раз тогда развивались. Я была знакома с людьми, обслуживавшими эти лагеря. Помню, наступило мелководье, и наш теплоход застрял. Не мог дальше двигаться. Я была в то время коммуникабельной, довольно интересной, имела массу поклонников. Ну, ведь знаете, тогда отношение к военнослужащим было не такое, как сейчас. Очень уважи тельное. Один пришел ко мне на радиостанцию. Сидим, болтаем, и он рассказывает:
— Понимаешь, ходят, держат томик Ленина под мышкой, и говорят, что вот вы — сволочи, а мы — ленинцы! Вот ведь предатели, изменники, как смеют так говорить!
Люди же в это искренне верили, понимаете? И мы верили. Когда мы уже жили с мужем, Юлианом Сосфеновичем в Усть-Омчуге, в 1954 году как раз шла реабилитация, и я очень долго контактировала с людьми уже реабилити рованными. Тогда я увидела их, только что вышедших, изможденных, уставших. Буквально физически уничтоженных. Душа есть, желание есть, все есть, нет остального... Как у меня сейчас: вот сколько планов, а выполнить уже не могу по слабости. Нет, к сожалению, физических сил. Вот в таком моем теперешнем состоянии я их увидела в 1954 году. Мы жили с ними в одном бараке. Это было в первый год, как только мы приехали туда с мужем.
Вернемся к моей работе радисткой. Это же были годы войны, было голодно. Я вообще все свое детство и юность испытывала систематическое недоедание. Когда мы переехали в Янек, папа стал строителем, вначале я пыталась найти применение себе. На Севере ведь нет разнообразных учебных заведений. Где устроишься, там и будешь работать. Одно время я нянчила ребенка. Потом пыталась работать буфетчицей. Это целый анекдот! Не то,



что не получилось, что вы! Опять меня выручил хороший человек. Меня просто уговорили, а не то что пригласили работать буфетчицей. Я всегда боялась денег. Работаю неделю, месяц — порядок. А потом каждый день стало не хватать денег. Почему? Не знаю. Там был начальником орса Погорелов. Пришла к нему и сообщила о своей беде.
— Где ты оставляешь деньги?
— Под полочкой.
— Кто об этом знает?
— Да все знают.
А когда я уходила, то говорила: «Девочки, посмотрите, у меня там деньги лежат!»
— Сколько не хватает?
— Столько-то...
— Дура! Разве тебе можно лезть в торговлю! Я весь твой долг покрою, но дай клятву, что в торговлю ты больше никогда не пойдешь!
Поклялась. Так закончилась моя работа в торговле. Недостача-то была порядочной. Вообще на Крайнем Севере тогда было много людей — ленинградцы, москвичи, одесситы. Начальником пароходства был из Симферополя Георгий Исаакович Церкевич. Еврей. Но такого характера я не встречала ни в одном русском. Очень мужественный. И как всегда, на Севере была радиостанция. Телеграфной связи не было, там такие расстояния! На эту радиостанцию набирали учеников радистов. Я пошла на эти курсы. Но голод жуткий. Я училась сама, никто не оплачивал. Ни карточек, ничего нет. Я говорю начальнику связи Журавлеву:
— Больше не могу, переведите лучше в уборщицы. Очень хочется есть, целый день голодно...
Есть фотография тех лет: худющая и почему-то вся в веснушках. 42-43 годы. Там был просто страшный голод.
И вот этот Журавлев сказал:
— Будешь учиться. Уборщицей никуда не пойдешь, я вообще тебя никуда не пущу.
Таким образом я получила специальность радиста. Чтобы было 70 знаков
в минуту, и потом работать на 200-250 знаках, надо было очень много трудиться. Там это была, пожалуй, самая престижная работа. Радисты были наиболее культурны, наиболее образованны, потому что через них шла вся связь, вся информация. Мы получали и принимали РБО — радиостанция последних известий из Москвы. Вся информация шла через нас. Среди

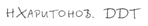

 радистов были интересные люди. У меня как-то пошел прием. Я работала на очень больших скоростях. Потом где что не так, посылали меня, чтобы налаживала связь. Это самое интересное, поскольку технику я знаю не так, как мужчины, они разбирают и собирают передатчики, приемники, однако меня отправляли, и я почему-то умела найти неисправность. Какая-то была интуиция на неисправности. Это 1949 год. Я была и на полярной станции. Зимовала в Тикси — как хорошего радиста пригласили в Тикси на полярную станцию. Начальником отдела кадров в Москве был Жимуленко. У меня в трудовой книжке его фамилия написана. В Тикси мы работали далеко от поселка. Там океанологи, гидрографы, в общем, огромный институт. Очень много людей, меня посадили на работу с теми станциями, с которыми я раньше была знакома — с Яной, где идет большой объем информации. Со мной работал человек с авиаторами. Между прочим, в те годы там гибло очень много летчиков. Они страшно пили, и если не каждый, то через день шли информации о трагедиях. У меня были свои позывные. В Янске — «УФГ-2». И все знали, что это я. Но мы друг друга узнаем и по почерку. У каждого че ловека свой почерк — только пару раз нажми ключ и уже знаешь, кто это. Когда я туда приехала, меня неделю курировали, потому что пурга такая — в глаз ткни, будто вы по пали в молоко. А ветер такой силы! Полмесяца меня Ветров Женя курировал. Потом он работал в Антарк тиде, и я ему так завидовала: раз мужчина, значит, может поехать в Антарктиду. А раз ты жена, вышла замуж, то сиди дома и никакой тебе ро мантики. Я очень любила свою работу.
радистов были интересные люди. У меня как-то пошел прием. Я работала на очень больших скоростях. Потом где что не так, посылали меня, чтобы налаживала связь. Это самое интересное, поскольку технику я знаю не так, как мужчины, они разбирают и собирают передатчики, приемники, однако меня отправляли, и я почему-то умела найти неисправность. Какая-то была интуиция на неисправности. Это 1949 год. Я была и на полярной станции. Зимовала в Тикси — как хорошего радиста пригласили в Тикси на полярную станцию. Начальником отдела кадров в Москве был Жимуленко. У меня в трудовой книжке его фамилия написана. В Тикси мы работали далеко от поселка. Там океанологи, гидрографы, в общем, огромный институт. Очень много людей, меня посадили на работу с теми станциями, с которыми я раньше была знакома — с Яной, где идет большой объем информации. Со мной работал человек с авиаторами. Между прочим, в те годы там гибло очень много летчиков. Они страшно пили, и если не каждый, то через день шли информации о трагедиях. У меня были свои позывные. В Янске — «УФГ-2». И все знали, что это я. Но мы друг друга узнаем и по почерку. У каждого че ловека свой почерк — только пару раз нажми ключ и уже знаешь, кто это. Когда я туда приехала, меня неделю курировали, потому что пурга такая — в глаз ткни, будто вы по пали в молоко. А ветер такой силы! Полмесяца меня Ветров Женя курировал. Потом он работал в Антарк тиде, и я ему так завидовала: раз мужчина, значит, может поехать в Антарктиду. А раз ты жена, вышла замуж, то сиди дома и никакой тебе ро мантики. Я очень любила свою работу.
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 227; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
