Компьютеры и искусственный интеллект 9 страница


Театры стали даже средством религиозной пропаганды. В 1596 году иезуит-миссионер Матео Риччи предложил идею «дворца памяти» китайцам, которых он рассчитывал обратить в свою веру. По его словам, размеры дворца должны были зависеть от того, как много обращаемые хотели запомнить; в самом смелом варианте сооружение состояло бы из нескольких сотен зданий разнообразной формы и величины — чем больше, тем лучше. Правда, для этой же цели подошли бы и более скромные «дворцы», храмы, помещения государственных учреждений, дома встреч купечества и даже простые беседки. Риччи подобрал образы, знакомые, как он думал, его китайским друзьям, чтобы разместить их в воображаемых комнатах и павильонах воображаемого дворца, которые должны были стать местами памяти для сохранения идей и понятий. Не могу, однако, не заметить, что не вижу прямой связи между этой столь изощренной системой и христианской теологией [5].
В руках современника Галилея, еще более опасного еретика Джордано Бруно, который в отличие от него не пожелал отречься и был сожжен инквизицией, театры памяти стали важной принадлежностью оккультной, герметической философии. Бруно использовал их как средство классификации и, следовательно, постижения загадочной сущности Вселенной. Память давала власть над природой. Театры памяти служили моделями небес и преисподней (систематизированное описание кругов ада и рая в дантовой «Божественной комедии», как полагают, имеет своим источником именно такую мнемотехническую схему). Сниженный вариант мировоззрения и философии Джордано Бруно существует и поныне. Взгляните на рекламные страницы воскресной газеты, и вы найдете объявления такого рода: «У вас плохая память? Известный издатель научит, как улучшить ее» или «Вы удивитесь, но древние египтяне давно знали...». При ближайшем рассмотрении многие из таких объявлений окажутся продуктом творчества некой тайной секты, именующей себя Розенкрейцерами, может быть и не столь древней, как они пытаются представить, но, несомненно, уже существовавшей во времена Джордано Бруно и вобравшей в себя многое из его учения. Попробуйте сами их рецепты тренировки памяти, и вы получите представление о театре памяти.
|
|
|

Ко времени Ренессанса театр памяти превратился из символического инструмента, предмета умственной организации, в реальную конструкцию. В XVI веке, к неудовольствию таких философов-рационалистов, как Эразм Роттердамский, венецианец Джулио Камилло построил настоящий деревянный театр, заполненный скульптурами, театр, который он предлагал королям и властителям как чудесное, почти магическое средство для упражнения памяти. Франсес Йейтс высказывает даже смелое предположение, что шекспировский театр «Глобус» был устроен по принципу театра памяти. Почему, спрашивает она (стр. 173—174), такой театр выглядит столь таинственно связанным со многими сторонами Возрождения? «Я думаю, потому, что он воплощает новый ренессансный строй души, изменения в памяти, дающие толчок внешним изменениям. Человеку средневековья было позволено пользоваться его неразвитым воображением, чтобы через систему вещественных подобий облегчать запоминание и вспоминание; это была уступка его слабости. Герметический человек Возрождения верил, что наделен божественной силой, у него бьыа магическая память, с помощью которой он постигал мир... Магия божественных пропорций переливалась из его мировой памяти в волшебные миры поэзии и ораторского искусства, в безупречные пропорции его архитектуры и художественных произведений. Что-то произошло в душе, освободились новые силы...».
|
|
|
Технические аналогии
О каком бы театре ни шла речь, реальном или воображаемом, мы уже далеко отошли от первоначального намерения Цицерона и давно преодолели заблуждение Платона о вреде письменного слова для ума: появляется технологический императив использования механизмов памяти. Но для этого нужны определенные усилия, чтобы понять и объяснить эти механизмы, и именно здесь особое значение приобретает своеобразное двойственное отношение техники к биологии вообще и к биологии разума в частности.
|
|
|
В науке объяснение осуществляется через аналогию. Мы пытаемся понять неизвестное, сравнивая его с тем, что уже знаем или по крайней мере думаем, что знаем. Возьмем одно из самых фундаментальных подразделений известного нам мира - разделение на одушевленное и неодушевленное. В науке первое стало предметом биологии, а второе - физики. В дотехнологическую эру в западных обществах и во многих других культурнь1х традициях конечное объяснение давалось попеременно то биологией, то физикой. Непредсказуемые перемены ветра и дождя, равно как и регулярность поведения рек, моря и земли, звезд, солнца и луны объяснялись анимистически, как отражение желаний и прихотей местных и всеобщих богов, которые руководствуются теми же побуждениями, что и люди. С другой стороны, проявления всего одушевленного, т. е. биологические феномены, метафорически объяснялись на языке физики и все чаще - техники. Из-за сложности биологических систем их обычно уподобляют самым сложным и совершенным формам современной технологии. У каждого периода, каждой культуры есть такая форма или, как выразился Дэвид Болтер [б], определяющая технология. В самом деле, мы делим предысторию человечества на этапы именно по таким определяющим технологиям: каменный век, бронзовый век, железный век1.
|
|
|
В древних культурах одной из самых тонких технологий было гончарное дело, позволявшее с помощью глины и гончарного круга, глазури и огня создавать форму и рисунок. Не удивительно, что в этих культурах (где мы снова и снова встречаем в сказаниях Старого и Нового Света миф о сотворении) божество с гончарным кругом лепит людей, а потом вдыхает в них жизнь. В других мифах фигурируют прядение и ткачество; например, парки держат в руках нити жизни. Не избежала такой метафоризации и память. Для древних память с запечатлеваемыми в ней образами была тем же самым, что «восковые таблички с написанными на них буквами», как говорит Цицерон в трактате «Об ораторе». Отзвук этой метафоры слышен и в последующие века. Она лежит в основе философских споров XVIII века и научно-идеологических дискуссий XIX и XX веков о том, рождаются ли люди с уже определившимися склонностями или же их душа - как tabula rasa, чистая грифельная доска, на которую лишь опыт впервые наносит свои надписи.
1) И не только предысторию. В нашей с Хилари Роуз книге о развитии науки как общественного института мы писали о войне 1914-1918 годов как о войне химиков, а о периоде 1939-1945 годов как о войне физиков. А теперь наступает уже век компьютерных и даже биологических войн [7].
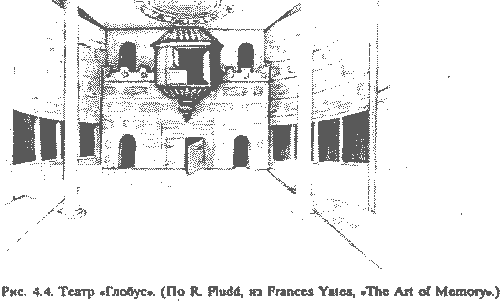
В наше время слово «память» можно услышать в бесчисленных научных дебатах. Этот термин используют в математике, физике и химии, в молекулярной биологии, генетике, иммунологии и теории эволюции, не говоря уже о работах по искусственному интеллекту, однако здесь имеется в виду совсем не та память, которую изучают нейробиологи, физиологи и даже романисты и которая интересует меня. Почему так многозначно слово «память»? Имеем ли мы дело с простой игрой слов, т. е. использованием слов, взятых из одного контекста, в другом контексте? Или же тот факт, что термин используется в столь разных областях науки, проливает свет на возможные механизмы и процессы, с которыми связана память?
Могут ли разнообразные аналогии что-нибудь дать для познания природы какого-либо явления, даже высветить неожиданное сходство, казалось бы, совершенно разных явлений, или это всего лишь фигуры речи? В каком смысле память можно уподоблять восковым дощечкам или... компьютерам?
В науке следует различать три типа аналогий, или метафор [9]. Первый тип - поэтические метафоры, как, например, описание электронов, данное Резерфордом, который сравнил электроны, движущиеся по орбитам вокруг атомного ядра, с планетами, обращающимися вокруг Солнца. Проводя такую аналогию, ученый, разумеется, был далек от мысли уподоблять ядро и электроны Солнцу и планетам или считать связывающие их силы гравитационными. Здесь аналогия нужна лишь для того, чтобы создать наглядный зрительный образ. Очевидно, что к этому типу относится и древняя метафора гончарного круга.
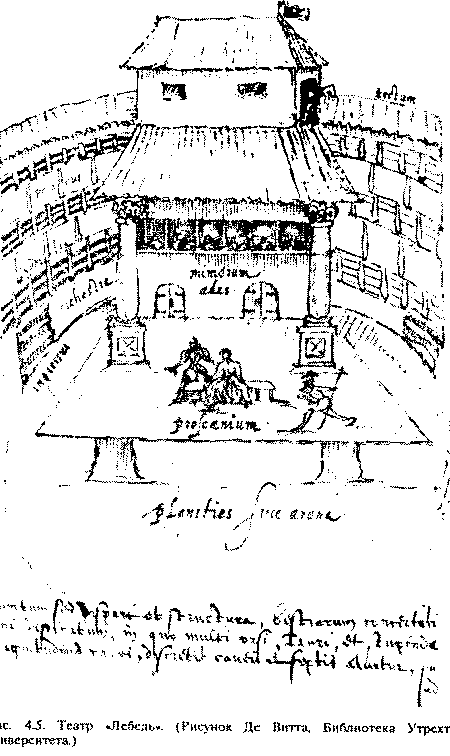
Второй тип аналогий - эвокативный; здесь происходит перенос какого-то принципа из одной области в другую. Например, вплоть до средневековья и революционизирующих открытий Ньютона полагали, что если что-нибудь движется, то его должно тянуть или толкать что-то другое. Поэтому, подыскивая объяснение движению Солнца вокруг Земли, его сравнивали с влекомой конями огненной колесницей.
Наконец, аналогия может служить для утверждения структурного или организационного тождества. Например, когда в XVII веке Уильям Гарвей открыл кровообращение и сравнил сердце с насосом, эта метафора имела совершенно точное значение, что отличало ее от двух предыдущих типов. Как часть системы кровообращения, сердце и в самом деле действует как насос, и по своему устройству - с его клапанами и фазами наполнения и опорожнения - оно сходно по крайней мере с теми типами механических насосов, которые существовали во времена Гарвея. Сравнение сердца с насосом позволяет создавать математические модели его работы и точно описывать многие свойства этого органа.
К какому же типу аналогий можно отнести сравнение памяти с восковыми дощечками или компьютерами - к поэтическому, эвокативному или структурному? Или оно не относится ни к одному из них и только запутывает дело?
Декартовское раздвоение
С рождением современной науки в Европе XVII века была нарушена симметрия между уподоблением физических сил жизненным, а биологических явлений - техническим моделям. Важно понять, что это прежде всего феномен западного мира, и объясняется он тем, что формирование науки было рождением двойни, а не одного младенца. Современная наука появилась и развивалась до зрелого состояния вместе с особой формой буржуазной, капиталистической организации общества, поэтому и наука, и общество имеют во многом общую философско-идеологическую базу, определявшую понимание и подходы к природе и общественным отношениям [7, 9]. Другие культуры со свойственными им научными традициями долго сопротивлялись разрушению симметрии, которое уже произошло в западной науке. Конечно, это прежде всего относится к Китаю [10], где никогда не было столь резкого деления природы на живую и неживую, так же как и других форм дуализма, обосновавшегося в западной культурной традиции.
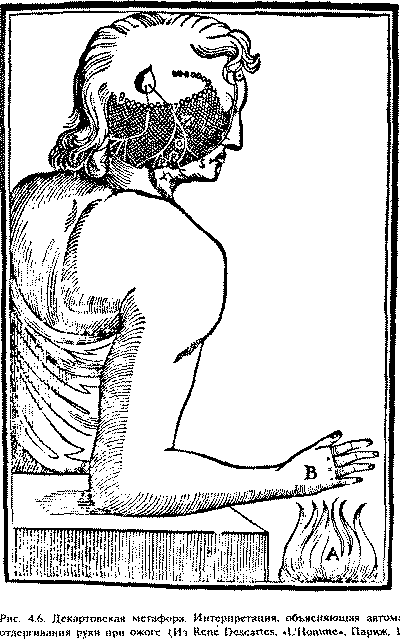
Однако развивавшаяся в Европе наука не выходила за рамки, определенные для нее Галилеем, Ньютоном и, конечно, Декартом, который больше, чем кто-либо другой, дебиологизировал физический мир, превратив его в простой «механизм». Для этих ученых «определяющей технологией» были часы и ассоциировавшиеся с ними системы шестеренок и гидравлических передач, которые, работая вместе, обеспечивали невообразимую раньше точность движения - его можно было описать математическими уравнениями. Часовые механизмы преобразили время, установили границы прежде считавшейся неделимой вселенной, расчленили ее на части, каждую из которых можно было оценивать и изучать по отдельности1. Гидравлика была источником силы и управляла движением в этой механической вселенной. Новая физика не просто по-новому объясняла вселенную, но давала новую технику, формировала новые системы производства и новые производственные отношения. Европа вступила на путь индустриализации и колониальных завоеваний (курс, который теперь она уже оставила), а математическая физика стала определяющей моделью научного объяснения, с которой сопоставляются все другие модели. Если само движение планет. Луны и Солнца можно описать с помощью несложной математики, как будто оно неотвратимо вытекает из уравнений, почему нельзя так же просто поступить с биологией?
1 С появлением цифровых (в отличив от аналоговых) часов время стали делить и рассчитывать еще точнее, все дальше отходя от мирового времени, которое определялось циклической сменой дня и ночи, месяцев, сезонов и лет. В современном мире ношение аналоговых часов вместо цифровых выливается в слабый акт сопротивления, на что впервые указал Морис Базен, радикальный физик и один из лучших популяризаторов науки.
Конечно, могло быть иначе. Биология как организованная наука могла сложиться раньше физики, а менее механистические, более телеологичные (телеономические) функциональные и эволюционистские приемы объяснения одушевленного мира, предлагаемые биологией, могли стать моделью, которую стремились бы найти физики. В таком случае редукционизм, настаивающий на том, что в конечном итоге мир можно объяснить на основе атомных и квантовых свойств и с помощью нескольких универсальных уравнений, был бы не более чем нелепым извращением истинно научного толкования [II], а биологи уже не страдали бы от зависти к физикам и не стыдились своего предмета как «мягкой», а не «жесткой» науки. Однако этому не суждено было случиться. Возобладали технологические, а не биологические аналогии, и в руках Декарта сами живые организмы превратились в подобие часов, устройства, где внутренние процессы поддерживаются сложными гидравлическими системами труб и клапанов.
Как известно, Декарт сделал кардинальное исключение для человека. Хотя повседневная работа человеческого организма была, по его представлениям, таким же механическим процессом, как и у животных, людей он признавал мыслящими существами и, что еще важнее, они имели душу, тогда как животные, по Декарту, способны лишь строго определенным образом реагировать на окружающую среду. Мысль и душа - бестелесные сущности, но они взаимодействуют с механизмами тела через специальный орган - шишковидную железу, расположенную в глубине мозга. Декарт выбрал эту железу по двум причинам. Во-первых, в отличие от всех других, парных, структур мозга, который и в целом состоит из двух более или менее симметричных полушарий, эта железа является непарным органом, она не дублирована. Это позволяет ей объединять все мыслительные процессы. Во-вторых, шишковидная железа имеется только у людей и отсутствует у животных. Разумеется, в обоих случаях Декарт был неправ. В мозгу много других непарных структур, а шишковидная железа есть и у остальных позвоночных. Однако почерпнутая из теории логика аргументации Декарта по-прежнему обращена к тем, кто вместе с ним хотел бы отстоять уникальность человека: «Немыслимо по моральным соображениям, чтобы какая-то машина была настолько универсальной, что могла бы действовать во всех случаях жизни так, как нас заставляет действовать наш разум» [12].
Именно отсюда берет начало провозглашенный Декартом разрыв между душой и телом - дуализм, который на три столетия затуманил научное и философское мышление запада навязчивым и необоснованным беспокойством относительно «проблемы сознания и мозга».
Однако сейчас декартовские сравнения с часовым механизмом и гидравлическими системами интересуют меня больше, чем картезианский дуализм. Современное движение в защиту прав животных во многом использовало в своих интересах эту сторону мышления Декарта, которая привела его к утверждению, что крики боли подопытных животных - это не что иное, как скрип несмазанных машин. Наиболее серьезно картезианские представления были восприняты французской физиологической школой в XIX веке (особенно Клодом Бернаром) с ее безразличным отношением к страданиям животных [13]. Современные нарекания на Декарта, разумеется, справедливы, но я бы добавил, что его метафоры вредны не только своей трактовкой природы животных, но не в меньшей мере - членением и уничижением цельного человеческого естества. Может быть, Декарт и сохранил для католицизма душу и разум, облачив их в лучший воскресный наряд и позволив им манипулировать рукоятками механизма через шишковидную железу, но на остальные шесть дней недели он оставил механического человека дебиологизированным и десакрализованным, как простую bete machine, совершенно не защищенным в условиях промышленной революции XVIII и XIX веков. Требовалось лишь время, чтобы технология бросила вызов декартовым «моральным соображениям».
Этой мрачной философии и идеологической ущербности противостоят, однако, крупные завоевания картезианства. Вывод о связи психических функций с мозгом, даже в механистически-метафорической форме, был отнюдь не тривиален. Мысль о мозге как о местонахождении разума и души не есть самоочевидная идея, какой бы естественной она ни казалась нам сейчас. По Аристотелю, эти функции сосредоточены в сердце, по мнению древних евреев - в почках и кишечнике. Представители медицинской традиции Галена показали, что нервы отходят от мозга и что двигательные и сенсорные функции выпадают после повреждения этого органа. Образ мышления, основанный на понятиях гидравлики, сосредоточивал внимание не на жирной, по виду бездеятельной ткани, образующей мозг, а на его заполненных жидкостью центральных участках - желудочках, которые на любовно сделанных рисунках старых анатомов выглядят не менее впечатляющими, чем на набросках Леонардо.
Как следствие, в ранних гидравлических моделях памяти именно желудочки служили хранилищем воспоминаний, оживляемых потоками духа, который в свою очередь управлялся клапаном между передним и задним отделами мозга. В учении Декарта эта исключительно важная задача возлагалась на шишковидную железу:
Когда душа желает что-нибудь вспомнить..., воля заставляет железу отклоняться то в одну, то в другую сторону, направляя дух в разные отделы мозга, пока он, наконец, не натолкнется в одном из них на следы, оставленные предметом, который мы хотим вспомнить. Такие следы существуют просто потому, что поры в мозгу, через которые дух проходил раньше при восприятии этого предмета, теперь более других склонны открываться, когда дух снова направляется к ним. И тогда дух легче выходит в эти поры, вызывая в железе то особое движение, которое указывает душе на тот же предмет, заставляет ее узнать в нем именно то, что она хочет вспомнить [14].
Это остроумное описание содержит в себе зачатки многих современных представлении о механизмах памяти, рассматриваемых в этой книге. Оно показывает также, сколь прямолинейно философы подходят к биологическим проблемам. В связи с этим мне особенно нравится употребление Декартом слова «просто»; если бы так оно и было...
Как следует понимать эти картезианские метафоры памяти? Возможно, Декарт считал свою теорию таким же точным описанием процессов, происходящих в мозгу, каким для Гарвея было сравнение сердца с насосом. Но мне кажется, что мы должны воспринимать эту теорию всего-навсего как поэтическую метафору, как способ осмысления такого сложного феномена, как человек, который рассматривается не как объект sui generis, а как один из типов движущейся материи.
На протяжении XVIII и XIX веков метафоры разума и памяти постепенно менялись. С открытием Гальвани «животного электричества» (лягушка, дергающая лапками, к которым подсоединены металлические провода) нервная система перестала быть водяным лабиринтом и стала электрической сетью. В этой сети мозг сначала служил телеграфной сигнальной системой, а потом (в начале нынешнего столетия) превратился в телефонную станцию. Эта новая аналогия особенно нравилась знаменитому нейрофизиологу Шеррингтону. (Другой незабываемый, но явно поэтический шеррингтоновский образ - это «волшебный станок», плетущий узоры из электричества.) В отличие от гидравлических аналогий сравнение мозга с телеграфной и телефонной системами уже не было просто поэтической метафорой. Например, телеграф, подобно мозгу, преобразует входную информацию в символы (в руках Морзе и его последователей - в особые коды для отдельных букв), которые можно передавать на большие расстояния и после приема расшифровывать. Принцип телефонной связи еще более сходен с принципами работы мозга, так как в этом случае речь переводится в особым образом модулированный поток электронов, направляемый по проводам. В телефонной модели мозга последний перерабатывает входную информацию в выходную, так что, например, сигналы от глаз могут переключаться на путь, ведущий к мышцам ноги, и т. п.
Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 181; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
