Онтология и гносеология фантастики 7 страница
Более уязвимыми с религиозно‑догматической точки зрения кажутся идеи самостоятельного воскрешения человечеством предшествующих поколений и космической экспансии. Последняя часто отождествляется с так называемой «теологией катапультируемого кресла» [48, с. 414–429], согласно которой трансцендирование трактуется не как экзистенциальное преодоление человеком собственных «границ», а как физическое преодоление границ своей планеты, затем – Солнечной системы и так далее – освоение всё новых миров по мере оскудения старых. Обстоятельную критику данной мировоззренческой позиции (безотносительно к «философии общего дела») дал католический мыслитель и писатель‑фантаст К. С. Льюис в своей «Космической трилогии» (1938–1946). Идущая в авангарде завоевания Вселенной наука в изложении Льюиса оказывается чем‑то вроде раковой опухоли, неукротимо разрастающейся и умертвляющей все остальные формы духовной активности. Здесь легко усмотреть передразнивание позитивистской трактовки науки как процесса приспособления человека к окружающей среде (Э. Мах), то есть приравнивания научной деятельности к физиологическому процессу, не имеющему трансцендентной цели. Главный аргумент Льюиса против сциентистской идеологии, олицетворенной в образе ученого‑физика Уилсона (в контексте описываемой Льюисом ситуации «ученый физик» звучит как «ученая обезьянка»), базируется на библейском пророчестве о конце света: космическая экспансия человечества бессмысленна, ибо «погибнут все миры» [118, с. 135–140]. Действительно, это обстоятельство, получившее к началу ХХ века научное обоснование, а к началу ХХI века вновь превратившееся в предмет научных дискуссий, стало камнем преткновения для многих выдающихся философов‑материалистов. Так, пытаясь определить для сознания достойную его как высшей формы развития материи роль в перспективе неотвратимой тепловой смерти Вселенной, Э. В. Ильенков с присущей ему последовательностью приходит к выводу о неизбежном самоубийстве человечества (у Ильенкова – романтическое «самопожертвование»), необходимом для «перезагрузки» Вселенной [70, с. 435–436].
|
|
|
Федоров же исходил из иных мировоззренческих предпосылок, а именно из той самой, философски переосмысленной, христианской идеи об о жения природы и человека: цель преображения Вселенной трудом объединенного человечества мыслитель видел в упорядочивании космоса по образу храма, то есть руководствовался христианской идеей Церкви как тела Христова. Предшествовать выполнению этой задачи‑максимум должно тотальное преобразование Земли, апофеозом которого Федоров считал воскрешение предков. Непосредственная реализация данной технонаучной задачи, требующая кардинальной переорганизации природопользования на принципах коэволюции (как это сейчас называют, хотя Федоров данного термина не использовал), означала бы, что человечество в состоянии обеспечить себе неопределенно долгое существование за счет ресурсов собственной планеты и его расселение в космосе обусловлено не страхом перед смертью, гибелью Земли (как трактовал подобные экспансивные настроения Льюис), но целями нравственно‑философского характера, способность ставить и осуществлять которые традиционно признается в качестве «человеческого в человеке». В космической экспансии вне преображения Земли и воскрешения отцов, а, наоборот, в целях побега с окончательно разоренной утилитаристским мышлением планеты Федоров, в отличие от приверженцев нерелигиозной по своему существу идеи спасения любой ценой, не видел никакого смысла. Такое развитие событий в контексте «философии общего дела» ничуть не предпочтительнее конца света. Таким образом, к позитивистской в своей сути «теологии катапультируемого кресла» учение Федорова не имеет никакого отношения. Напротив, в контексте научного мышления (по крайней мере, в классической и неклассической науке) нет явной связи между воскрешением предков как нравственным императивом и выходом в космос как научно‑технической задачей. Уже К. Э. Циолковский, младший современник Федорова, полностью отделил научно‑технический аспект проблемы колонизации космоса от ее религиозно‑нравственных предпосылок. Необходимость выхода за пределы Земли отец советской космонавтики связывал именно с предотвращением гибели человечества и эксплуатацией космических ресурсов [222, с. 1–2, 37–39], то есть с сугубо прагматическими задачами.
|
|
|
|
|
|
Что же касается К. С. Льюиса, то приходится признать, что вместо попытки сопряжения в пространстве художественного произведения различных форм рациональности он использует возможности художественной фантастики для критики с позиций католического христианства научной фантастики и «одностороннего рационализма». Однако сама эта критика имеет односторонний характер: сталкивая между собой религию и науку, Льюис пытается показать, что только та из них имеет право на существование, которая обладает абсолютной истиной (то есть религия, точнее – «просто христианство»). Вместе с тем современная эпистемология учит, что адекватное знание о мире может быть получено только с помощью как минимум двух взаимонепереводимых языков [115, с. 14].
|
|
|
Тем не менее в идее воскрешения предков с помощью технонауки, ключевой для всего федоровского Проекта, многие мыслители (от Г. В. Флоровского до Б. М. Парамонова) видят не взаимодополнительность научной и ненаучных форм рациональности, а подавление наукой иных форм мироосвоения. Уместно будет вспомнить и мнение друга К. С. Льюиса – Дж. Р. Р. Толкина, осуществившего в своем творчестве оригинальный синтез идей поли- и монотеизма. Толкин фактически ставит знак тождества между магией и высокими технологиями (превращенной формой науки): «Проблема Машины выросла из проблемы Магии» [186, с. 246–247]. Причиной же магии, по Толкину, является бунт против установленных Творцом законов, и в первую очередь против смерти. С этой точки зрения федоровство оказывается если и не сатанизмом, то уж точно титанизмом, богоборчеством. На самом же деле (по крайней мере, согласно православному богословию) смерть ни в коем случае не является законом Божьим, напротив, это результат грехопадения как нарушения установленного Богом запрета («закона»). Тем не менее даже сочувственно относившийся к «философии общего дела» Н. В. Устрялов писал в 1934 году о федоровцах: «Объективная логика их веры, преломляясь в стихийном сознании современных человеческих масс, способна обернуться безрелигиозной в своем существе, самовлюбленно‑человеческой, фетишистски‑науковерческой душой бездушно‑машинной эпохи» [192]. Этому способствует фактическое игнорирование Федоровым в своих рассуждениях загробной жизни души, соучастия Бога в об о жении человечества и прочих «последних вопросов», попытки объяснить которые «духовным целомудрием» философа [143, с. 756] не выглядят убедительными, парадоксально напоминая бытовавшую в советской философии традицию оправдания религиозной проблематики в произведениях Р. Декарта, И. Канта, М. В. Ломоносова и многих других философов Нового времени их страхом перед инквизицией. Иначе говоря, нельзя, конечно, отрицать возможную близость подобных трактовок к исторической истине, но, как сказал бы А. М. Пятигорский, продуктивнее для мышления попытаться найти законное место для Бога (или – в случае Федорова – для умолчания о Нем) непосредственно в контексте философских построений соответствующих мыслителей, а не только в историческом и культурном контексте создания этих концепций.
На наш взгляд, хотя задачей человечества, по Федорову, фактически является предотвращение второго пришествия, это еще не означает отмену божественного участия в Проекте. В конце концов, несмотря на все прогнозы, не исключено, что природа сознания так и останется нераскрытой. Так, в 1988 году Г. Моравек утверждал, что создание эквивалента сознания сводится к достижению определенной скорости обработки информации (10 триллионов операций в секунду – в то время как еще в середине 1990‑х годов высшая скорость, достигаемая «пентиумами», равнялась около 110 млн/сек); к 2003 году была достигнута скорость 41 триллион операций в секунду [48, с. 406], но ИскИн все еще не создан. И пока остается лишь гадать: сохранится ли тождественность личности при воссоздании тела? Напрашивается закономерный вывод, что это и является пробным камнем истинности/неистинности федоровского учения: ведь именно так сможет проявиться со участие Бога в Общем деле. Нечто подобное мы находим в концепции «иерархического персонализма» Н. О. Лосского, который, отмежевываясь от дарвинизма, писал, что переход каждого субстанциального деятеля на более высокий эволюционный уровень существования опосредуется Богом с помощью «транскреации» («дополнительного акта творения») [113, с. 51; 90]. Аналогично, свидетельством того, что федоровский Проект оказался самочинством, а не исполнением Божьей воли будет, например, если, несмотря на безукоризненность технологического обеспечения процесса воскрешения, воскрешенные так и не выйдут из комы, сохраняя лишь вегетативное существование; а то и в прямом смысле окажутся бесноватыми, то есть ходячими трупами из русских быличек или повести «Реаниматор» Г. Лавкрафта – с бесами вместо душ (которые, например, в это время будут мучиться в аду – как это, в частности, описано Данте в «Божественной комедии» [43, с. 214–215])[15]. Но может произойти и так, что часть «отцов» окажется после воскрешения собой, часть – «чужими». В данном случае, кстати, осуществляется своеобразная диалектика свободы и предопределения: отстаиваемая Федоровым активность человечества в деле своего спасения и об о жения сохраняется, но вместе с тем происходит и предсказанный в Апокалипсисе Страшный суд: именно Всевышний принимает окончательное решение по каждой конкретной душе – воссоединиться ей со своим обновленным телом для жизни в Новом Иерусалиме (федоровской «психократии») или остаться навсегда разъединенной со своей физической «половинкой», а то и вовсе развоплощенной («ад»). Соучастие Господа в Проекте подразумевает, что воскрешение остается таинством, то есть не может быть полностью технологизировано, поставлено «на поток» (подобно тому, как любой святой чудотворец не может до конца постичь разумом природу тех божественных энергий, проводником которых является). Могут возразить, что такая трактовка противоречит самой сути федоровского учения, ведь мыслитель настаивал именно на воскрешении всех до единого усопших отцов. Однако, на наш взгляд, оригинальность «проекта общего дела», его «нерв», главный нравственный смысл не в том, что «все спасутся», а в требовании от каждого сделать для этого все возможное. В этом, кстати, очередное доказательство безусловной религиозности Федорова, присущей ему склонности – вполне в русском духе – к буквальному пониманию слов Священного Предания: вера без дел (в пределе – без Общего дела!) мертва есть. Не просто «молиться за проклинавших вас и за обижавших вас и творивших вам злое» (надеясь при этом, что Бог все равно воздаст «каждому по делам его», – часто встречающаяся среди верующих форма двоемыслия), но лично попытаться вернуть им радость жизни.
Конечно, если спасти всех без исключения предков не суждено, то напрашивается крамольный вывод, что смысл священной и профанной истории сводится к переходу от единства совершенного нетварного бытия к закреплению в вечности рассечения бытия на совершенное божественное (включая воссоединенную с Богом, об о женую часть человечества) и на несовершенное, ущербное (независимо от того, геена ли это огненная с бесами и грешниками или «состояние отвержения Бога» в своей окончательной внешней выявленности и застылости, как ад интерпретируют современные богословы [215, с. 180]). Тем не менее дело, в конце концов, не в том, что Федоров (или любой из нас) в свое время думал о замысле Всеведущего, а в том, что Господь Бог думает о федоровском Проекте в вечности.
Наконец, необходимо признать вероятность еще одного исхода попыток воскрешения. Ведь неизвестно, с каким опытом воскреснут усопшие – вдруг на его основании однозначное заключение о существовании Бога сделать будет нельзя? Или, быть может, опыт этот окажется несовместимым с христианскими представлениями о потустороннем бытии или вообще – с представлением о существовании Всевышнего? В любом случае, вера в санкционированность «проекта общего дела» Богом, как и личная религиозность Федорова, не могут быть опровергнуты подобными предположениями вне их опытного подтверждения (то есть вне осуществления Проекта).
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что федоровский Проект предполагает именно взаимодополнительность различных форм рациональности как необходимое условие воспроизводства и реализации конститутивных для любой из них ценностей и целей. Так, по Федорову, только благодаря успехам технонауки станет возможным воскрешение предков; с другой стороны, постановка подобных целей может форсировать возникновение необходимых технологий. Например, уже к 1930‑м годам существовали теоретические предпосылки для разработки пресловутых нанотехнологий, точнее, той из них, которая заключается в создании нанороботов, способных собирать макрообъекты из отдельных атомов – ведь, по сути, нанотехнология в рассматриваемом нами смысле является одним из приложений квантовой механики – наряду с телепортацией и квантовым компьютингом [131, с. 89–121]. Нужно было только сформулировать соразмерную задачу (равно как и запуск космической ракеты с человеком на борту в принципе могли осуществить уже нацисты, если бы задачи немецкой науке ставил не А. Гитлер, а Вернер фон Браун). Воскрешение некогда живших людей путем их поатомной сборки как раз и могло стать такой задачей – по масштабу сопоставимой с Манхэттенским проектом, только, в отличие от последнего, направленной не на тотальное уничтожение человечества, а на его тотальное же восстановление. В «Философии общего дела» Федоров прямо указывал на необходимость обратить внимание «на малые частицы, состоящие из колоссально громадного числа частичек, кои также должны быть обращены в человеческое хозяйство» [195, с. 124].
Употребление животных в пищу едва допустимо по многим причинам. Мы мучаем животных, но ведь и мы можем возникнуть в их форме, и нас будут убивать и бить кнутом. …Животных совсем не должно быть, чтобы не было их мучений…
К. Э. Циолковский. Права и обязанности человека
Прогноз автоэволюции «сферы разума»: Н. Ф. Федоров vs К. Э. Циолковский. – Космическая философия Циолковского как натурфилософская интерпретация идей русского религиозного космизма. – Человекобожническая этика и космодицея Циолковского. – Возможность технократической трактовки федоровского богочеловечества.
В контексте рассматриваемой темы имеет смысл краткий сравнительный анализ некоторых наиболее существенных положений «философии общего дела» Н. Ф. Федорова и «космической философии» К. Э. Циолковского, сходство между которыми подчас неоправданно преувеличивают, пытаясь вывести все постулаты космософии калужского ученого из «философии общего дела»: мол, проект космической ракеты Циолковский разрабатывал исключительно (а не «в том числе и») для решения поднятой Федоровым проблемы расселения воскрешенных предков (хотя сам Циолковский писал, что о «философии общего дела», оказавшей на него большое влияние, узнал уже после смерти Федорова и выхода своей книги «Исследование мировых пространств реактивными приборами»[16] [47]).
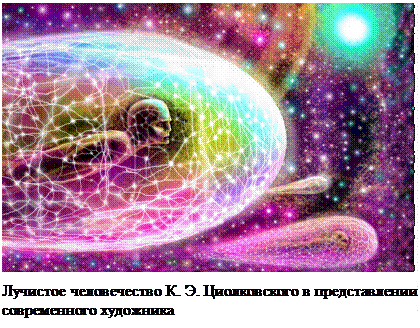 Основываясь на современных ему научных представлениях о ничтожно малом, стремящемся к полному исчезновению, количестве вещества во Вселенной, Циолковский пишет о том, что конечным результатом эволюции человечества будет переход из «корпускулярного вещества» в «лучевую энергию», которая заполнит все космическое пространство. При этом, по мысли Циолковского, это состояние Вселенной через несколько миллиардов лет вновь перейдет в корпускулярное, «но более высокого уровня»… – наконец, через неопределенное число космических циклов человечество превратится в лучистую энергию наивысшего порядка и «будет все знать и ничего не желать» [223, с. 671], то есть в результате эволюции человечество станет Вселенной. Такова натурфилософская интерпретация Циолковским идей русских религиозных космистов о всеединстве и одухотворении материи. Важно отметить, что речь идет не о богочеловечестве, а о человекоб о жестве: человечество, тождественное Вселенной, представляющее собой – в буквальном, а не переносном, как у О. Конта, смысле – единое существо, – это и есть единственно допустимое (учитывая отрицание Циолковским трансцендентного Абсолюта) божество. Такое божество, кстати, оказывается удивительно похожим на гераклитов разумный огонь (Логос), из которого возникает Вселенная и в который она, пройдя полный цикл своего развития, превращается. Следствием человекобожнической философии Циолковского стали попытки найти обоснование общественной морали в индивидуальном эгоизме (с помощью оригинальной интерпретации идеи метемпсихоза): если «устранить на Земле все дурное, все несчастное, все жалкое, все страдания и все горести», то «я не буду бояться рождения в образе мучительно убиваемого и терзаемого животного, в образе человека жалкой расы, в образе больного, калеки, идиота» [241, с. 403]. Отсюда Циолковский делает вывод о том, что «разум, наука и эгоизм заставляют меня стремиться к святости в самом высоком смысле слова» [220, с. 403]. Однако, хотя сам ученый предлагает окружать «глупых и калек» заботой, «лишь» запрещая им иметь потомство, подобный гуманизм объясняется разве что непоследовательностью и прихотливостью мышления Циолковского и никак не следует из внутренней логики его рассуждений. На наш взгляд, практическим следствием из данных рассуждений является не опека общества над «неполноценными» гражданами, а их прямое уничтожение (сродни популярному аргументу в защиту смертной казни: «Зачем общество должно тратить средства на содержание этих выродков?»). Таким образом, можно сделать вывод, что замена страха перед Богом страхом перед будущим воплощением в «низшей» форме жизни и идеалом человекобожества является ненадежным фундаментом этики.
Основываясь на современных ему научных представлениях о ничтожно малом, стремящемся к полному исчезновению, количестве вещества во Вселенной, Циолковский пишет о том, что конечным результатом эволюции человечества будет переход из «корпускулярного вещества» в «лучевую энергию», которая заполнит все космическое пространство. При этом, по мысли Циолковского, это состояние Вселенной через несколько миллиардов лет вновь перейдет в корпускулярное, «но более высокого уровня»… – наконец, через неопределенное число космических циклов человечество превратится в лучистую энергию наивысшего порядка и «будет все знать и ничего не желать» [223, с. 671], то есть в результате эволюции человечество станет Вселенной. Такова натурфилософская интерпретация Циолковским идей русских религиозных космистов о всеединстве и одухотворении материи. Важно отметить, что речь идет не о богочеловечестве, а о человекоб о жестве: человечество, тождественное Вселенной, представляющее собой – в буквальном, а не переносном, как у О. Конта, смысле – единое существо, – это и есть единственно допустимое (учитывая отрицание Циолковским трансцендентного Абсолюта) божество. Такое божество, кстати, оказывается удивительно похожим на гераклитов разумный огонь (Логос), из которого возникает Вселенная и в который она, пройдя полный цикл своего развития, превращается. Следствием человекобожнической философии Циолковского стали попытки найти обоснование общественной морали в индивидуальном эгоизме (с помощью оригинальной интерпретации идеи метемпсихоза): если «устранить на Земле все дурное, все несчастное, все жалкое, все страдания и все горести», то «я не буду бояться рождения в образе мучительно убиваемого и терзаемого животного, в образе человека жалкой расы, в образе больного, калеки, идиота» [241, с. 403]. Отсюда Циолковский делает вывод о том, что «разум, наука и эгоизм заставляют меня стремиться к святости в самом высоком смысле слова» [220, с. 403]. Однако, хотя сам ученый предлагает окружать «глупых и калек» заботой, «лишь» запрещая им иметь потомство, подобный гуманизм объясняется разве что непоследовательностью и прихотливостью мышления Циолковского и никак не следует из внутренней логики его рассуждений. На наш взгляд, практическим следствием из данных рассуждений является не опека общества над «неполноценными» гражданами, а их прямое уничтожение (сродни популярному аргументу в защиту смертной казни: «Зачем общество должно тратить средства на содержание этих выродков?»). Таким образом, можно сделать вывод, что замена страха перед Богом страхом перед будущим воплощением в «низшей» форме жизни и идеалом человекобожества является ненадежным фундаментом этики.
Кроме того, Циолковский разработал своего рода космодицею, выступающую у него эрзацем христианского учения о всеблагости Божьей. Мы имеем в виду экстраполяцию Циолковским своей «этической теории» на развитие других цивилизаций Вселенной, в существовании которых ученый не сомневался. В своих очерках о Вселенной, после смерти мыслителя изданных единой книгой с таким же названием, он доказывает, что в ходе космической экспансии древние внеземные цивилизации ликвидировали («по возможности без мучений») более примитивные формы жизни везде, где те встречались, заселяя соответствующие планеты собственным населением. В результате несчетное число планет было избавлено от мучительного многомиллионнолетнего процесса саморазвития жизни. Таким образом, мироздание сплошь заселено совершенными жизненными формами – за исключением малой части планет (включая Землю), оставленных в качестве контрольной группы. На основании этих умозаключений Циолковский делает вывод о том, что все страдания человечества – бесконечно малая величина в сопоставлении с общим количеством уже достигнутого и будущего счастья во Вселенной. Н. М. Ефимова, отмечая типичность для Циолковского данного аргумента, поясняет его примером из другого места «Очерков…»: черный лист бумаги не становится белым от упавшей на него белой былинки [61, с. 61, 42]. Но ведь и абсолютно черным он уже не может быть признан, и именно в этом смысловом контексте используется данный пример ученым (под белой былинкой на черном фоне гилозоистом Циолковским подразумевается чувствительность неорганической материи, ее потенциальная «одухотворенность»). Равно как и страдание, каким бы малым оно ни было, не может быть снято бесконечностью будущего счастья, остается червоточиной в его основе. Таким образом, фигурально говоря, есть в эвдемонизме Циолковского нечто демоническое.
Добавим, наконец, что в свете астрономических открытий второй половины ХХ века (доказательство существования у галактик скрытой массы, а также продолжающиеся споры о сущности фантомной энергии) основополагающий для философской антропологии Циолковского тезис об исчезающе малом количестве вещества во Вселенной, на наш взгляд, был заметно поколеблен. Кроме того, отношение к природе не как к храму, а как к мастерской, характерное для Циолковского в частности и для науки начала «космической эры» в целом, но прямо противоположное федоровскому пафосу, в эпоху глобального экологического кризиса было фактически дискредитировано. В последней трети ХХ века в качестве «стратегии Разума» учеными был провозглашен «нравственный императив» [138, с. 216–232], а выявление связей между внутринаучными ценностями и вненаучными, в частности нравственно‑философскими, признано необходимым условием объективного изучения открытых саморазвивающихся систем, к которым относится и биосфера.
Вместе с тем можно выявить определенную взаимосвязь между призывами Циолковского к постепенному уничтожению низших жизненных форм (то есть вообще всех видов животных, кроме человека) и трактовкой Федоровым животного царства как ненормального состояния живого вещества, обособления его в качестве особых существ (млекопитающих, птиц, рыб и пр.) вместо того, чтобы быть органами человека [195, с. 139]. Идея трансформации живой и неживой природы в органы богочеловечества в принципе может быть истолкована как полное замещение биосферы техносферой с одновременной загрузкой продублированного сознания отдельных людей в информационные сети и всевозможную робототехнику. В конце концов, такому сверх(пост)человеку будет гораздо проще осваивать космос, как то грезилось «великому учителю и утешителю» (одновременно, кстати, снимается занимавшая Федорова проблема преодоления пола). В контексте сказанного не будет натяжкой интерпретация уэллсовских марсиан в качестве подобных «зачеловеков» (термин В. В. Хлебникова), целью которых было «преображение» нашей отсталой планеты. Возможно, федоровский постчеловек даже не распозн а ет в аборигенах разумных существ и просто включит их составной частью в систему обеспечения своей жизнедеятельности (подобно тому, как уэллсовские марсиане превращали людей в элемент своей кроветворной системы – попросту высасывая из них кровь).
С другой стороны, подобная интерпретация «философии общего дела» далеко не единственно возможная и вовсе не приоритетная: во всяком случае, Федоров, в отличие от Циолковского, нигде прямо не призывает к уничтожению животного мира, зато пишет о необходимости его одухотворения. Эти идеи, кстати, получают сейчас новое звучание в связи с проводящейся в последние десятилетия экспериментальной работой по выявлению и развитию у животных, в частности у высших приматов, способностей, традиционно относимых к человеческой духовности (освоение языка жестов и обучение ему детенышей, формирование новых понятий, чувство юмора, нравственные чувства, сплетничанье и др.)[17].
В конце концов, тем, кто, подобно Б. М. Парамонову, безапелляционно записывает Федорова в предтечи большевизма (кстати, также называли и Л. Н. Толстого, и Петра Великого, так что Николай Федорович оказался не в самой плохой компании), не мешало бы вспомнить судьбу адептов «философии общего дела» – А. К. Горского, Н. А. Сетницкого, В. Н. Муравьева, расстрелянных в 1920–1930‑е годы, и сравнить ее, при всех возможных оговорках, с положением Циолковского при советской власти.
2.2. Художественная фантастика
как «коперниканское искусство»
Искусство есть творческое воображение, иначе говоря, воплощение любимого образа – в камне, в цвете, в звуке, в жесте, в плоти и крови. Искусство есть преображение низших бессознательных и подсознательных сил, возведение их к высшему, великий порыв к сублимации, призыв к преображению всей жизни.
Б. П. Вышеславцев. Этика преображенного Эроса
Величайшее могущество фантазии! В голоде, холоде, терроре она создавала образы прекрасных людей, будь то скульптура, рисунки, книги, музыка, песни, вбирала в себя широту или грусть степи или моря. Все вместе они преодолевали инферно, строя первую ступень подъема. За ней последовала вторая ступень – совершенствование самого человека, и третья – преображение жизни общества. Так создались три первые ступени восхождения, и всем им основой послужила фантазия.
И. А. Ефремов. Час Быка
Парадокс русского любомудрия: «триединство истины, добра, красоты» и абортированная «естина». – Федоровский призыв к трансформации «птоломеевского искусства» в «коперниканское».
Пересоздание эмпирической и экзистенциальной реальности искусством – одна из ключевых интенций русской художественной философии, что не раз отмечалось отечественными мыслителями, например С. Н. Булгаковым: «Искусство хочет стать не утешающим только, но действенным, не символическим, а преображающим. Это стремление с особою силой осозналось в русской душе, которая дала ему пророчественное выражение в вещем слове Достоевского: красота спасет мир» [25, c.146].
Разочарование в способности искусства преобразить жизнь буквально, а не в воображении, не в форме художественного произведения, а посредством придания самому бытию совершенной формы для русских писателей‑мыслителей нередко означало бессмысленность художественного творчества и даже жизни как таковой. Вспомнить хотя бы Н. В. Гоголя с К. Н. Леонтьевым, которые, спалив свои незаконченные произведения, остаток жизни провели в ожидании скорого апокалипсиса; или Л. Н. Толстого, публично отрекшегося от своего художественного наследия и избежавшего самоубийства только посредством разработки собственного варианта христианства; или создателя своеобразной художественной эсхатологии А. Н. Башлачева, покончившего с собой (перед этим тоже сжегшего рукописи новых песен)… Неспособность художественного творчества прямо преобразить падшую материю расценивалась двояко: либо конец света неотвратим, и тогда на первый план выходит личное спасение («Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся»), а всякое искусство оказывается лишь относительной ценностью, то есть в пределе – бессмысленно (в итоге – уничтожение Гоголем второго тома «Мертвых душ» и фактическое самоубийство посредством систематического отказа от пищи); либо отрицалась боговдохновенность Апокалипсиса, а с ним и Библии в целом и, как следствие, утверждался приоритет реалистического искусства над идеалистическим, в пределе – примат социального заказа над искусством (будь то «Окна Роста» или так называемая «фантастика ближнего прицела», фактически дискредитировавшая саму идею фантастики).
Здесь мы вплотную подошли к одному парадоксу русского любомудрия, для прояснения которого лучше всего обратиться прямо к корням – к рассуждениям отца славянофильства А. С. Хомякова. Приведем сжатую, но весьма репрезентативную выдержку из его «Семирамиды»: «Многие истины, какие только дано пожать человеку, передаются от одного другому без логических доводов, одним намеком, пробуждающим в душе скрытые ее силы. Мертва была бы наука, которая стала бы отвергать правду потому только, что она не явилась в форме силлогизма» [213, с. 55]. Как свиде-
тельствует дальнейшее развитие русской философии, из такого, в целом справедливого, хода мысли был сделан вывод о «мертворожденности» науки как таковой, а следовательно, и о европейской цивилизации (поскольку именно в ней наука оформилась в самостоятельный институт) как симптоме упадка культуры, гниения и разложения; в ХХ веке эта идея получила разработку и в западноевропейской философии, прежде всего в трудах О. Шпенглера. В то же время поскольку наиболее адекватной формой для выражения интуитивно усмотренных истин является искусство (что всегда было интуитивно ясно, а сейчас еще и научно доказывается, причем физиками [203]), то апология живознания фактически привела к противопоставлению художественного («экзистенциального») философствования «научному», то есть русские религиозные философы сами оказались в плену «первородного греха» односторонности. Притом что отечественная религиозно‑философская традиция фундирована идеалом триединства истины, добра и красоты, под «истиной» в этой триаде часто понималась вовсе не научная «естина».
В связи с этим важно также отметить, что, пресекая с самого начала «соблазн аскетического отвержения культуры» (как это с удовлетворением отмечает известный агиограф и философ Г. П. Федотов [200, с. 47]), наша религиозная мысль оказалась уязвима перед соблазном прельщения культурой, что, например, по отношению к К. Н. Леонтьеву Н. А. Бердяев выразил фразой: «Он был очень православным, но не вполне христианином» [15, 163–164]. Однако Бердяев был полностью солидарен с Леонтьевым в негативной оценке научно‑технического прогресса – именно из‑за его разлагающего влияния на традиционные культурные ценности: «В России прерывается культурная традиция. Предстоит страшное понижение уровня культуры, качества культуры. Россия в преобладающей своей части сделается царством цивилизованного крестьянства. Новая русская буржуазия… предъявит спрос на техническую цивилизацию, но не будет нуждаться в высшей культуре, всегда аристократической» [17]. Характерно, что Ф. М. Достоевскому во Всемирной выставке («прародительнице» всевозможных нынешних выставок высоких технологий и фестивалей науки) и вовсе примерещилось «какое-то пророчество из Апокалипсиса» [52, с. 93]. Но дело в том, что в христианской теологии культурные ценности, в том числе и шедевры искусства, имеют лишь относительный характер, преклонение перед ними равносильно идолопоклонству, а сама культура понимается как симптом болезни духа [91]. В этом смысле разоблачение наукой разнообразных культурных табу не обязательно является сатанинскими происками, но, напротив, может выступать в качестве профилактики идолопоклонства – превращения тех или иных культурных форм в самодовлеющие ценности, говоря иначе – отождествления религиозного сознания со своими культурными формами. Так, коперниканский переворот, теория эволюции и психоанализ, воспринимавшиеся некогда как могильщики религии, в конечном итоге были интегрированы в христианскую картину мира и лишь упрочили ее философские основания, освободив отдельные догматы от буквалистских трактовок. Об этом прямо писал В. И. Вернадский: «Рост науки неизбежно вызывает в свою очередь необычайное расширение границ философского и религиозного сознания человеческого духа; религия и философия, восприняв достигнутые научным мировоззрением данные, все дальше и дальше расширяют глубокие тайники человеческого сознания» [26, с. 214].
Дата добавления: 2016-01-05; просмотров: 19; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
