Перед дуэлью: Эпиграф к XVII главе
…В уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
А.С. Пушкин
Как эпиграф связан с содержанием этой главы? Почему только в этой главе есть эпиграф? Как с помощью эпиграфа акцентируется проблема преодоления героем «литературности» жизни и возвращения к самому себе, обретения подлинной человечности?
Главе 17(единственной!) предпослан пушкинский эпиграф – строки из стихотворения «Воспоминание». (уже само по себе это знак особого значения этой главы). Это стихотворение, особенно фрагмент, взятый в качестве эпиграфа, связаны с тем, что происходит с героем. Мучительный процесс возвращения к самому себе – честное переживание по поводу собственной жизни, переоценка своего существования и беспощадная, жесткая правда, высказанная самому себе: «Истина не нужна была ему, и он не искал ее, его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала; он, как чужой или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям… он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, не пошлой строчки, не сделал людям ни на один грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями и чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь…» Здесь нет никаких цитат и отсылок к литературе. Литература уходит в эпиграф, восстанавливая свою прямую ценностную и эстетическую функцию. Сам герой перестает играть в литературных персонажей. Он добрался до себя настоящего, это помогло ему увидеть по-другому и Надежду Федоровну как родного и близкого человека.
|
|
|
Показательно, что и потом в сцене дуэли он остается прежним- серьезным и настоящим. В отличие от фон Корена, который вновь прибегает к спасительной литературе как средству уйти от реального понимания происходящего. И только в финале, даже растерявшись от произошедшего с героями чуда преображения, он начинает говорить иначе, чем раньше. Произносит совершенно неожиданное: «никто не занет настоящей правды». Эти слова затем повторит Лаевский. Сцена отплытия фон Корена может читаться как символическая.
Да, никто не знает настоящей правды..." - думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море. "Лодку бросает назад, - думал он, - делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн (…) Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды..." Здесь, как и в эпиграфе (правда, не точная цитата, а только аллюзия) особым образом «присутствует» Пушкин – аллюзия на его знаменитое –«Плывет. Куда ж нам плыть? из стихотворения «Осень». Но это уже не «литературность», заслоняющая от человека истину, это Поэзия, (не случайно взят – Пушкин – абсолютная величина!). Это поэзия, без которой возвращение к себе невозможно.
|
|
|
Остановимся на двух наиболее заметных интерпретациях «Дуэли». Это киноверсия и спектакль.
Речь идет о фильме Иосифа Хейфица
«ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК», СССР, ЛЕНФИЛЬМ, 1973г. Жанр – трагическая мелодрама.



Чеховская повесть «Дуэль» экранизирована И. Хейфицем максимально бережно и чутко. Режиссеру удалось передать атмосферу трагического одиночества петербургских интеллигентов в чуждой им культурной среде. Лаевский в исполнении Олега Даля, как и у Чехова, — человек во многих
отношениях слабый, но находящий силы удержаться от полного падения. Фон Корен в исполнении В. Высоцкого не такой отчаянный ницшеанец, как у Чехова, он не последователен в своем презрении к слабым. Максакова в роли Надежды Петровны по цензурным условиям советского времени не могла в полной мере раскрыть образ, описанный в повести — женщины, «поддавшейся желаниям», этим же объясняется и снижение образа Дьякона, ведь священнослужитель просто не мог вызывать положительных чувств.
|
|
|
Спектакль в МХТ (2011).








Афиша спектакля
ДУЭЛЬ Антон Чехов Режиссер и автор сценической версии - Антон Яковлев Художник - Николай Слободяник Художники по свету: Антон Яковлев, Николай Слободяник Композитор - Александр Маноцков Действующие лица и исполнители: Лаевский - Анатолий Белый Фон Корен - Евгений Миллер (Театр им. Гоголя, Театр-студия п/р О. Табакова) Самойленко - Дмитрий Назаров Надежда Федоровна - Елена Панова дьякон Победов - Валерий Трошин.
Можно отметить бережное отношение к тексту и замыслу автора. Атрибут (сценография) всех сцен – подвешенные вертикально веревки – знак несвободы героев, неподлинности жизни, которой они живут.
Антон Яковлев, режиссер и автор сценической версии так прокомментировал свой замысел, опираясь, между прочим, на суждения литературоведов – В. Катаева и В. Линкова: «Случайные люди, объединенные только временем и пространством. Все они сейчас вне дома. Они на Кавказе. Никто из них не знает друг о друге настоящей правды. Почти все в состоянии конфликта. Кто-то пытается просто жить. Кто-то ищет смысл в своем существовании. Постоянная дуэль с самим собой или друг с другом… Может ли их что-нибудь объединить или каждый должен найти свой путь в одиночку?..»
|
|
|
«Да, никто не знает настоящей правды..." - думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море. "Лодку бросает назад, - думал он, - делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн (…) Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды..." Лодка, в которую садится фон Корен, подчеркивает символику финала.
Лекция 9.
Повесть И.А. Бунина «Суходол» и ее первая экранизация (2011 г.).
В 1910–1912-м гг. Буниным, как известно, очень интенсивно создавались произведения о России, русском человеке. Вершинным среди них, безусловно, стала повесть «Суходол» (1912).
Повесть достаточно изучена и традиционно интерпретируется как история еще одной разорившейся дворянской усадьбы, где столько же иронии и жесткости, сколько грусти и пронзительных ностальгических интонаций.Кроме того, это одна из книг, в которой, по признанию самого писателя, автора «занимает главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина» (3, 477–478).
В отличие от «Деревни» (1910), которая вызвала возмущение жестокостью авторских оценок и настоящую сенсацию, «Суходол» был принят критикой сдержанно и, как совершенно справедливо заметил Ю. Мальцев, «никто из современников не понял ошеломляющей новизны этого произведения, одного из самых оригинальных и совершенных в русской литературе начала века». Далее, обобщая свои наблюдения, он по пунктам разъясняет, в чем состоит «ошеломляющая новизна» бунинской вещи: «В “Суходоле” Бунин дал совершенно новое построение сюжета (без хронологии, с упраздненным реальным временем), новую повествовательную форму (многоголосие), новую обрисовку персонажей (импрессионистскими штрихами…), новую трактовку темы “семейной хроники” и более широко – судьбы народа (не социологическую, не бытописательскую, а исходящую и глубин народной души и ее подсознательной, метафизической жизни)».
Очень точно и тонко распознав природу «Суходола», исследователь, к сожалению, только обозначил «элементы новизны», определяющие художественный мир повести, не развернув их анализом, увязывающим их в неподражаемую «живую жизнь» именно этого, ошеломляюще-особенного бунинского текста. Надо признать, что произведение – из числа тех, к которым исследователь подходит с большим трепетом и известной долей самоиронии, поскольку свобода, тайна и высочайший уровень художественного слова здесь как бы изначально самодостаточны, превосходят и «перекрывают» все попытки системных и обстоятельных интерпретаций.
В полной мере сознавая это, попробуем все же показать, как достигается в «Суходоле» «освобождение» от времени и как пространственный компонент, перерастая в философию пространства, «работает» на общую концепцию произведения.
Повесть построена таким образом, что в ней с потрясающей силой передана особая магия и притягательная сила места, магия замкнутого, ограниченного пространства. Локальная «закрепленность», «привязанность» к определенному топосу обозначена уже названием повести. При этом название, а точнее – имя усадьбы изначально воспринимается по-особому, порождает «целый шлейф» образов, воспоминаний, ассоциаций, обрывочных и цельных картин. Можно сказать, что в первой главке, предваряющей посещение усадьбы молодыми Хрущевыми, само имя «Суходол» обретает некую уникальную перспективу, создавая вокруг себя то, что принято называть «аурой». Восприятие того, что именуется Суходолом и является поначалу для повествовательной инстанции «только поэтическим памятником былого», на самом деле во многом строится по аналогии с восприятием культового образа, основывающемся на сложнейшем соотношении далекого и близкого.Казалось бы, что может быть ближе Суходола – родовой усадьбы, «родного гнезда» всех суходольцев, однако как бы предельно ни приближались герои к Суходолу, им так и не удается «пробиться» к нему, «вместить» его, овладеть его ускользающей тайной. Существует некая дистанция на «приближаемость», которую невозможно преодолеть. И даже когда герои оказываются непосредственно в усадьбе, в том месте, о котором они так много слышали и под обаянием которого находились так долго, они не намного «приближаются» к нему. Тайна непреодолимости некой мистической дистанции по отношению к Суходолу по-прежнему остается, несмотря на то, что представляемое и воображаемое отчасти вытесняется увиденным, а, следовательно, остается и особая «аура» имени, помноженная уже на «ауру» места.
Случилось так, что старшие суходольцы «забыли» о времени, в том числе и о скоротечности собственной жизни, они живут «пространством» своей усадьбы, нередко восполняя пребывание за ее пределами, фактическое, реальное ее «отсутствие» постоянным, даже навязчивым «присутствием» в воображении, в снах, в мечтах. Поразительна, таинственна, глубока и страшна привязанность героев к Суходолу, необъяснимая рассудком верность ему, которая объединяет многие и многие поколения Xрущевых, заставляет героев снова и снова возвращаться туда.
«Вечно длящееся» возвращение в прошлое (так можно кратко охарактеризовать предложенный вариант «выхода» из времени) моделируется самим типом повествования, который исключает всякую последовательность изображения, представляет собой круг постоянных обращений к одним и тем же наиболее значимым событиям семейной хроники, за счет чего эти события многократно – во фрагментах или целиком – «проигрываются» в тексте, вновь и вновь интимно, близко переживаются, однако таких повторяющихся «приближений» не становятся более понятными и менее притягательными и влекущими. В самом построении автор отчасти использует принцип феноменологического «вслушивания» в реальность, «усмотрения» ее сущности. Однако оригинальность использования этого принципа состоит в том, что субъективная авторская воля замещена повествовательной инстанцией «мы», изначально предусматривающей некий общий, «коллективный» характер таких «усмотрений» и «вслушиваний», в ответ на которые звучит достаточно нестройный, размытый «хор голосов» этой реальности, лишенный ярких индивидуальностей, за исключением, пожалуй, только ее «главной сказительницы» Натальи.Так в повествовательной стратегии претворена тема власти и магии места, его завораживающего и обезличивающего влияния на героев.
Фрагменты из жизни Натальи, тети Тони, Петра Петровича и других, чьи «прекрасные и жалкие души порождены Суходолом», эпизоды убийства дедушки Петра Кирилловича и побега Герваськи «собираются» из многих упоминаний в разных контекстах, уточнений, рассказов. Суходольский мир выстраивается по принципам такой символической реальности, когда, как писал А. Ф. Лосев, «чем менее проявлено неявляемое, тем более понятно… то, что явилось; чем более проявлено не проявляемое, тем сильнее оно постигается и переживается, но тем загадочнее и таинственней то, что явилось». Художник, действительно, стремится к максимальной выразительности и воплощенности прошлого и происшедшего, но сохраняет невыразимое в его невыразимости. Суходол и суходольцы, повторимся – уже по отношению к автору, очень близки ему, однако от этой он близости не утрачивают загадочности и проблематичности, поскольку более понятно и объяснимо как раз нечто внешнее, далекое, дальнее. В «Суходоле» же явлен феномен родного, причем родного не только героям, но и автору, и в своем отношении к нему он, безусловно, «внутри» этого повествовательного «мы», а не «над» ним. Однако автор, в отличие от суходольцев, понимает уже «культовый» характер их восприятия Суходола и то, что именно таким характером оно изначально осложнено, драматизировано и в определенной мере оправдано, поскольку сопряжено как раз с переживанием этого родного.
«Родной, – читаем толкование В. И. Даля, – сродный, сродник, с кем кто в родстве, кровный, свой, единокровный, близкий по родству…» И далее: «Родство ср. Родная, родственная связь, кровные отношения… Родство вообще бывает: кровное (родовое), по общему родоначальнику; свойство… по брачным союзам; духовное (крестное, кумовство), по восприятию от купели… также восходящее, нисходящее и боковое, наконец, родство законное и незаконное…»
Бунин имеет в виду, конечно, весь комплекс значений понятия родной, но все же акцент, безусловно, сделан им на родственность в кровном смысле, на семейственность отношений в Суходоле, что тоже весьма симптоматично.
Названная тема настойчиво подчеркивается уже в первой главке: «Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Луневе, прожила как родная…» (3, 133); «Но душа и в нем (в отце. – Н. П.) была суходольская, – душа, над которой так безмерно велика власть… той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом на Суходоле» (3, 136); «Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, клана, рода глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна» (3, 136); «И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский <…> Могли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?» (3, 137); «…чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога» (3, 137); «…тетя Тоня <…> даже мысли не допускала никогда… покинуть родное гнездо…» (3, 136); «Мужики суходольские… как в родной входили в наш дом» (3, 137) и т. п. В данном случае смысл «сам себя повторяет», чтобы быть максимально, предельно выраженным, запечатленным с самого начала.
В. Котельников в одной из своих статей, сопоставляя «Суходол» с «Подлипками» К. Леонтьева, очень тонко замечает по поводу того и другого произведения: «В художественном мире Бунина и Леонтьева хорошо различима некая внутренняя форма, вырастающая из бытийных недр, твердо удерживающая сложное многообразие материала в стройном порядке. Эта форма – родовое древо, сущность и одновременно символ почвенно-аристократической культуры».Родовое древо – основа основ суходольского мира: «родная кровь» связует здесь «самые разные элементы в особенное витальное единство», когда-то исполненное внутренней мощи. Все в Суходоле «находятся в загадочно-близких, уходящих корнями в незапамятные времена отношениях».
Утрата этого «родного» остро переживается, например, Натальей, когда ее «посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали» (3, 153). Город закономерно воспринимается ею как нечто чуждое, как совершенно чужое пространство (оппозиция родного и чужого как прием организации текста), в которое ее насильственно поместили: «И город поразил ее только скукой, сушью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь» (3, 154); «Город был вокруг, жаркий и вонючий…» (3, 156); «Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома – и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время, роса уже падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко… догорала заря… алый свет мешался с сумраком в углах, и… барышня… пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского…» (3, 156).
Контраст чужого, пугающего своей безжизненной, одноцветной «сухостью», скукой и духотой, и родного, отмеченного живым, «влажным» многообразием красок, запахов, звуков очень показателен здесь, как и скрыто-ироническое упоминание знаменитого полонеза «Прощание с родиной». Безусловно, символично в таком контексте и то, что «участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее» и, может быть, наиболее яркое воплощение суходольского характера и суходольской судьбы, носит имя Наталья, что в одном из переводов означает «родная».
Итак, Суходол для героев – то родное, в чем их сердце «обретает пищу» и с чем установилась глубинная, эмоционально-душевная связь – связь «вне времени», пусть даже это лишь «родное пепелище». Сравните: «А что и было, погибло в огне» (3, 184).
Однако вряд ли стоит суходольскую верность корням однозначно соотносить с высокими пушкинскими строками, приравнивать к их смыслу Понятно, что изображенная привязанность к усадьбе предполагает сердечность отношения к ней как к чему-то дорогому и, безусловно, трогает, но для Бунина все же очень важным оказывается понимание отчаянной сложности, неясности того, что скрыто под понятием родное, – и одновременно стремление понять, распутать его узлы и проблемы. «Прозрачный» бунинский текст таит в себе поразительные глубины. Блистательно воссозданное в нем ощущение родного, тем более, что оно – это родное – под угрозой уничтожения, исчезновения, придает произведению особое очарование, порождает эффект «втянутости» в его мир, личной причастности к судьбе героев. Читатель как будто на себе испытывает силу «втягивающего», «удерживающего» внутри пространства текста, имитирующего притягательность изображаемого места, пространства, из которого нет выхода, потому что оно формируется посредством возвратных движений, создающих эффект все усиливающегося – по мере погружения в текст –«притяжения» к Суходолу и очарования им.
«Обустроенность» этого пространства – дворянской усадьбы и ее окрестностей – на первый взгляд, традиционна: дом, переживший несколько пожаров и разрушающийся, сад, некогда великолепный, а сейчас напоминающий о своем прошлом лишь оставшимся кустарником, поля вокруг усадьбы, небольшой лесок… Все дело, конечно, в деталях, которые, повторяясь, обретают значение образных и смысловых доминант, несут символическую нагрузку.
Сразу и особо выделен «темный» колорит суходольского дома: «…узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом» (3, 134); «Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах…» (3, 139); «Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, малы…» (3, 140); «…мелькали зарницы, озаряя темные горницы…» (3, 143); «Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной» (3, 146); «…потемнеет в доме» (3, 148); «Заботиться о чистоте стало некому, и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и потолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели» (3, 149).
Мотив темного распространяется на все стороны и составляющие суходольского мира, объединяя их в сложное единство. Так, в повести говорится о «темной глубине» жизни семьи, рода, клана; о «темной избе» тети Тони; о «ночах, темных, теплых, с лиловыми тучками»; о «темном Трошином лесе»; о молитве Натальи Меркурию, «невидному в темноте»; о «темных, тревожных слухах…»; о страшных «приходах… в темноте», «в ненастные ночи» дьявола в суходольский дом и т. п. Печатью темного отмечен и внешний облик суходольцев, а также некоторые детали, атрибуты их одежды: «Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде» (3, 158); «Парусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею» (3, 160); «…темное лицо Герваськи местами шелушилось»; «И порою глаза ее темнели…» (3, 184); «…покрыты темным платочком по-нашему…» (3, 165); «И Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушечье платье…» (3, 174).
Семантика темного четче и предметнее осознается через антонимический ряд: темный – светлый, ясный, яркий. И здесь органично напрашивается сопоставление с повторяющимся мотивом яркого в «Тени птицы», где, в отличие, от сумрачного суходольского дома, как мы помним, был «весел даже надгробный павильон». В ярком проявилось стремление художника запечатлеть предельную витальность и выразительность непосредственно переживаемого героем «здесь и сейчас» существующего мира. Яркость знаменовала саму интенсивность проживаемой встречи с реальностью, характер и реальности, и отношения к ней. Мотив темного также феноменологичен по своей природе, поскольку обращен одновременно и к объективной, и к субъективной сторонам жизни, означает их неразрывностъ, и это очевидно из приведенных примеров. Другое дело, что по своему значению он прямо противоположен, антонимичен мотиву яркого. Такой контраст использования структурообразующих мотивов симптоматичен и многое объясняет.
Темное во всех его смыслах становится знаком существования суходольцев, «качеством» их жизни с ее непереводимой на язык рациональных и разумных оценок непредсказуемостью, неясностью, стихийностью побуждений, поступков, эмоциональных реакций, пристрастий. Мотив темного как страстного и стихийного усилен в эпизодах, где суходольскому образу жизни противопоставлен, в том числе и по цвету, другой тип существования. Вспомним восприятие Натальей города, отмеченного печатью сугубо белого цвета, или фрагмент, воссоздающий ее пребывание на хуторе Сошки: «Приехали под утро – и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин…» (3, 167); «А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении…» (3, 169). Темное многозначно: оно может скрывать, таить многоцветие, сложность, глубины земной жизни (сравните в рассказе «Аглая»: «в нашем темном, земном»), глубины подсознания, нередко стихийно «выплескивающиеся» в неожиданных, импульсивных поступках героев, может обернуться настоящей тьмой, душевным мраком, вторжением – реальным или воображаемым – демонических, разрушительных сил в людские судьбы. Сравните: «…Тонечка стала не спать по ночам; в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного срока, чтобы вдруг громко зарыдать…» (3, 150); «Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол… И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте..? <…> Думая о своем роковом, неминучем часе, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту… уже чувствовала она первые приступы той тяжкой болезни, что долго мучила ее впоследствии…» (3, 180).
Ясно, что такой отпечаток темного на всем суходольском быте и бытии пагубен для обитателей усадьбы: все же непомерно велика в их жизни роль 6ессознательного, закрывающего для них выход к адекватному пониманию себя и окружающего, а следовательно, порождающего иллюзии, фатализм и замещающие реальность ложные смыслы.
Любопытно в этом аспекте проследить, как включена в текст и работает традиционная пространственная оппозиция дом – лес, реализующая противопоставление близкий – далекий, организованный, устроенный – стихийный, хаотичный, свой – чужой. Тема леса представлена здесь менее выпукло, чем тема дома, но все же достаточно определенно. Так, конкретный Трошин лес становится повторяющимся образом, присутствуя в нескольких ярких и показательных фрагментах природной жизни Суходола: в первое посещение молодыми Хрущевыми усадьбы: «Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом… Отсюда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром… И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем…» (3, 140) – и далее: «Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу…» (3, 142); «Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом… Возле леса… горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион…» (3, 143); «Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьбы, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке… От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный…» (3, 146).
Из этих фрагментов видно, что некогда чужое, далекое пространство («…прадед наш… только под старость переселился из-под Курска в Суходол, не любил наших мест, их глуши, лесов» – 3, 146), несмотря на сохранившуюся противоположность «близкому» («далеко за садом»), все же освоено, обустроено, приближено к «своему»: не случайно оставшийся лес получил даже свое собственное имя. Между тем этот лес продолжает оставаться в сознании суходольцев источником опасности, разного рода неожиданностей и т. п. Так, Петр Кириллович накануне собственной гибели, убеждая гостей остаться ночевать в усадьбе, упоминает его именно в таком качестве: «Особливо же прошу, не уезжайте на вечер. Как дело на вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят в Трошином лесу, говорят опять двух французов бонапартишкиных поймали… Я беспременно помру вечером…» (3, 162). Его смерть в таком контексте можно трактовать двояко. С одной стороны, как будто существует сложная соотнесенность между лесом, традиционно связанным с представлением о стихийности земной жизни и бессознательным выплеском темной силы, от рук которой гибнет глава суходольского дома. С другой, напротив, смерть приходит совсем не оттуда и не в то время, когда ее ждут. Так проступает сложное, интимно-ироническое авторское отношение к прогнозам, пророчествам, предсказаниям, которыми так грешат и которым так беззаветно верят суходольцы.
Но вернемся к мотиву и доминанте темного в повести. Обозначая «качество» жизни суходольцев, темное характеризует и специфику восприятия, «удерживания» этой жизни в сознании и воображении героев. Специфика эта определяется тем, что автор, «храня и переживая опыт красоты, заключенный в родовых отношениях, в душевном складе, быте русского дворянства», с одной стороны, стремится продлить ее пребывание в мире, а с другой, – он приемлет и эстетизирует «как закономерное продолжение этой красоты» ее роковое увядание и смерть, творит, как он сам признавался в сходном по пафосу «Золотом дне», «целую поэму запустения». Поэтому в «Суходоле» реальность «тонкого истлевания… красоты, истлевания ткани былой культуры» очень сложно и при этом органично соседствует с попытками героев оттеснить настоящее Суходола, пережить заново его прошлое и, может быть, так и остаться в нем. Однако прошлое, как и настоящее, поэтично, но не менее зыбко и призрачно, оно «лишено четких хронологических контуров и ясных границ <…> Разрозненными фрагментами-видениями оно проступает смутно, как плохо сфокусированный снимок при проявлении. Видения эти наслаиваются одно на другое, ибо воспоминание – многослойно». Смутность, неяркость (= темнота) картин прошлого, живущих в памяти суходольцев, еще более размывается, утрачивая связь с реальностью, из-за снов, которые для них были «порой сильнее всякой яви» (3, 137).
Молодые Хрущевы «без конца грезили» Суходолом, трепетно вслушивались в рассказы о нем, рисовали целые картины в своем воображении, представляя его героев. Об этом говорится в самом начале повести, а завершается она также очень симптоматично и показательно. Никуда уже не уйти от того, что «совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все упомянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?» (3, 186). Теперь только на погостах суходолец может почувствовать, «что было так», почувствовать «даже жуткую близость» к ушедшим. Но и здесь ему никак не обойтись без воображения, поскольку он не знает точно, где могилы дедушки, бабушки, Петра Петровича… Знает «только одно: вот где-то здесь, близко» (3, 186). И поэтому надо «представить себе всеми забытых Хрущевых», а чтобы испытать сладость соединения с прошлым, надо еще и сказать себе: «Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся крест в синем летнем небе и при них был тот же… что так же желтела, зрела рожь в полях… а здесь была тень, прохлада, кусты… и в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами» (3, 186).
«Заговаривающий», «внушающий» тон финального обращения к себе с его характерными повторами и яркими деталями как нельзя лучше показывает жалкую и щемяще-трогательную иллюзорность таких попыток восстановления прошлого и одновременно фатальную неизбежность для героев жить этой иллюзорностью в настоящем. Суходольцы таинственным, роковым образом обречены на «темные воспоминания», на постоянные приближения к источнику этих воспоминаний при невозможности когда-либо по-настоящему приблизиться к нему, как и найти могилы умерших родственников («…то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время»). Они обречены также на смешение яви и сна в их жизни, на продолжение снов в их реальном существовании.
Достаточно вспомнить сон Натальи о козле, который затем становится страшным действительным событием в ее жизни. Герои живут в гибельно-притягательной атмосфере, в которой границы сна и яви стираются: «Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидела она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня…» (3, 170). Ю. Мальцев справедливо замечает, что «зыбкость и таинственность (неясность, непроявленность. – Н. П.) изображаемой суходольской жизни усугубляется также частыми переходами в иное, онейрическое измерение: повесть полна “страшными и милыми снами” – это еще один голос в многоголосии, ибо… во сне “я” подменяется неким безличным субъектом, им становится сама стихия снящейся сюрреальности». Это тоже способ «освобождения» от времени – уход, погружение в сон, но он уже предваряет уход в небытие, в смерть, это как бы «позволение», «разрешение» смерти все активнее, «успешнее» захватывать пространство жизни. (Здесь напрашивается аналогия с «Обломовым».) Можно даже сказать, что в «Суходоле» побеждает эстетика длящегося погружения, перехода в иную реальность, эстетика «длящегося умирания». Неслучайно М. Горький время сравнивал эту бунинскую вещь с «заупокойной литургией».
Наряду с темным, столь многозначно и сокровенно сопряженным с Суходольским миром, определяющим для этого мира в представлении автора становится и мотив глухого.
Самое первое непосредственное впечатление повествователя от Суходола отмечено символической семантикой, связанной с этим понятием: «И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем…» (3, 140). Думается, смысл словосочетания «глухая Русь», которое во многом определяет смысл всего этого «венчающего» бунинского суждения-образа, может быть прочитан с учетом спектра значений, включающихся здесь в определение «глухой», поэтому вновь обратимся к словарю В. И. Даля. В нем указывается два значения слова «глухой»: «лишенный способности слышать» и «без выходу, непроходной, заделанный накрепко, герметический», а также близкого ему этимологически слова «глушь» – «глухое место, т. е. заросшее, запущенное, необработанное, или нежилое, безлюдное, малолюдное; или застойное, непроезжее». Здесь же приводится серия очень ярких, «говорящих» пояснений: «Глухой смысл – темный, непонятный… Глухой хлеб, посев – заглохший от сорных трав, заглушенный… Глухое место, город-пустырь, захолустье, безлюдье, где нет ни тору, ни езды… Глухой переулок – из которого нет выходу… Глухая пора – когда все тихо и безлюдно, нет движения, работы… Глухая исповедь – при которой больной, лишенный языка, словами отвечать не может… Глухая дверь – фальшивая, сделанная только для виду». Глухая Русь..?
Думается, что эпитет «глухой», относящийся к Руси, может трактоваться не только как «захолустный», он задействует круг значений, связанных с темой закрытого («без выходу») пространства, в котором невозможно услышать голоса подлинной, реальной жизни. Трудно назвать другое, более точное и емкое определение, выводящее к самому существу суходольского мира и суходольской души.
В качестве подтверждения мы находим в ранней редакции жесткие, тяжелые суждения повествователя о «глуши» в жизни суходольцев как об отсутствии прочных культурных традиций в ней («…не устои там были, а косность»), о «закрытости» суходольцев чужому культурному, бытовому, психологическому опыту («На прошлом Суходола познали мы душу его. Но ведь этой же душой и создано оно. В нем еще резче и яснее, чем в настоящем, выступали истинно славянские черты ее, гибельно обособленной от души общечеловеческой» – 3, 425). Все это, убежден автор, приводит к тому, что подлинное творчество подменяется в их судьбах грезами, уходами в нереальность, увлекая – каждого на свой лад – «построениями» всевозможных искусственных, иллюзорных пространств – «сказочных садов», чем, в конечном итоге, обернулся и сам Суходол.
Мотив глухого продублирован в повести в разных контекстах, что также подчеркивает его значимость: «неминучее свершилось» с Натальей «в самое глухое время» («Было самое глухое время – она поняла это своим безумно колотившимся сердцем…» – 3, 180); Петр Петрович гибнет, когда «сильный гнедой коренник… понес… по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи…» (3, 183); наконец, в последней главе повести резюмируется, что «росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имеющей подобие прочного быта и благосостояния» (3, 185). Как характерно это: «жизнь глухая… имеющая подобие… быта и благосостояния»!
Тема «закрытого», невосприимчивого к голосам реальности существования суходольцев проецируется в природную жизнь усадьбы и ее в окрестностей, пребывающую практически всегда в состоянии странного соединения тишины и резких, стихийных явлений, например, грозы. Эти два взаимодействующих мотива, проходя через все повествование, достраивают образ суходольского пространства.
Какова природа бунинской тишины? Художник опирает опирается на традиционные приметы и символы пейзажа, известные нам по многим другим литературным текстам прошлого и нынешнего веков, и его позиция обозначается четче при сопоставлении с таким рядом произведений, как, например, «Тишина» Н. Некрасова (сравните у Бунина: «И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем», у которого тишина имманентна самой Руси, – и у Некрасова: «Над всею Русью тишина…», или: «А там, во глубине России – / Там вековая тишина…» – «тишина» как внешняя характеристика состояния России), «Дворянское гнездо» И. Тургенева, «Обломов» И. Гончарова, «Движения» С. Сергеева-Ценского, «Тишина» Б. Зайцева и др., что отчасти уже предпринималось нами ранее, поэтому нет необходимости останавливаться на этом подробно.
Между тем, понятно что Бунин, как и упомянутые здесь авторы, используя этот мотив, основывается прежде всего на его смысловой объемности, имеет в виду его мифологический, общекультурный символизм: «Тишь, или Тишина, когда все тихо: молчание, безгласность, немота: отсутствие крика, шума, стука; // мир, покой, согласие и лад, отсутствие тревоги, либо ссоры, свары, сполоху. // Покой стихий, отсутствие бури, ветра, непогоды». Очевидно, что тишина тоже обозначает и объединяет внешнее (из мира природы) и внутреннее (качество человеческих отношений, психологических состояний). И это закономерность бунинского текста, демонстрирующего комплексом повторяющихся мотивов неразрывность объективного и субъективного в его мире.
Бунин, безусловно, дает образ особой тишины – завораживающей, как сон, как иллюзия, – и одновременно зыбкой, кажущейся, соединенной с грозой, огнем, стихией, тишины, таящей в себе угрозу (бури и непогоды – в природе; тревоги, ссоры, катастрофы – в человеческом мире). Эта тема наиболее ярко запечатлена, явлена в сцене гибели Петра Кирилловича. Именно он рано утром застал «ту особенную тишину, что бывает только после праздника», «ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями <…> все было неподвижно, успокоено, почти торжественно…» (3, 163). И в эту тишину, успокоенность совершенно по-суходольски – внезапно, вдруг – вторгается Герваська, и тишина оборачивается непоправимой катастрофой: «Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська – без казакина, заспанный и злой, как черт…» (3, 163).
Любопытно, что в страшную и решающую для Натальи ночь тишина («было самое глухое время») не просто предшествует разгулу стихии, она напрямую соединена, слита с ней: «Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала – и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время… Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо» (3, 180–181).
Следовательно, бунинская тишина, которая «царит надо всем», не обозначает мира, согласил, лада, покоя стихий и отсутствия бури, она скорее соотносима с другим смысловым рядом – «молчание», «безгласность», «немота», что очень грустно, поскольку «закрытость», замкнутость суходольского мира усугубляется еще и всеобщей, онтологической немотой, безгласностью.
Суходольцы импульсивны и фаталистичны, они не находят реального, живого отклика своим стремлениям и потребностям и не готовы ответить, в том числе и самим себе, почему так складываются, а точнее, не складываются их судьбы. Такая «безответность» – не что иное, как безответственность, проистекающая из невозможности оценить каждому лично дар жизни, разумно распорядиться им и являющаяся неким экзистенциалом этого обезличивающего «мы», порожденного и продолженного Суходолом. Так национальная тема обретает в повести острое экзистенциальное звучание. Любой из суходольцев, если бы смог преодолеть свои «глухоту» и «безгласность», вероятно, подобно Тихону Ильичу, признался бы себе, что поступил с собственной жизнью, как та стряпуха – с заграничным платком, «истаскавшая его наизнанку» в ожидании праздника.
Итак, родное оборачивается темным, глухим, и безответным, но от этого оно не становится менее дорогим, менее эстетически волнующим. Горечь, ирония и боль, вопросы о причинах происшедшего с суходольцами, на которые трудно найти определенные ответы, понятное человеческое стремление заменить исчезающую реальность иллюзией – на такой сложно наполненной интонации завершается произведение.
Система взаимодействующих содержательно емких пространственных мотивов и доминант позволяет художнику выстроить в «Суходоле» концептуально цельный и объемный образ национального мира, «онтологически» обустроить этот мир и вывести его в широкую, собственно философскую проблематику.
Смотрим фильм «Суходол» (режиссер Александра Стреляная, премьерный показ 15.11.2011 года, продюсер Алексей Учитель). 



Как в стилистике фильма передана атмосфера пространства, созданного в повести? Какие сцены показались наиболее удачными? Удалось ли авторам выразить средствами кино бунинскую «мысль о России как о целом», философию писателя?
7. Лекция - презентация: «Братья Карамазовы» как ключевой текст русской культуры. Известные киноверсии романа (4 часа).
Киноверсии «Братьев Карамазовых»: Ивана Пырьева (1969 г.):


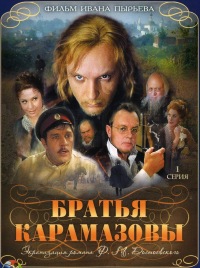

Петра Зеленки (2008 г.):




Юрия Мороза (2009 г.):


Сопоставьте, как в этих киноверсиях представлены ключевые фрагменты романа, которые разбирались во время лекции-презентации: исповедь Мити, диалог Ивана и Алеши с последующим изложением Поэмы о великом инквизиторе, кульминационные сцены, связанные с Алешей (главы «Такая минутка», «Луковка», «Кана Галилейская»). Какая киноверсия в большей мере раскрывает метафизику Достоевского, его «реализм в высшем смысле»?
Лекция 8: Кинематографический дар Л. Толстого. Киноверсии романа «Анна Каренина» (4 часа).
Л. Н. Толстой – один из самых востребованных кинематографом художников. Многие режиссеры и теоретики кино и литературы отмечали кинематографичность прозы писателя, его умение выстраивать сцену, работать крупным, средним и дальним планом, его искусство монтажа. Не случайно существует огромное количество отечественных и зарубежных киноверсий главных романов Толстого. Лидирует среди них – «Анна Каренина». Чтобы перейти к рассмотрению наиболее интересных киноверсий романа, обратимся сначала в общих чертах к проблематике этого великого произведения, попытаемся понять, в чем его уникальность и неизменная притягательность.
О романе «Анна Каренина».
Создавался с 1873 по 1877гг. Толстой считал» «Анну Каренину» первым романом: впервые романически в целостной концепции осмыслена пореформенная современность.
Уникальность – в повышенном эффекте жизнеподобия. Толстой признавался, что в романе представлена жизнь со всей «невыразимой сложностью всего живого». К. Леонтьев: «Тот, кто изучает «Анну Каренину», изучает самое жизнь»; «Анна Каренина» - это не произведение, это кусок жизни». А. Фет: «Живорожденное произведение».
Блестяще воссоздана атмосфера эпохи, когда «все переворотилось, и только укладывается». Общий для всех мотив, переданный повторяющимся в разных вариациях вопросом: «Что делать?»; «Что же делать?»; «Что мне делать?» и т.д. Если в «Войне и мире» Толстой уповает на добрую, мудрую естественность жизненного процесса, здесь его занимает вопрос о возможностях личности, о нравственной позиции человека, о жизнепонимании и поведении. Сделан акцент на личности, ее выборе, что обозначено самим заголовком романа.
Сфера самоопределения личности обозначена сразу же, четкой начальной фразой, которая может рассматриваться как второй, внутренний эпиграф: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Развернута «мысль семейная», т.к., по Толстому, «род человеческий развивается только в семье». В семье человек сталкивается с требованиями «общего», проходит школу отношений с людьми (сравните с Достоевским: «Бог создал родных, чтобы учить на них любви»!), узнает, что его счастье неотделимо от счастья других и что другие и есть он сам.
Представлены различные точки зрения на семью, разные типы семей. Параллельно разворачиваются две самые важные семейные истории: Левин - Кити, Анна – Вронский. Не сталкивает героев в спорах, а как бы взвешивает на внутренних весах разные формы жизни. У Толстого прав не тот, кто побеждает в словесных поединках (Левин: «Нет, мне нельзя спорить с ними… на них непроницаемая броня, а я голый») или в любовном соперничестве, а тот, кто счастлив.
Философский смысл трагедии Анны.
Толстой не ограничивается психологией семейных отношений, он выходит на уровень постижения общих закономерностей человеческой жизни, раскрывает общий закон человеческого существования.
Главный вопрос Толстого к человеку: насколько подлинна и серьезна твоя жизнь, привязан ты к ней сердцем или головой, играешь роль или, действительно, живешь? В современном обществе люди руководствуются идеалом удовольствия, наслаждения. Что хорошо, что дурно люди определяют не из всеобщего нравственного закона, который заложен исходно в человеке, а по произволу чувства удовольствия. Человеку кажется, что так он сбережет счастье, но в действительности жизнь, лишенная трудностей, обязанностей, усилий и преодолений, легковесна, призрачна, не приносит удовлетворения. Отсюда – конфликты, внутренние драмы. Единственный путь к счастью – это подчинить себя высшему нравственному закону («Было бы здоровье, да совесть чиста»; «Ну-ка, пустите нас с нашими страстями, мыслями без понятия об едином нашем Боге и Творце! Или без понятии того, что есть добро, без объяснения зла нравственного. Ну-ка без этих понятий постройте что-нибудь!» - примерные формулировки этого закона в романе). «Настоящая, серьезная жизнь только та, которая идет по сознаваемому высшему закону; жизнь же, руководимая похотями, страстями, рассуждениями, есть только преддверие жизни, приготовление к ней, есть сон» (Л. Толстой. Дневники). В романе блестяще с помощью художественных средств показано, как неумолимо проявляет себя в судьбах людей общий нравственный закон.
Ф.М. Достоевский о романе: «…Огромная психологическая разработка души человеческой с страшной глубиной и силою, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения… Зло таится в человеке глубже, чем полагают лекаря-социалисты. Ненормальность и грех исходят из нее самой (из души – Н.П.)… Законы духа человеческого столь же неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, Который говорит: «Мне отмщение, и Аз воздам». Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешности… Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, если сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны не прибегнет к единственному выходу – к Милосердию и Любви…»
О сцене болезни Анны: «…Преступники и враги… вдруг преображаются в существа высшие, в братьев… Затем страшная картина падения человеческого духа…»
В сцене смерти Анны Толстой использует образ свечи, разрывающей мрак. Анне открывается правда другой, подлинной жизни. Толстой не мог оставить любимую героиню по «ту сторону добра и зла», сорвавшейся в мир зла («Если человек отрицает жизнь, то нет надежды, что он выберет добро» (Э. Фромм)). Силою авторской воли он, по существу, спасает Анну.
Путь Левина – эпический путь, преодолевающий трагизм выбора Анны.
Фильм Александра Зархи. Сцена бала (глазами Кити), сцена скачек, болезнь Анны и примирение, сцена свидания с сыном, финал. Как представлены герои Толстого? Проанализируйте режиссерское, операторское и музыкальное решение финальной сцены киноверсии. Удалось ли создателям фильма выразить символику и смысловой объем толстовской сцены гибели Анны?






Фильм Сергея Соловьева разделен на 5 киноновелл: «Метель»; «Вы сломали ей спину»; «Ужасная женщина»; «Та не я»; «Аз воздам». Объясните такое режиссерское решение. Почему 4-я часть так названа? Как вы понимаете заголовок и как он связан с концепцией судьбы Анны в романе? Отражена ли в этих заголовках линия К. Левина? Как эта линия представлена в киноверсии и помогает ли она выразить концепцию фильма и романа? Удалось ли автору фильма выразить мысль Толстого о необходимости для каждого человека следовать «высшему нравственному закону»? Как представлен в фильме эпиграф романа? Удалось ли актерам, на ваш взгляд, передать своей игрой характер, масштаб личности героев Толстого? Отметьте находки, оригинальные решения режиссера, оператора, композитора, художника и других создателей фильма.









Дата добавления: 2016-01-03; просмотров: 24; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
