ГЛАВА 2. ТВОРЧЕСТВО И ТВОРЕНИЕ
Дмитрий Викторович Токарев
Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
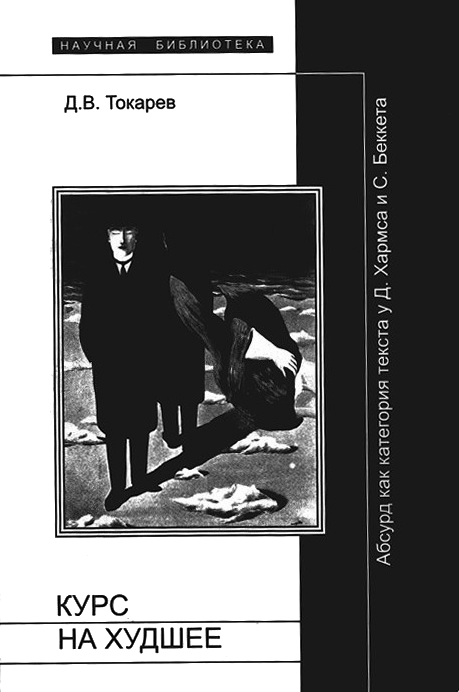
Токарев Дмитрий Викторович
Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Сэмюэля Беккета
Моей матери,
Галине Ивановне Токаревой,
с бесконечной любовью
ВВЕДЕНИЕ
Существует ли литература абсурда? На первый взгляд, на этот вопрос не так сложно ответить, ведь термин «абсурд» используется многими авторами и критиками с чрезвычайной легкостью, при этом, правда, не совсем понятно, какой смысл они в него вкладывают. В русской литературе бесспорно «абсурдным» автором считается Даниил Хармс, в зарубежной – в первую очередь представители так называемого «театра абсурда», само существование которого, однако, не раз подвергалось сомнению. Забавно, что некоторые исследователи поторопились объявить Хармса и Александра Введенского родоначальниками этого течения европейской литературы[1]. Ж.‑Ф. Жаккар, автор первой обстоятельной монографии о Хармсе, подверг данный подход справедливой критике, не отрицая тем не менее плодотворности сравнительного анализа произведений Хармса и Введенского, с одной стороны, и Сэмюэля Беккета и Эжена Ионеско – с другой[2]. В то же время для швейцарского ученого литература абсурда, по сути дела, «вытекает» из экзистенциализма, поскольку оба эти течения выражают чувство абсурдности бытия, которое испытывает человек, осознавший механистичность повседневного существования и ограниченность человеческой экзистенции. Отличие литературы абсурда от философии абсурда заключается, согласно Жаккару, в том, что первая выражает экзистенциальную тоску средствами самого языка: распад мира, основанного на принципе детерминизма, обнаруживает себя в нарушении коммуникации и разложении языка. Но ведь и Сартр, и Камю были не только философами абсурда, но и писателями, пытавшимися выразить его средствами художественного текста: достаточно прочитать «Тошноту», чтобы убедиться, что погружение в абсурд неизбежно влечет за собой дезинтеграцию внутреннего мира человека, его сознания и распад коммуникации. Чем же тогда экзистенциальный роман Сартра отличается от знаменитой трилогии Беккета, и почему сартровские пьесы, в отличие от пьес Беккета, никто не пытается отнести к театру абсурда? Вообще, достаточно ли отражать тоску бытия, чтобы быть «абсурдным» автором?
|
|
|
Говоря о «литературе абсурда», Жаккар, в сущности, лишь раздвигает рамки понятия, которое поначалу соотносилось только с театром и закрепилось в научном обиходе после появления в 1961 году книги Мартина Эсслина «Театр абсурда»[3]. Стараясь вырваться из пут дискурсивного сознания, человек начинает вести себя не так, как другие: окружающим его поведение кажется бессмысленным и нелепым. Недаром Эсслин считал непосредственными предшественниками абсурдистов клоунов, жонглеров, а также тех писателей, которые строили свои произведения на нонсенсе, парадоксе, насмешке над обиходным языком. Абсурдное поведение выступает естественной реакцией на трагическую абсурдность мира, в котором человек чувствует себя посторонним. Понятно поэтому, почему «театр абсурда» называют также «театром парадокса» или «театром насмешки».
|
|
|
Очевидно, что для большинства критиков «быть абсурдным» – значит «быть нелепым, бессмысленным, смешным». Творчество Хармса не является здесь исключением: абсурд объявляется эквивалентом бессмыслицы, причем абсурдной называется либо проза Хармса, либо его поэзия, либо и то и другое вместе. Так, А. Кобринский явно склоняется к тому, чтобы считать абсурдной лишь прозу Хармса, поскольку, по его мнению, для писателя абсурд – это только низменная часть реальности, то, что «заключает в себе русский синоним этого слова – „бессмыслица“»[4]. С. Сигей, напротив, говорит об абсурде обэриутов как о результате «разжижения» зауми[5]. Наконец, в сборнике «Даниил Хармс и поэтика абсурда» под одним заглавием объединяются статьи и о прозе и о поэзии[6].
|
|
|
Путаница возрастет еще больше, если принять во внимание тот факт, что друг Хармса философ Яков Друскин употреблял, говоря о поисках божественного смысла, лежащих в основе поэтической концепции Хармса и Введенского, именно термин «бессмыслица»[7]. Божественный смысл бессмыслен, если считать смыслом продукт сознательной деятельности человеческого разума. При этом, однако, Друскин выстраивает следующий синонимический ряд – бессмыслица, алогичность, абсурд, – упоминая опять же Хармса и Введенского как предшественников западноевропейского театра абсурда. Интересно, что это не мешает ему в другой работе, «Звезда бессмыслицы», противопоставлять бессмыслицу Введенского абсурду Ионеско.
Это противопоставление кажется мне более оправданным, чем попытки механически записать автора в представители литературы абсурда, коль скоро в его текстах можно найти некоторые элементы нонсенса. Не случайно, начиная еще с 1953 года, Ионеско говорил о размытости понятия «абсурд», о той легкости, с которой приклеивают эту этикетку критики. Что касается Беккета, то он вообще предпочитал не высказываться на эту тему, оставляя исследователям простор для интерпретаций. По‑видимому, подобное нежелание говорить об абсурде объясняется еще и тем, что Беккет придавал той реальности, которую он описывал в своих текстах, особый смысл: не называя ее абсурдной, он тем не менее вплотную подошел к абсурду бытия как некой абсолютной реальности, в которой исчезает всякое противопоставление человека и мира, противопоставление, служившее основой философии экзистенциалистов. Именно в подобной абсолютизации абсурда, понятого не как нечто нелепое и странное, а как самодостаточность «бытия‑в‑себе», Беккет близок Хармсу 1930‑х годов. Сравнительный анализ этих двух писателей, в творчестве которых обнаруживаются поразительные аналогии, позволяет как нельзя лучше прояснить смысл таких понятий, как «абсурд» и «алогическое», «нонсенс» и «бессмыслица». Хармс‑прозаик, мастер малой формы, сумел выразить в «случае», озаглавленном «Голубая тетрадь № 10», то же ощущение ужаса перед неизбывностью неорганического, аморфного, бессознательного бытия, которое пронизывает двести тринадцать страниц беккетовского «Безымянного». Быть абсурдным писателем значит «быть‑в‑абсурде», жить им, ощущать его не как конфликт мира и человека, а как некую внутреннюю реальность, не зависящую от исторических эпох и условий человеческого существования.
|
|
|
* * *
Если Беккету в России по‑прежнему не посвящено ни одной монографии, то творчество Хармса сейчас хорошо известно в нашей стране; популярностью пользуется прежде всего хармсовская проза, при этом у читателя может возникнуть искушение отнестись к ней как к ряду забавных анекдотов, нелепых историй и происшествий. Стихи же Хармса интересуют главным образом филологов – специалистов по русскому авангарду. Но без анализа хармсовского метафизико‑поэтического проекта, разработкой которого он занимался на рубеже двадцатых и тридцатых годов, невозможно понять, как возникла проза поэта, стремившегося к «очищению» мира и слова и пришедшего, в конце концов, к необходимости бороться против собственного текста, угрожающего самой индивидуальности творца. Я пытаюсь показать, как проза «прорастает» из поэзии, как абсурд самодостаточного, замкнутого на себе бытия приходит на смену «чистому» слову «первой», истинной реальности, посредством которого поэт пытался преодолеть абсурд повседневности.
На настоящий момент в России изданы две книги, посвященные творчеству Хармса[8]: в первой из них, уже упоминавшейся монографии Жана‑Филиппа Жаккара (оригинал вышел в 1991 году), скрупулезно воссоздается контекст эпохи, прослеживаются связи между поэтикой Хармса и его предшественниками по авангардному творчеству – Казимиром Малевичем, Михаилом Матюшиным, Александром Туфановым и другими. В 1998 году появляется еще одна книга о Хармсе – концептуальное исследование Михаила Ямпольского «Беспамятство как исток (Читая Хармса)». Сам автор предуведомляет читателя, что принятая в его труде точка зрения находится на «периферии филологии». Метод М. Ямпольского – «свободное движение мысли внутри текста», чтение как «неспециализированная рефлексия», пренебрегающая историческими связями и параллелями ради восприятия текста как «внетемпорального», «идеального» дискурса. В самом деле, сфера поэтического творчества для Хармса – это сфера ноуменальная, антиисторическая, в ней преодолевается линейность темпорального дискурса и достигается вечность божественного Логоса. Естественно, Хармс творил не в вакууме, и на его творчество определенное влияние оказали и русские символисты с их концепцией теургического искусства, и поэты‑заумники, и различные философские течения от философии жизни Бергсона до феноменологии Гуссерля. Но при этом опыт чтения других авторов был для Хармса «внутренним» опытом, в котором философские и поэтические идеи постоянно проверялись собственным интуитивным пониманием сущности художественного творчества. Друскин писал, что «чинарное»[9] или атональное искусство определяется не категорией «красивое – некрасивое», но «правильное – неправильное». Именно «гениально правильно найденное незначительное отклонение» и создает настоящее искусство – вот творческое кредо самого Хармса, сформулированное им в трактате «Концерт Эмиля Гиллельса в клубе писателей 19 февраля 1939 года». Категория «правильное – неправильное» – категория онтологическая, а не эстетическая, ибо основывается не на противопоставлении прекрасного безобразному, а на разрушении самих этих понятий. Для чинарей «правильное» – это не то, что прекрасно или, наоборот, безобразно, а то, что и прекрасно и безобразно одновременно. Другими словами, прекрасное включает в себя безобразное в качестве своей внутренней модификации, того «незначительного отклонения», которое не зависит от эстетических воззрений той или иной эпохи. Вот почему Хармс рассматривает тексты других авторов не как артефакт, созданный конкретным человеком, а как выражение вневременного духовного опыта, не зависящего от конкретных исторических обстоятельств. Обретение истинной реальности бытия невозможно во времени, но возможно в отдельном, автономном мгновении, в котором распадается связь времен.
Анализ хармсовского стихотворения «Хню» позволяет Михаилу Золотоносову сделать вывод о том, что Хармс обнаруживает знакомство с книгами Шпенглера, Максвелла, Евреинова, Вяч. Иванова, но
в самом стихотворении все зашифровано и практически ничего не отсылает обратно к первоисточникам или каким‑то общим категориям, доступно выраженным. Это типичный аутизм, характерный для шизофреника, жадное поглощение: сознание потребляет образы внешнего мира, но практически ничего не «излучает», порождая «речь‑для‑себя». <…> «черная дыра» стихотворения удерживает всю собранную информацию внутри себя, оставляя читателю то, что Л. Липавский назвал «психическим экскрементом»[10].
В сущности, принцип поглощения характерен для всего творчества Хармса в целом, однако его наличие объясняется не только свойственным шизофренику аутизмом, но и нежеланием воспринимать других авторов как предшественников , на которых положено ссылаться: так формируется текст, выпадающий из исторического контекста и в то же время содержащий в себе зашифрованные отсылки к другим текстам. «И вся литература русская в ночном горшке», – пишет Хармс в стихотворении «СОН двух черномазых ДАМ». Предшествующая литература перерабатывается Хармсом до неузнаваемости, превращается в экскременты, предстающие в виде продукта деконструкции литературного дискурса[11].
То же самое можно сказать и о Беккете. Если первый роман писателя, «Мэрфи», по праву называют «барочным», настолько велика в нем роль деталей, скрытой цитатности и аллюзий, то в последующем реалии внешнего мира решительно вытесняются из текста; его границы совпадают с границами выросшего до размеров Вселенной человеческого «я». Персонаж уже неотделим от текста, который он продуцирует, при этом «растворение» тела в массе аморфного, безличного бытия неизбежно ведет к «размыванию» текста, к потере им своей структуры. Вселенская грязь, о которой идет речь в беккетовском романе «Как есть», является метафорой не только неорганической материи, но и бессознательного, безостановочного письма; так подвергается радикальной трансформации мечта Малларме об анонимном Тексте, который «говорит сам собой, без авторского голоса» и в то же время имеет четкую структуру, отражающую порядок, присущий ноуменальному миру. Устранение автора не может не привести к потере контроля над текстом, показывает Беккет; «орфического истолкования» Земли не существует, есть лишь текст о невозможности закончить текст, о невозможности достичь тишины небытия.
«Я говорю, как слышу»[12], – утверждает безымянный персонаж «Никчемных текстов». В «Как есть» речь уже идет о цитировании, но фактически герой цитирует самого себя, ибо голос, который он слышит, принадлежит ему самому, являясь проекцией его бессознательного. Однако даже само употребление первого лица здесь условно: речь от первого лица не означает наличия конкретного субъекта высказывания, от имени «я» говорит то безымянное, невыразимое бытие, в котором снимается оппозиция внешнего и внутреннего, трансцендентного и имманентного, «я» и других. Именно поэтому текст Беккета, существуя как бы вне литературы, вне цитатности, отсылает в то же время к бесконечному количеству других текстов, составляющих его скрытую, неявную основу. Действительно, наследие Беккета, как, впрочем, и наследие Хармса, может быть поставлено в любой философский или литературный контекст, но при этом каждая попытка реконструкции возможного влияния, по существу, относительна и свидетельствует о принципиальной внетемпоральности беккетовского дискурса.
Естественно, текст, подобный беккетовскому или хармсовскому, не мог появиться, скажем, в XIX веке. Возникновение «абсурдного» текста было подготовлено всей эволюцией европейской литературы конца XIX – начала XX века, прошедшей путь от символистской поэзии к экзистенциальной тоске сартровской «Тошноты». Хармс, как известно, начинал свою литературную деятельность в качестве последователя заумной поэзии и был увлечен как авангардистскими идеями о «самовитом» слове, так и символистской доктриной о теургическом творчестве. Беккет был в течение некоторого времени литературным секретарем Джойса и принадлежал к кругам ирландской богемы, обосновавшейся на берегах Сены. Но меня, в первую очередь, интересует не исторический контекст творчества обоих писателей, а то, каким образом зародилась литература, видящая единственный смысл своего существования в самоуничтожении, в достижении молчания белой страницы, и как стремление к внетемпоральному, антиисторическому дискурсу превратилось в желание покончить во что бы то ни стало с самовоспроизводящимся словом, даже если для этого пришлось бы вновь восстановить движение времени.
По словам Борхеса,
лексикону историка литературы без слова «предшественник» не обойтись, но пора очистить его от всякого намека на спор или соревнование. Суть в том, что каждый писатель сам создает своих предшественников. Его творчество переворачивает наши представления не только о будущем, но и о прошлом. Для такой связи понятия личности или множества попросту ничего не значат. Первоначальный Кафка времен «Betrachtung» куда меньше предвещает Кафку сумрачных легенд и беспощадных контор, чем, скажем, Броунинг либо лорд Дансени[13].
Хармс и Беккет не знали друг друга. Но, на мой взгляд, роман Беккета «Безымянный», написанный спустя 12 лет после «Голубой тетради № 10», намного ближе к этому хармсовскому «случаю», чем, скажем, тексты тех поэтов‑заумников, которые были непосредственными предшественниками русского поэта.
* * *
Особо следует сказать о некоторых русских изданиях текстов Сэмюэля Беккета. Драматическим произведениям повезло больше: значительная их часть переведена на русский язык, и, что важно, перевод, как правило, сделан с того языка, на котором написан оригинал. Беккетовская проза известна гораздо меньше: помимо трех послевоенных новелл («Конец», «Первая любовь», «Изгнанник»), сборника новелл «Больше замахов, чем ударов» (под заглавием «Больше лает, чем кусает») и позднего текста «Общение», на настоящий момент изданы переводы трилогии и романа «Мэрфи». При этом блестящий перевод трилогии, осуществленный Валерием Молотом, контрастирует с переводом романа «Мэрфи», подготовленным А. Панасьевым и А. Жгировским. К сожалению, переводчики «Мэрфи» сознательно пошли на смешение двух версий романа: английской и французской. Беккет, как известно, был двуязычным писателем и сам переводил свои произведения на другой язык, но он, в отличие от Джойса, избегал смешивать элементы разных языков в пределах одного текста. Обе версии являются авторскими, поэтому и перевод с английского, и перевод с французского был бы аутентичным, но нельзя переводить одновременно с двух языков сразу. Правда, Валерий Молот тоже пользуется английским вариантом трилогии, но в гораздо меньшей степени, чем А. Панасьев и А. Жгировский; поэтому его перевод намного лучше передает специфику беккетовского текста.
Беккета можно называть ирландским писателем, поскольку он родился в Ирландии, английским, поскольку писал по‑английски, французским, поскольку ряд его важнейших произведений написан на французском языке, но точнее было бы назвать его просто писателем, который стремился исследовать глубины языка, но не за счет расширения его возможностей (как Джойс, которого Беккет назвал блестящим манипулятором слов), а за счет их умаления, за счет сведения всего лексического богатства языка к лаконизму чистого, абстрактного образа, словесного или зрительного, способ существования которого заключается в приближении своего собственного небытия.
«Для удобства рассказа я вынужден считать, что мое пребывание здесь имело начало», – говорит беккетовский Безымянный. «Для удобства рассказа» я называю Беккета «французским писателем», в полной мере отдавая себе отчет, что это называние так же условно, как приписывание имени Годо той безымянной, вневременной и внепространственной субстанции, которая «с высоты своей божественной апатии божественной афазии божественной агнозии любит нас всех кроме некоторых»[14].
* * *
Ссылки на наиболее часто цитируемые произведения даются непосредственно в тексте. Мною приняты следующие сокращения:
Безымянный – Беккет С. Безымянный // Беккет С. Трилогия. СПб., 1994.
Дневники – Дневниковые записи Даниила Хармса / Публ. А. Устинова и А. Кобринского // Минувшее: Исторический альманах. № 11. М.; СПб., 1992.
Жаккар – Жаккар Ж.‑Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995.
Моллой – Беккет С. Моллой // Беккет С. Трилогия. СПб., 1994.
Мэлон – Беккет С. Мэлон умирает // Беккет С. Трилогия. СПб., 1994.
Мэрфи – Beckett S. Murphy. Paris: Minuit, 1965.
Псс–1 – Хармс Д. Полное собрание сочинений. Т. 1: Стихотворения / Сост. В. Н. Сажина. СПб., 1997.
Псс–2 – Хармс Д. Полное собрание сочинений. Т. 2: Проза и сценки, Драматические произведения / Сост. В. Н. Сажина. СПб., 1997.
Сартр – Сартр Ж.‑П. Тошнота // Сартр Ж.‑П. Стена. М., 1992.
Театр – Беккет С. Театр. СПб., 1999 (В ожидании Годо; Эндшпиль; Сцена без слов I и II; Про всех падающих; Последняя лента Крэппа; Театр I и II; Зола; Счастливые дни; Каскандо; Игра; Приходят и уходят; А, Джо?; Дыхание).
Уотт – Beckett S. Watt. Paris: Minuit, 1968.
Чинари–1,2 – «…Сборище друзей, оставленных судьбою». «Чинари» в текстах, документах и исследованиях. М., 1998. Т. 1, 2.
Ямпольский – Ямпольский М. Беспамятство как исток (Читая Хармса). М., 1998.
В случае, если существующий перевод беккетовского текста расходится с оригиналом, я даю собственную версию.
* * *
Рад выразить свою признательность В. Е. Багно, П. Р. Заборову, С. М. Земкину, А. В. Лаврову, Е. Р. Обатниной, М. М. Павловой, В. Н. Сажину, а также всем коллегам по Отделу взаимосвязей русской и зарубежных литератур Пушкинского Дома.
ГЛАВА 1. АБСУРД И АЛОГИЗМ
От абсурда к алогичности
«Меня интересует только „чушь“; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем „Нелепом проявлении“», – записывает Даниил Хармс: в свой дневник 31 октября 1937 года. И продолжает далее:
Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт – ненавистные для меня слова и чувства. Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех.
(Дневники, 501)
В этом же году Сэмюэль Беккет завершает наконец, после нескольких лет работы, свой первый роман «Мэрфи»[15]. Его герой – одинокий безработный дублинец – ведет странную, абсурдную с точки зрения обывателя жизнь. Вынужденный под влиянием своей подруги изменить привычный образ жизни (пренебрегая поисками работы, он любит проводить время, раскачиваясь обнаженным в кресле‑качалке), Мэрфи поступает санитаром в психиатрическую больницу и настолько сближается в конце концов с больными, что сам становится похожим на них. Его смерть так же абсурдна, как и его жизнь: Мэрфи умирает в результате неосторожного обращения с газом. На ложе смерти он окружен теми, кого знал при жизни; теперь, после своей смерти, Мэрфи еще более далек от них: он уже мертв, они еще живы. Важная деталь: во время несчастного случая на Мэрфи нет никакой одежды; он разделся, покинув корпус, в котором живет господин Эндон – пациент, к которому Мэрфи питает особую душевную склонность. Эта нагота символизирует, конечно, не что иное, как освобождение от пут, удерживавших его в жизни, контролируемой другими. Смерть – высшая ценность беккетовского космоса – дарована Мэрфи, потому что он был одинок, абсурден в своем глубоком отвращении к «нормальному» существованию. Жизнь и смерть Мэрфи абсурдны, в этом нет сомнения, однако они абсурдны лишь с внешней точки зрения, которая выражает себя некая норма, некое позитивное качество, служащее основанием для общепризнанной ценностной шкалы. (Кстати, именно из‑за их позитивности, признанной абсолютным большинством, ненавидит Хармс героизм, мораль и гигиену.) Если же рассматривать смерть, а равно и жизнь, Мэрфи не как нечто отсылающее к норме, а как событие автономное, замкнутое на своей собственной сущности, то вряд ли ее можно будет назвать абсурдной.
Хайдеггер показывает, что в повседневности присутствия смерть понимается как «неопределенное нечто, которое как‑то должно случиться где‑то, но вблизи для тебя самого еще не налично и потому не угрожает». И далее:
Прячущее уклонение от смерти господствует над повседневностью так упрямо, что в бытии‑друг‑с‑другом «ближние» именно «умирающему» часто еще втолковывают, что он избежит смерти и тогда сразу снова вернется в успокоенную повседневность своего устраиваемого озабочением мира. Такая «заботливость» мнит даже «умирающего» этим «утешить». Она хочет возвратить его вновь в присутствие, помогая ему еще окончательно спрятать его самую свою, безотносительную бытийную возможность[16].
Таким образом, избегать смерти – это прятать от себя тот факт, что онтологическая структура «бытия‑в» есть структура бытия к смерти: «Подобно тому как присутствие, наоборот, пока оно есть, постоянно уже есть свое еще‑не, так есть оно всегда уже и свой конец. Подразумеваемое смертью окончание значит не законченность присутствия, но бытие к концу этого сущего. Смерть – способ быть, который присутствие берет на себя, едва оно есть»[17].
Смерть других проявляется как норма, как событие, случающееся каждодневно, в то время как исчезновение себя самого становится в этой перспективе чем‑то абсурдным, нелепым: умирают другие, обычно говорим мы себе, я же сам не умру никогда, так как моя смерть явилась бы скандалом[18]. Налицо интересный парадокс: так, норма определяется другими, определяется большинством, которое называет абсурдным что‑то или кого‑то, кто отличается, является другим; в случае же обыденного восприятия смерти мы сталкиваемся с более сложным феноменом: быть смертным, быть, следовательно, абсурдным – значит быть как другие; если я умираю, я становлюсь как они, принимаю их норму. Но тогда тем, кто стоит вокруг бездыханного тела Мэрфи, его смерть не может не показаться естественной, нормальной, ведь теперь они занимают позицию тех, кто никогда не умрет. Надо помнить, однако, что смерть близкого человека и смерть незнакомца воспринимаются по‑разному. Действительно, мы имеем обыкновение переносить нашу способность к бессмертию на тех, кого мы любим. В смерть близкого так же трудно поверить, как и в свою собственную[19]. В то же время смерть чужого ничего не меняет в нашем представлении о собственном бессмертии. Но и она кажется нормальной только в том случае, если она наступила в результате естественного умирания в силу преклонного возраста; если же речь идет о несчастном случае, о катастрофе, то смерть другого, оставаясь чем‑то нормальным, становится тем не менее событием иллогичным, странным: абсурдно уйти из жизни безвременно. Одним словом, если смерть Мэрфи воспринимается его любовницей как вдвойне абсурдная, поскольку она его любит, и к тому же он умирает раньше отведенного природой срока, та же самая кончина представляется другим как обычный «случай» и одновременно как событие, которое вносит неуверенность в их представления о последовательном характере жизненной эволюции.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что понятие абсурда неразрывно связано с понятием нормы; абсурда нет там, где нет нормы. Норма выступает, таким образом, в роли абсолютного положительного качества, обозначаемого обычно знаком «+», в то время как абсурд является абсолютной негативностью, обозначаемой знаком «―». Р. Барт напоминает:
Не следует забывать, что к «не‑смыслу» (non‑sens) можно только стремиться, для нашего ума это нечто вроде философского камня, потерянного или недостижимого рая. Вырабатывать смысл – дело очень легкое, им с утра до вечера занята массовая культура; приостанавливать смысл – уже бесконечно сложнее, это поистине «искусство»; «уничтожать» же смысл – затея безнадежная, ибо добиться этого невозможно. Почему? Потому что все «вне‑смысленное» (hors‑sens) непременно поглощается (в произведении можно разве что оттянуть этот момент) «не‑смыслом», имеющим совершенно определенный смысл (известный как абсурд ); нет ничего более «значащего», чем попытки, от Камю до Ионеско, поставить смысл под вопрос или же разрушить его. Собственно говоря, у смысла может быть только противоположный смысл, то есть не отсутствие смысла, а именно обратный смысл. Таким образом, «не‑смысл» всегда нечто буквально «противное смыслу», «противосмысл» (contre‑sens), «нулевой степени» смысла не бывает – разве только в чаяниях автора, то есть только в качестве ненадежной отсроченности смысла[20].
Естественно, понятие нормы, смысла тоже относительно: если мы возьмем, к примеру, распутство и целомудрие – одно из противопоставлений, упомянутых Хармсом в его рассуждении о «чуши», – то мы увидим, что в мире, где все целомудренны, распутство представляет собой отклонение от нормы; а в мире, где царит распутство, нормой является именно оно. К тому же и целомудренный и распутный человек могут рассматривать свое поведение как нормальное, несмотря на то, что другие придерживаются противоположных взглядов. Суровая критика, которой А. Камю подвергает механическое существование, воспроизводящее день ото дня одни и те же чувства и действия, основывается именно на отказе подчиниться тем общепринятым правилам, которые только «стабилизируют» жизнь, обнажая абсурдность нормы. Согласно философу, «абсурдный человек» – это тот, кто видит весь автоматизм подобного существования:
Мир, который поддается объяснению, пусть самому дурному, – этот мир нам знаком. Но если вселенная внезапно лишается как иллюзий, так и познаний, человек становится в ней посторонним. Человек изгнан навек, ибо лишен и памяти об утраченном отечестве, и надежды на землю обетованную. Собственно говоря, чувство абсурдности и есть этот разлад между человеком и его жизнью, актером и декорациями[21].
Абсурд, иными словами, зависит от позиции того, кто употребляет это понятие: чтобы назвать какой‑нибудь объект или действие абсурдным, нужно находиться вне этого объекта, иметь его перед собой. Камю называет это «расколом»:
В каждом случае абсурдность порождается сравнением. Поэтому у меня есть все основания сказать, что чувство абсурдности рождается не из простого исследования факта или впечатления, но врывается вместе со сравнение фактического положения дел с какой‑то реальностью, сравнением действия с лежащим за пределами этого действия миром. По существу, абсурд есть раскол. Его нет ни в одном из сравниваемых элементов. Он рождается в их столкновении[22].
Даже в «Тошноте», романе, главной мыслью которого является осознание обреченности попытки преодолеть контингентность самодостаточного существования, сама возможность говорить об абсурде основывается на необходимости разделения, «раскола»[23]. «Существование – это не то, о чем можно размышлять со стороны: нужно, чтобы оно вдруг нахлынуло, навалилось на тебя, всей тяжестью легло тебе на сердце, как громадный недвижный зверь, – или же ничего этого просто‑напросто нет», – утверждает Антуан Рокантен, герой «Тошноты» (Сартр, 135). Но как же тогда возможно написать книгу об абсурде, как можно думать, рассуждать о нем, если есть только он и ничего более?
Если воспользоваться термином Барта, абсурд выступает всегда как «противосмысл», отсылающий к «смыслу», точно так же как существование смысла определяется существованием его противоположности, то есть «противосмысла». Когда друг Хармса философ Яков Друскин выделяет, вслед за авторами статьи «Семиотический эксперимент на сцене» О. Ревзиной и И. Ревзиным, восемь постулатов, на которых базируется нормальная коммуникация, он придерживается той же точки зрения[24]. Друскин констатирует, что нормальная коммуникация может быть противопоставлена антикоммуникации Э. Ионеско, построенной на разрушении данных постулатов. «Минус‑коммуникация, или антикоммуникация, Ионеско отрицает только плюс‑коммуникацию, не внося ничего нового в содержание понятия коммуникации» (Чинари–1, 622). Чтобы выяснить, приложимы ли к творчеству А. Введенского принципы нормальной или плюс‑минус‑нормальной коммуникации, Друскин обращается к дискуссии, разделившей в IV веке ариан, сторонников подобосущия, и последователей Афанасия Великого, защищавшего догмат о единосущии Отца и Сына. «Первое из учений пыталось рационально обосновать соединение несовместимого, – продолжает Друскин, – второе, требуя наиболее глубокого объединения вплоть до отождествления того, что для нашего ума несовместно, утверждало тайну, то есть алогичность подобного объединения или отождествления» (Чинари–1 , 622). Данные понятия могут быть использованы с равным успехом в области текстового анализа, где они будут отражать отношения между текстом и контекстом, знаком и означаемым. «Слово – знак, что‑либо обозначающий, то есть знак, как отношение знака к обозначаемому. Это отношение подобосущно, если оно остается только отношением; единосущно – если постулирует тождество знака означаемому» (Чинари–1, 622–623). Бессмыслица Введенского и есть, по мысли Друскина, попытка осуществить единосущное соответствие знака означаемому и текста контексту. С этой точки зрения,
подобосущие, то есть правдоподобие, может быть плюс‑минус‑правдоподобием, отношение между плюс‑ и минус‑правдоподобием, как и плюс‑ и минус‑коммуникацией, контрарное, и оба одинаково отрицают единосущность. Но единосущность не может быть минус‑единосущностью, она есть или ее нет. <…> Абсурд и антикоммуникация Ионеско принадлежат к тому же роду, что и логичность нормальной подобосущной (правдоподобной) коммуникации, то есть правдоподобного соответствия текста контексту, только со знаком минус. Бессмыслица и единосущная коммуникация Введенского или единосущное соответствие текста контексту – контрадикторное отрицание всего рода нормальной правдоподобной коммуникации, то есть правдоподобного соответствия текста контексту, как плюс‑, так и минус‑соответствия. Поэтому и бессмыслица Введенского, в отличие от абсурда Ионеско, не негативное понятие, а имеет положительное содержание, но оно не может быть адекватно сказано на языке, предполагающем подобосущное соответствие текста контексту, знака означаемому.
(Чинари–1, 624–625)
Ж.‑Ф. Жаккар, проводя сравнительный анализ пьесы Хармса «Елизавета Бам» и пьесы Ионеско «Лысая певица», основывается на той же самой статье О. Ревзиной и И. Ревзина. «Определяющим в обеих пьесах является именно то, – отмечает исследователь, – что коммуникация распадается и что это ставит под сомнение пригодность самого инструмента этой коммуникации, а именно языка, и это на всех уровнях: лексическом, морфологическом, синтаксическом, семантическом и т. д.» (Жаккар , 228). Подобным образом может быть проанализировано, к слову, и наиболее «абсурдистское» произведение Введенского «Елка у Ивановых». Размышления Друскина о творческом методе Введенского показывают, однако, что критика «нормальной» коммуникации, предпринятая в форме последовательной абсурдизации текста, отнюдь не являлась основной целью художественных исканий поэта. Введенский стремился преодолеть оппозицию «логика – абсурд», трансцендировать ее, выйдя на уровень абсурда божественного, божественной бессмыслицы. Все вышесказанное можно отнести и к поэтическому наследию Хармса. Действительно, все усилия поэта были направлены на поиски, как он сам выражался, «путей достижения», которые привели бы его к состоянию «озарения, вдохновения, просветления и сверхсознания» (Дневники, 472). «Стихи Введенского и Хармса не имеют ничего общего ни с „литературой подсознания“, ни с сюрреализмом; не было никакой „игры с бессмыслицей“, – пишет Друскин. – Бессмыслица, или, как писал Введенский в 1931 г., „звезда бессмыслицы“, была приемом познания жизни, то есть гносеологически‑поэтическим приемом» (Чинари–1, 46). Вообще, поэтическое творчество всегда было для Хармса, впрочем, как и для остальных членов «ОБЭРИУ», актом сотворчества Человека и Бога, в результате которого в каждом отдельно взятом моменте бытия рождается новый, «чистый» мир, где противоположности совпадают в своего рода «металогическом» (С. Л. Франк), или алогическом, единстве.
Ролан Барт замечает по поводу Мориса Бланшо:
Творчество Бланшо (будь то критика или «роман») представляет собой весьма своеобразную (хотя ей, пожалуй, имеются соответствия в живописи и музыке) эпопею смысла – наподобие истории Адама, то есть первого человека, жившего до смысла [25].
Смысл, который Хармс разыскивает так упорно, есть именно этот адамический, алогический смысл, отражающий глубинную связь Бога и человека, которые общаются на языке «бессмысленном», дорефлекторном. Адамический смысл трансцендирует как смысл, так и не‑смысл, абсурд, и является скорее тем вне‑смыслом, о котором говорит Барт и который совпадает со смыслом абсолютным, тотальным, с первоначальной, добытийственной плеромой.
Хармс интересовался, без сомнения, абсурдом, его привлекали нелепые, странные, иллогические ситуации, воспринимавшиеся поэтом в качестве зримого воплощения его собственной маргинальной, социальной и поэтической, позиции. Абсурдность каждодневного механического существования также получила выражение в его прозаических произведениях, отразивших неудачу, постигшую хармсовскую метафизико‑поэтическую концепцию[26]. Камю писал о человеке в телефонной будке: «Человек говорит по телефону за стеклянной перегородкой; его не слышно, но видна бессмысленная мимика. Возникает вопрос: зачем он живет? Отвращение, вызванное бесчеловечностью самого человека, пропасть, в которую мы низвергаемся, взглянув на самих себя, эта „тошнота“, как говорит один современный автор, – это тоже абсурд»[27]. Нетрудно обнаружить у Хармса тексты, в которых то же самое ощущение абсурдности «бытия‑в‑мире» выражено с не меньшей художественной силой. Вот один из них, написанный в 1931 году:
Как странно, как это невыразимо странно, что за стеной, вот этой стеной, на полу сидит человек, вытянув длинные ноги в рыжих сапогах и со злым лицом. Стоит только пробить в стене дырку и посмотреть в нее и сразу будет видно, как сидит этот злой человек. Но не надо думать о нем. Что он такое? Не есть ли он частица мертвой жизни, залетевшая к нам из воображаемых пустот? Кто бы он ни был, Бог с ним.
(Псс–2, 26)
Если это чувство доминирует в эпоху большого террора, то проявляется оно гораздо раньше, еще в двадцатые годы, когда Хармс занимался разработкой собственной поэтической стратегии. И Хармс и Камю посмотрели на мир, если воспользоваться выражением из декларации «ОБЭРИУ», «голыми глазами», но, в то время как французский писатель не находит другого выхода, кроме как стоически сопротивляться абсурду, для русского поэта осознание абсурда является лишь исходной точкой поисков путей его преодоления. Именно поэтому авторы декларации могут сказать:
Вы как будто начинаете возражать, что это не тот предмет, который вы видите в жизни? Подойдите поближе и потрогайте его пальцами. Посмотрите на предмет голыми глазами, и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты. Может быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты «не‑реальны» и «не‑логичны»? А кто сказал, что «житейская» логика обязательна для искусства ?[28]
Показательно, что зрителю подобный объект кажется «нелогичным»; на самом деле он и не может быть воспринят по‑другому, ибо восприятие зрителя целиком и полностью определяется его внешней по отношению к объекту позицией. Нелогичность картины обязательно отсылает к логике того, кто её созерцает. Если же представить ситуацию, в которой не будет внешнего наблюдателя, то положение вещей изменится радикально: картина приобретет в таком случае свою собственную самодостаточную логику, трансцендирующую любое противопоставление; Друскин называет ее «логикой алогичности» (Чинари–1, 646). В пьесе «Елизавета Вам», где Ж.‑Ф. Жаккар нашел так много случаев нарушения нормальной коммуникации, есть интересный эпизод, в котором речь идет о «бесконечном доме»:
Петр Николаевич.
Никто в нем не живет
и дверь не растворяет,
в нем только мыши трут ладонями муку,
в нем только лампа светит розмарином
да целый день пустынником сидит на печке таракан.
Иван Иванович.
А кто же лампу зажигает?
Петр Николаевич.
Никто, она горит сама.
Иван Иванович.
Но этого же не бывает!
(Псс–1, 260).
«Это дом движителя времени, где нет наблюдателя, где лампа подобна солнцу», – замечает М. Ямпольский (Ямпольский, 152)[29]. Неудивительно, что Иван Иванович не верит, что лампа может гореть сама: он находится снаружи дома, закрытая дверь которого защищает эту зону алогичности от проникновения логики[30]. «Бесконечный дом» оказывается, таким образом, настоящим произведением искусства: тот, кому удастся туда проникнуть, уже не сможет оперировать понятиями, связанными с дискурсивным разумом. Он уже не вне произведения искусства, а внутри его. По мысли Друскина, в подобном состоянии бессмыслица, вне‑смысл переживаются как нечто настолько естественное, что алогичность такого бытия становится внутренней логикой его существования (Чинари–1 , 646). В трактате «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом» Хармс отстаивает такую же позицию: так, человек, которому удалось выйти на глубинный уровень субстанциальных значений предметов, перестает, как утверждает поэт, быть наблюдателем, «превратясь в предмет, созданный им самим. Себе он приписывает пятое значение своего существования» (Чинари–2, 334). Друскин придал данной формулировке экзистенциальный смысл, вспомнив слова Введенского о том, что «Хармс не создает искусство, а сам есть искусство. Хармс в конце тридцатых годов говорил, что главным для него всегда было не искусство, а жизнь: сделать свою жизнь как искусство. Это не эстетизм: „творение жизни как искусства“ для Хармса было категорией не эстетического порядка, а, как сейчас говорят, экзистенциального»[31].
Итак, бессмыслица является абсолютной реальностью. Логосом, ставшим плотью. «<…> сам этот личный Логос алогичен, так же как и Его вочеловечение», – пишет Друскин (Чинари–1, 646). Слово, ставшее плотью, не иррационально, а арационально. Не случайно бессмыслица или, лучше, алогичность, которая трансцендирует понятия как нормы, так и безумия, расценивается обычно как отклонение, в том числе и психическое, – судьба Хармса, умершего в тюремной психиатрической больнице, является еще одним тому доказательством. Не случайно также, что Беккет, ставивший себе задачей преодоление диктата языка над писателем и, в идеале, полное разрушение языка, которое могло бы привести к абсолютному покою небытия, рассматривает сумасшествие, причем с самых ранних этапов своего творчества, как наиболее приемлемую стратегию борьбы с внешним миром, а значит и с языком, который он порождает. В этом отношении особенно примечателен господин Эндон, один из персонажей «Мэрфи»; именно этому пациенту психиатрической клиники Марии Магдалины суждено воплотить тот идеал, к которому стремятся герои всех последующих произведений писателя: неукорененность Эндона в бытии, кататонический ступор, в котором он находится почти постоянно, не могли не послужить Беккету той моделью, в которой в наиболее полной степени проявило себя свойственное ему абсолютное отрицание внешнего мира. Но не привлекает его и внутренний мир человека, погружение в который грозит постепенным растворением в бессознательном, что и происходит в трилогии, и особенно в романе 1960 года «Как есть», агонизирующий язык которого отражает полную дезинтеграцию сознания. Мутизм Эндона, отражающий отсутствие как сознательной, так и бессознательной жизни, определяет в конечном счете всю динамику беккетовского творчества: вначале отказ от изображения внешней действительности, затем растворение в недрах бессознательного и в конце концов создание текста нейтрального, абстрактного, – текста, безжизненность которого приближает писателя к пустоте белого листа бумаги, к покою небытия.
Хотя в клинике есть еще один пациент, погруженный в глубокий ступор, – некий Кларк, Мэрфи стремится походить именно на господина Эндона, который выделяется на фоне всех остальных обитателей клиники. Кларк повторяет часами одну и ту же фразу: «Господин Эндон – существо высшего порядка» (Мэрфи, 140). Таким образом, если Кларк признает, что есть что‑то, что находится вне его, Эндон замкнут сам на себе и существует безотносительно к чему‑либо иному[32]. Лишь внешний взгляд превращает его в сумасшедшего, тогда как в действительности он существует по ту сторону нормы и безумия. В этом отношении его состояние можно назвать алогичным или, иначе, внесмысленным. «Нормальный» человек думает, что безумен шизофреник, для шизофреника может быть безумен окружающий его мир; господин Эндон не думает ничего, он научился жить «без головы», как сказал художник Брам ван Вельде по поводу самого Беккета[33]. Точно так же и «безумие божье», божественная бессмыслица является безумием лишь с точки зрения человеческой мудрости.
В этой перспективе смерть Мэрфи тоже алогична. Действительно, несмотря на то что Мэрфи погибает в результате банального взрыва газа, его физическая смерть определяется уже не внешними факторами, но состоянием его собственного духа, который давно уже не связан ограничениями, налагаемыми телесностью. Физическая смерть Мэрфи возможна потому, что структура его духа, подробное описание которой дается в шестой главе романа, включает в себя так называемую третью зону, где нет места не только Мэрфи телесному, но и Мэрфи как таковому: иными словами, дух Мэрфи содержит в себе как составную часть безличный хаос, «беспорядок неньютоновского движения» (Мэрфи, 85). К тому же для Мэрфи газ этимологически связан с хаосом. «Бытие‑в‑смерти» отличает его от других беккетовских персонажей и в том числе Мэлона, героя второго романа трилогии (1948; опубл. 1951), с нетерпением ждущего скорой, как ему кажется, смерти:
Я чувствую приближение, – говорит он. – Того, что движется, благодарю, ко мне. Я хотел убедиться наверняка, прежде чем записать. Добросовестный до предела, мелочно требовательный, не терпящий ошибок – таков Мэлон во всем. Я говорю об уверенности, что час мой настает. Ведь я никогда не сомневался, что он пробьет, рано или поздно, за исключением тех дней, когда мне казалось, что он уже миновал.
(Мэлон, 257–258)
Но смерть все не идет, и Мэлон вновь и вновь возвращается к описанию своей затянувшейся агонии, как бы заклиная смерть поторопиться: «Все готово. Кроме меня. Мне даруется, попробую выразить это так, рождение в смерть, такое у меня впечатление. Мои ноги уже вышли, жизнь их выродила. Подходящий образ, как мне кажется. Моя голова умрет последней» (Мэлон, 314). Он не понимает, что не смерть «избавит» его от головы; напротив, чтобы достичь смерти, надо отказаться от привычки записывать, «отказаться» от головы. Лишь Безымянный, самый таинственный герой Беккета, сможет принять данный парадокс как фундаментальный принцип бытия, стремящегося к саморазрушению.
* * *
Говоря о Введенском, Друскин намечает аналогию между алогичностью и «ученым незнанием» Николая Кузанского. Несомненно, что подобная аналогия правомерна и при анализе творческого метода Хармса. Важнейший принцип доктрины кардинала – совпадение противоположностей, «coincidentia oppositorum», – выступает в качестве основы божественной природы. Бог мыслится теологом как «конец всех движений, в котором всякое движение успокаивается как в своей цели; ведь он есть максимальный покой, в котором всякое движение есть покой, и его максимальный покой есть так же мера всех движений, как максимальная прямая – мера всех круговращений, а максимальное настоящее, или вечность, – мера всех времен»[34].
Роль божества выполняет, во втором романе Беккета «Уотт» (1942–1944; опубл. 1953), господин Нотт, природа которого трансцендирует понятия, присущие человеческому разуму. Божество недоступно восприятию, недоступно взгляду внешнего наблюдателя, пытающегося приписать ему человеческие качества[35]:
Добавьте к тому же, – говорит рассказчик, – что в те редкие разы, когда Уотт видел мельком господина Нотта, он видел его неясно, как в зеркале без оловянной амальгамы, в восточном окне утром, в западном вечером. Добавьте, что та фигура, которую Уотт видел мельком, в вестибюле, в саду, редко была той же самой, но менялась, если верить глазам Уотта, настолько, что ее тучность, цвет и шевелюра, и, конечно же, её манера передвигаться и оставаться на месте трансформировались каждый раз до такой степени, что если бы Уотт не знал, что это был господин Нотт, то он никогда не поверил бы, что речь идет об одном и том же человеке.
(Уотт, 152–153)
В хармсовской поэме «Гвидон» (1930) совпадение противоположностей также происходит именно в Боге, о котором монахи говорят, что он одновременно и велик и мал, и свиреп и мил, и свет и мрак. Что же касается Уотта, то в начале его пребывания в доме господина Нотта все внимание беккетовского героя направлено на внешний мир, а его усилия – на то, чтобы попытаться объяснить с помощью логики те алогические события, которые происходят вокруг него:
Не было такого звука, в пределах досягаемости его слуха, чтобы он не уловил его тут же и, в случае необходимости, его не проанализировал, и он смотрел широко открытыми глазами на все, что шевелилось, вблизи или вдали, на все, что приближалось и удалялось, и останавливалось и топталось на месте, и на все, что становилось светлее и темнее, больше и меньше, и часто он схватывал природу изучаемого объекта и даже непосредственную причину его существования.
(Уотт, 86)
Это внимание объясняется в конечном счете необходимостью включить событие или объект в бесконечную цепь, где каждое следствие имеет свою причину, а причина – следствие. Существование же господина Нотта не определяется никакой причиной, оно «акаузально», вот почему Уотт не в состоянии сказать что‑либо конкретное о своем хозяине. Только покинув его дом, Уотт начинает путешествие в абсолютное отсутствие, в молчание пустоты. Переломным моментом в развитии беккетовского персонажа является сцена на вокзале: Уотт закрывает глаза, предпочтя внешнему миру мир внутренний, миру сознания мир бессознательный.
Чтобы походить на Нотта, надо потерять рассудок и соответственно дар связной, логической речи. Рассказом о пребывании Уотта в психиатрической лечебнице, в которую он попадает впоследствии, мы обязаны Сэму, другому пациенту лечебницы, под маской которого скрывается сам Беккет. Согласно Сэму, им с Уоттом удавалось разговаривать во время прогулок по больничному саду; однако, «подобно тому как Уотт передвигался задом наперед, его речь также текла вспять» (Уотт, 169). В романе приводятся восемь способов инверсии порядка предложений в высказывании, слов в предложении и букв в слове, превращающие речь в набор бессмысленных звуков, причем восьмой, и последний, способ, предусматривающий синхронную инверсию всех элементов высказывания, демонстрирует полное разложение и обессмысливание коммуникации. Звуки, которые при этом издает Уотт, – «tav te tonk, toe a toc. Ruoi tuot, skon trap» и т. п., – удивительно напоминают стихотворные опыты русских заумников. Известно, что Хармс также отдал дань заумному творчеству, но известно и то, что в тот период, когда он разрабатывает свою философско‑поэтическую концепцию, то есть в конце 1920‑х – начале 1930‑х годов, заумь играет в его произведениях лишь вспомогательную роль и вытесняется бессмыслицей семантической, при которой нарушается и даже разрушается содержательная связь между элементами словосочетания и высказывания, а также между несколькими высказываниями. К тому же «звуковые конвульсии» Уотта (Уотт, 174) и заумь футуристов имеют разную природу: если речь беккетовского персонажа отражает распад его личности и погружение в бездны бессознательного, то заумь во многом является продуктом сознательного, волевого разложения «нормального», «логического» языка. Первое заумное стихотворение – «Дыр бул щыл» Крученых – родилось как воплощение вполне сознательного намерения деформировать обиходный язык, но не как реализация спонтанно‑бессознательного творческого акта[36]. Хармс в своем творчестве пытался избежать как излишней «сознательности» поэтов‑футуристов, так и бессознательности, свойственной душевнобольному, именно поэтому ему ближе всего было наследие Хлебникова – поэта, сочетавшего склонность к теоретическим обобщениям и выкладкам с непосредственным, мистически‑полубессознательным отношением к художественному творчеству. Безусловно, отказ от дискурсивного разума, влекущий за собой некое помрачение рассудка, необходим, и этот тезис разделяли как Беккет, так и Хармс, но, в то время как Беккет находил в безумии кратчайшую дорогу к небытию, Хармс стремился, пройдя через хаос безумия, достичь нового, просветленного, алогического состояния, в котором во всей своей полноте открывается божественная природа творения.
Но вернемся к Уотту, чье передвижение задом наперед (мотив, восходящий к «Божественной комедии») символизирует обращение времени вспять и возвращение на стадию дородовую, досознательную. К тому же звуки, издаваемые Уоттом, напоминают о его таинственном хозяине, господине Нотте:
Уотт никогда не слышал господина Нотта, ни как он говорит, разумеется, ни как он смеется или плачет. Но однажды ему показалось, что он услышал звуки, похожие на щебет птицы: Куи! Куи! В другой раз он услышал, как тот производил странный шум: ПЛОПФ Плопф Плопф Плопф плопф плопф плоп пло пл. Все это происходило среди цветов.
(Уотт, 153)
Эти звуки существуют вне смысла, вне коммуникации и тем самым соприкасаются с тишиной, с ничто. И однако же Сэм уверяет, что он постепенно привык к ним и начал понимать по меньшей мере половину из того, что «проникало через его ушную серу» (Уотт, 174). Так он пытается «измерить отсутствие», «заключить ничто в слова» (Уотт, 259), другими словами, релятивизировать молчание, приписывая ему определенный, более или менее понятный, смысл. В то время как Уотт отвергает коммуникацию, Сэм ему ее навязывает. В последующих произведениях, в частности в трилогии и романе «Как есть», функция говорения и функция слушания и записывания, которые олицетворяются в «Уотте» двумя разными персонажами, объединяются и становятся единой экзистенциальной функцией, присущей одному‑единственному персонажу‑микрокосму и выражающей неразрывную связь жизненного процесса и процесса говорения‑письма: сам процесс говорения (а говорит беккетовский персонаж не останавливаясь) по сути равнозначен процессу письма, ибо все, что им говорится, тут же облекается – и не обязательно с помощью ручки и карандаша, а другим, мистическим способом, выражающим веру в изначальную субстанциальность слова, – в плоть текста, над которым человек уже не властен. Пока существует голос, существует текст, пока существует текст, человек не может достичь покоя небытия – отсюда постоянное желание замолчать, постоянная борьба с собственным текстом, которую ведут Беккет и его персонаж. Начиная с трилогии, дуализм, раздвоение на духовное и телесное преодолеваются за счет отказа от телесного как такового, в том числе и от внешнего предметного мира. Простейший, личиночный организм, не имеющий ни глаз, ни рта, ни ушей, – вот, без преувеличения, идеал Беккета, к которому все больше и больше приближается его герой. При этом динамика беккетовского творчества подводит его к необходимости отказаться не только от внешнего мира, но и от мира внутреннего, мира психологических переживаний; образно говоря, Беккет чувствует потребность преодолеть как внешнее, так и внутреннее зрение, отказаться от привычки вслушиваться в то, что происходит в его голове, и отдаться во власть хаотической, бессознательной стихии, растворяющей его «я». Интересно, что слово «алогичность» имеет медицинский аналог – термин «алогия» обозначает потерю речи; молчание того, кто ее потерял, самодостаточно, как самодостаточен пребывающий в вечном молчании Годо. Главная опасность все же кроется именно в переходе от безличных, самодостаточных слов к тишине небытия; потеря «я», находящая свое выражение в текстовом хаосе, содержит в себе угрозу растворения в аморфных массах бессознательного, которым соответствует, на онтологическом уровне, бытие‑в‑себе, бытие безличное, такое, каким оно было до разделения мира на отдельные элементы. Мы увидим в дальнейшем, что эта опасность реально угрожала не только беккетовскому герою, лихорадочно призывающему смерть, но и поэтическому демаршу Хармса, главной целью которого было достижение не смерти, а жизни, той высшей, чистой реальности, которую поэт называл «первой».
Итак, если для Беккета алогичность является источником смерти, то для Хармса она – источник жизни. Утрата дара речи выступает, таким образом, в качестве некоего промежуточного, хотя и необходимого, этапа поисков алогического смысла, которым посвятил поэтический период своего творчества Хармс: поэт должен на какой‑то момент стать немым, чтобы избавиться от конвенционального языка; но затем он вновь обретает дар речи, на этот раз – речи нерефлексивной, близкой к божественному алогическому Логосу. В то время как главной задачей Беккета было сделать так, чтобы мир стал безмолвным как камень[37], Хармс пытался камень оживить, заставить его говорить. Одним словом, если Беккет стремился к бытию, однообразие и однородность которого отрицают саму возможность зарождения новой жизни, к белизне чистой страницы, существующей вне цвета и вне жизни, то Хармс мечтал о мире красочном и многообразном, который хранил бы тем не менее отпечаток внутреннего единства, присущего ему изначально.
От алогичности к абсурду
Вся метафизико‑поэтическая концепция Хармса основывается на одной непреложной истине: есть высшая реальность, имманентная Богу, который в момент творчества из силы трансцендентной становится силой трансцендентно‑имманентной поэту (то есть такой, которая, с одной стороны, ему внеположна, а с другой – переживается поэтом как внутреннее откровение). Беккету же имманентность бытия Богу представляется величайшей опасностью, ибо она означает постоянную регенерацию жизни и, следовательно, «стабилизацию» бытия. В «Уотте» сказано:
Не имея необходимости ни в чем, кроме как в необходимости не иметь необходимости, во‑первых, и в необходимости иметь свидетеля этого отсутствия необходимости, во‑вторых, господин Нотт не знал ничего о своей собственной природе. Откуда проистекала необходимость иметь свидетеля, но не для того, чтобы знать, а для того, чтобы продолжать существовать.
(Уотт, 210)
Так всеобъемлющая природа Бога испытывает необходимость в человеке, само несовершенство и неполнота которого, отсылая к совершенству Бога, делает его вечным, «парализует» его; именно в нежелании божественной тотальности превратиться в пустоту небытия и заключается, согласно Беккету, основное стремление божества. Алогическое как бы источает из себя логическое и иллогическое, в то же самое время трансцендируя их; так появляется прямая линия темпоральности, которая, стремясь вновь вернуться к совершенству божественного круга, стабилизирует его бытие самим фактом этого стремления. Если божественное бытие является источником существования человеческой экзистенции, то человек, его присутствие в мире позволяют Богу существовать вечно. Похожую идею можно найти в книге Ж. Мартена «Абсурд»:
На мой взгляд, – пишет он, – бытие Бога очевидно, и мы существуем лишь благодаря ему. Но, в свою очередь, Бог существует лишь постольку, поскольку мы живем его присутствием и признаем его реальность. Другими словами, наше собственное бытие (как конститутивная трансценденция нашего сознания) испытывает необходимость в божественном бытии, чтобы существовать самому, но в то же время Бог, как трансцендентность, нуждается в нашем бытии и в бытии нашего сознания[38].
Бог трансцендентен человеку, но сама его трансцендентность определяется в конечном счете существованием человека, которого творец мира создал по своему образу и подобию.
Таким образом, фамилия господина Нотта (Knott) может отсылать не только к английскому слову «not» («не»), но и к слову «knot» («узел»), заставляющему вспомнить об Узле Вселенной, о котором говорит Хармс в трактате с условным названием «О существовании, о времени, о пространстве». Не желая «остановиться окончательно», то есть умереть, господин Нотт «безостановочно останавливается» (Уотт, 211), превращая смерть из одномоментного акта в бесконечный процесс. Похожие отношения взаимозависимости, когда один член оппозиции не существует без другого, связывают не только Нотта и Уотта, но и персонажей наиболее известной пьесы Беккета «В ожидании Годо» (1948; опубл. 1952). Во всяком случае Поццо, который, по‑видимому, играет в пьесе роль божества, претерпевает те же метаморфозы, что и господин Нотт. «Что касается внешности господина Нотта, то Уотт, к сожалению, не мог сообщить о ней что‑либо конкретное. Ибо если в какой‑то день Нотт казался ему высоким, толстым и бледным брюнетом, то назавтра он становился сухощавым, маленьким краснолицым блондином, а еще на следующий день – коренастым, желтокожим и рыжим человеком среднего роста <…>» – так начинается в «Уотте» одно из многочисленных описаний, целиком построенных на принципе максимально полного перечисления всех возможных комбинаций (Уотт, 217). Точно так же и Поццо, которого Владимир расспрашивает о трансформациях, произошедших с ним и с его слугой Лаки, отвечает с яростью:
Сколько можно отравлять мне жизнь вашими расспросами о времени? Это бессмысленно. Когда! Когда! В один прекрасный день – вас это устроит? – в один прекрасный день, такой же, как и все остальные, он онемел; в один прекрасный день я ослеп; в один прекрасный день мы все оглохнем, в один прекрасный день мы все появились на свет, в один прекрасный день мы все умрем, в тот же самый день, в тот же самый миг – вас это устроит?[39]
Между способностью видеть и слепотой, между способностью говорить и немотой – лишь одно мгновение, но это мгновение, равное вечности, в котором времени больше нет. Можно сказать, что Поццо трансцендирует оба состояния, будучи одновременно и слепым и зрячим, вечно рождающимся и вечно умирающим; не случайно Владимир подвергает сомнению его слепоту: «Мне кажется, он нас видел», – говорит он Эстрагону (Театр, 116). Бог лишь притворяется слепым, лишь делает вид, что он индифферентен; на самом деле его глаза постоянно направлены на человека, в присутствии которого он находит оправдание собственному бытию. Поразительна одна из сцен в «Фильме» (1963; опубл. 1967), сценарии, который Беккет хотел предложить вначале Чарли Чаплину и который был реализован впоследствии при участии Бастера Китона. Внимание О, объекта, приковано к «олеографии, прикрепленной к стене перед ним и изображающей Бога‑Отца. Широко раскрытые глаза сурово смотрят на него. Он кладет полотенце на пол и изучает олеографию. […] Он срывает олеографию со стены, разрывает ее на четыре части и топчет ее ногой»[40]. Фраза «широко раскрытые глаза сурово смотрят на него» оставляет нас в неизвестности идет ли речь о глазах протагониста или Бога‑Отца, хотя тот факт, что О рвет на части олеографию, говорит скорее в пользу второго предположения. Однако даже если герою и удается избавиться от внешнего восприятия, он не способен избежать самовосприятия; «Фильм», основу которого составляет максима Беркли «Esse est percipi» – «Быть – это быть воспринятым», – доказывает это с очевидностью: «Поиски небытия путем устранения любого внешнего восприятия наталкиваются на неустранимое восприятие себя самого»[41].
Как и Нотту, Поццо необходим свидетель: «Видите ли, друзья, – обращается он к Владимиру и Эстрагону, – я совершенно не могу долго находиться вне общества себе подобных (смотрит на себе подобных), даже если сходство весьма сомнительное» (Театр, 39)[42]. Мотив неразрывной связи между Богом и человеком неоднократно повторяется в пьесе: подобно тому как существование Владимира и Эстрагона определяется ожиданием Годо, Лаки не может существовать без Поццо, к которому он привязан (в прямом и переносном смысле), а Поццо – без Лаки. Соответственно если Поццо и Лаки образуют нерасторжимую пару, то та же неспособность Владимира и Эстрагона разорвать связь с Годо угрожает сделать вечным их ожидание; так, Годо, чтобы существовать, необходим кто‑либо, кто бы ждал его, причем Годо заинтересован, чтобы ожидание длилось вечно, поскольку он существует так долго, как долго оно длится. Вот почему все надежды Владимира и Эстрагона, которые они возлагают на Годо как на трансцендентную силу, способную освободить их от ожидания, обречены на провал: Годо не придет никогда.
Есть ли какой‑нибудь выход из этого тупика? Коль скоро присутствие Бога «парализует» человеческую экзистенцию, не может ли человек попытаться ускользнуть от постоянного контроля, преодолев саму ограниченность человеческой натуры и сравнявшись с Богом в его неизмеримости и вездесущности? Тогда человек стал бы тем целым, вне которого не осталось бы ничего, стал бы единственным свидетелем себя самого, что, по мысли Уотта, позволило бы ему вплотную приблизиться к небытию. Беккетовский герой выбирает именно такой путь, в конце которого его ждет почти полное растворение в магме бессознательного. Отказ от слова рационального неизбежно ведет его к слову безумному, в котором безумие предстает не как нечто противоположное разуму, а как единственно возможная, тотальная реальность. Монолог Лаки в «В ожидании Годо» последние страницы «Безымянного», агонизирующий язык романа «Как есть» демонстрируют, к чему приводит распадение причинно‑следственных связей, преодоление языка, закостеневшего в своей рациональности. Но демарш беккетовского персонажа не исчерпывается достижением анонимного бытия; напротив, огромным усилием он должен остановить саморазворачивание безумного слова, превратить его в тишину, в молчание, подобное тому, которое обретает Лаки в конце пьесы. Спасение Уотта в его превращении в господина Нотта, закрытого для любого проникновения внешнего мира:
Пожалуй, лишь один из жестов господина Нотта мог считаться характерным для него: он состоял в одновременном закупоривании всех лицевых впадин, большие пальцы закрывали рот, указательные – уши, мизинцы – ноздри, безымянные – глаза, и, наконец, два средних пальца, способные в кризисные моменты ускорять мозговую деятельность, закрывали виски. Но это был скорее даже не жест, а состояние, которое господин Нотт поддерживал, без всякого видимого напряжения, в течение длительного времени.
(Уотт, 220)
К этому алогическому состоянию стремятся Моллой, Мэлон и Безымянный, персонажи беккетовской трилогии; но именно оно и несет в себе главную опасность, с которой им придется столкнуться: алогичность замкнутого на себе бытия может переродиться в абсурдность бытия‑в‑себе, в абсурдность бытия как архетипической реальности, где стираются грани между предметами и мир превращается в аморфную массу. Это абсурдность бытия, которое не должно было бы существовать, но тем не менее, подобно Нотту, существует[43]. Бытие возвращается к своему исходному состоянию – аморфной плазме, еще не подвергшейся делению путем дифференциации. Его безличность угрожает не только героям трилогии, но и представителям «человеческого стада», населяющим хармсовскую прозу 1930‑х годов, – попытка поэта перейти от сознания к сверхсознанию, минуя опасности бессознательного, обернется неудачей. Именно поэтому, к слову, для Хармса Бог – существо личное, конкретное в своей трансцендентной реальности[44].
Чтобы умереть, надо остаться одному – от этой исходной предпосылки отправляются на поиски одиночества герои Беккета, одиночества, которое принесет им новые непереносимые страдания. Не так ли одинок и писатель, удел которого – попытаться оживить пока еще мертвую пустую белую страницу, лежащую на его столе. Существует лишь он и мертвая тишина, которая, возможно, заговорит. «Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо и бумагу и запретили что‑либо делать. У меня не было тревоги, что я не делаю чего‑то по своей вине. Совесть была спокойна, и я был счастлив. Это было, когда я сидел в тюрьме. Но если бы меня спросили, не хочу ли я опять туда или в положение, подобное тюрьме, я сказал бы: нет, не хочу», – говорит Хармс (Дневники, 495). Писать – это очень тяжело, почти невыносимо, но не писать, не пытаться выбраться из трясины повседневности, из «заботы бытия‑в», еще невыносимее. Внутренняя потребность писать сжигает русского поэта, заставляя его солнечным апрельским днем 1933 года пометить в дневнике: «Я хочу писать. Я хочу писать очень много и хорошо писать. Я хочу писать очень много очень хороших стихов» (Дневники, 471). Та же потребность заставляет молодого Беккета бросить преподавание и стать писателем, хотя, парадоксальным образом, на этот раз речь идет не о потребности говорить, но о потребности замолчать. Чтобы закончить текст, надо прежде всего его начать; чтобы достигнуть молчания, надо произнести все возможные слова и тем самым исчерпать их. Риск, с которым сталкивается писатель, без сомнения, огромен: слово угрожает бесконечным саморазвертыванием, поглощающим индивидуальность творца. Текст становится бесконечным, а писатель – слишком слабым, чтобы положить ему конец. На онтологическом уровне аморфность текста лишь отражает магматичность самого бытия‑в‑себе, растворяющего конкретного человека. Стихия бессознательного, погрузиться в которую необходимо, чтобы разрушить каркас сознания, устраняет автора, который лишается власти над собственным текстом. Текст перестает отражать внешнюю действительность и становится единственной реальностью, притяжение которой совсем не просто преодолеть.
ГЛАВА 2. ТВОРЧЕСТВО И ТВОРЕНИЕ
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 227; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
