ПРОСТОЙ МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Критическое допущение, лежащее в основе модели обязательства, повторимся, заключается в том, что люди могут делать разумные заключения о чертах характера других людей. Говоря о «разумных заключениях», я не имею в виду, что необходимо предсказывать эмоциональные склонности других наверняка. Точно так же, как прогноз погоды, сообщающий о 20% вероятности дождя, может оказаться бесценным для человека, собирающегося провести время на свежем воздухе, так и вероятностные оценки черт характера могут оказаться полезными для людей, выбирающих, кому довериться. Конечно, в обоих случаях точность не помешает. Но часто достаточно быть правым лишь частично.
Разумно ли предположить, что мы можем делать выводы об эмоциональных склонностях других людей? Представьте, что вы только что пришли с многолюдного концерта и выяснили, что потеряли 1000 долларов наличными. Деньги были у вас в кармане пальто в простом конверте с вашем именем. Знаете ли вы кого-то, кто не связан с вами родственными узами или узами брака, кто наверняка вернул бы вам эти деньги, если бы нашел их?
В интересах обсуждения я предположу, что вам повезло ответить положительно на этот вопрос. Подумайте о человеке, который, как вы уверены, вернет вам деньги, назовем его «Добродетель». Попробуйте объяснить, почему вы в нем так уверены. Не забывайте, что ситуация такова, что, если бы он оставил деньги себе, вы бы об этом не узнали. Исходя из опыта отношений с этим человеком, самое большее, что вы можете знать, — что он не обманывал во всех подобных случаях в прошлом. Даже если он вернул потерянные вами деньги в прошлом, это не доказывает, что он не обманет вас в другой раз. (В конце концов, если он обманывал вас в похожей ситуации, вы бы все равно об этом не узнали.) В любом случае у вас почти наверняка нет логичного основания в опыте, чтобы заключить, что Добродетель не обманет вас сейчас. Если вы такой же, как большинство людей, вы просто верите в то, что можете представить себе его внутренние мотивы: вы уверены, что он вернет вам деньги, потому что уверены, что он будет себя ужасно чувствовать, если этого не сделает.
|
|
|
Мысленный эксперимент также показывает, что такие эмоциональные склонности могут зависеть от обстоятельств. Подумайте, например, о ваших отношениях с Добродетелем. Обычно это близкий друг. Это естественно по крайней мере по двум причинам. Во-первых, у вас гораздо больше возможностей наблюдать за поведением близкого друга; если ситуации, проливающие свет на характер человека, случаются только изредка, то вероятность стать свидетелем такой ситуации у вас гораздо больше. Во-вторых, и что, вероятно, еще важнее, вы гораздо больше склонны доверять другу, ибо полагаете, что он испытывает особое чувство верности по отношению к вам. В самом деле, ваша вера в то, что Добродетель отдаст вам деньги, необязательно подразумевает веру в то, что он вернул бы конверт, на котором было бы совершенно незнакомое имя. Его готовность вернуть деньги может быть обусловлена вашими с ним отношениями.
|
|
|
Ваша интуиция также может подсказать, что важно и то, сколько в конверте денег. Большинство людей считают, что знают гораздо больше людей, которые вернут 100 долларов, но не 1000. По той же логике человек, который без колебаний вернет 1000 долларов, может тем не менее прикарманить конверт с 50 тыс. долларов.
Представления людей о добре и зле, очевидно, не единственная сила, управляющая поведением. Как уже давно подчеркивали Уолтер Мишел[8] и социальные психологи, почти все виды поведения испытывают сильное влияние деталей и нюансов контекста. Но несмотря на очевидную важность ситуационных факторов, это еще не все. Наоборот, большинство участников этого мысленного эксперимента отвечают, что знают человека, который вернул бы деньги незнакомцу или даже человеку, который им глубоко несимпатичен, независимо от размеров суммы. Я не хочу отрицать очевидную важность контекста здесь или в последующих главах, когда говорю о чертах характера, отличающих людей друг от друга. Было бы ошибкой делать вид, что черты характера объясняют все важные различия в поведении. Но, возможно, еще более ошибочно предполагать, что поведение определяется исключительно контекстом.
|
|
|
Конечно, факт вашей уверенности, что какой-то человек вернет деньги незнакомцу, не обязательно делает это реальностью. Множество внешне вполне достойных доверия людей подводили своих друзей в ситуациях, подобных той, что рассматривается в нашем мысленном эксперименте. Что этот эксперимент на самом деле подтверждает (при условии, что вы ответили утвердительно) — так это то, что вы принимаете ключевую посылку модели обязательства. Факты, которые мы рассмотрим в последующих главах, хотя и далеко не решающие, могут только усилить вашу веру в то, что мы действительно можем распознавать эмоциональные склонности в других людях.
ВАЖНОСТЬ ПРИСТРАСТИЙ
Модель эгоистического интереса допускает существование определенных пристрастий и ограничений, а затем подсчитывает, какие действия наилучшим образом служат этим пристрастиям. Широко используемая в военном деле, социальных науках, теории игр, философии и проч., эта модель влияет на решения, которые сказываются на всех нас. В стандартной форме она предполагает чисто эгоистические пристрастия, а именно: пристрастия к настоящим и будущим потребительским товарам разного рода, досугу и т.д. Зависть, чувство вины, гнев, гордость, любовь и тому подобные вещи обычно роли не играют[9].
|
|
|
Модель обязательства, наоборот, подчеркивает роль этих эмоций в поведении. Рационалисты говорят о пристрастиях, не об эмоциях, но с точки зрения анализа два этих понятия могут использоваться как взаимозаменяемые. Так, например, человек, мотивированный избегать чувства вины, может быть также описан как некто с «пристрастием» к честному поведению.
Пристрастия имеют важные последствия для действия. Включение пристрастий, которые помогают решить проблемы принятия на себя обязательств, существенным образом меняет предсказания моделей эгоистического интереса. Мы увидим, что людям может принести пользу чувство зависти, потому что оно позволяет им лучше торговаться. Но люди, испытывающие зависть, будут соглашаться на другие работы, получать другие зарплаты, иначе их тратить, иначе откладывать деньги и иначе голосовать, чем это предсказывает модель эгоистического интереса[10].
Чувство зависти также тесно связано с чувством честности. Если последнее не учитывать, мы больше не сможем прогнозировать, какие цены установят магазины, какие зарплаты потребуют работники, как долго руководство будет сопротивляться забастовке, какие налоги введет государство, как быстро будут расти военные бюджеты и будут ли переизбраны руководители профсоюзов.
Присутствие совести меняет предсказания моделей эгоистического интереса. Эти модели ясно предсказывают, что, когда интеракции между людьми носят однократный характер, люди будут обманывать, если знают, что это сойдет им с рук. Однако факты снова и снова показывают, что большинство людей не будут обманывать в такой ситуации. Модели эгоистического интереса также указывают, что владелец малого бизнеса не будет участвовать в лоббировании торговых ассоциаций. Как голос одного избирателя, его вклад покажется слишком малой частью целого, чтобы он что-то менял. И тем не менее многие владельцы малого бизнеса платят взносы в торговые ассоциации, и многие люди голосуют. Масштабы деятельности благотворительных организаций также гораздо шире, чем те, что могла бы предсказать модель эгоистического интереса.
В эмоциях, которые вызывают подобное поведение, нет ничего мистического. Наоборот, они — очевидная часть психологического устройства большинства людей. Здесь я надеюсь показать, что их присутствие прекрасно согласуется с требованиями, лежащими в основе последовательной теории рационального поведения.
Модель эгоистического интереса доказала свою полезность для понимания и предсказания поведения человека. Но она остается неполной в некоторых существенных аспектах. Большинство аналитиков рассматривают «иррациональное» поведение, мотивированное эмоциями, как выходящее за пределы этой модели. Однако, как мы увидим, нет необходимости — и даже контрпродуктивно — соглашаться с этим взглядом. Если мы будем внимательнее изучать те вещи, которые небезразличны людям, и причины, по которым они им небезразличны, мы можем получить гораздо более ясное представление о том, почему мы ведем себя так, а не иначе.
МОТИВАЦИЯ ЧЕСТНОСТИ
Когда оппортуниста заставляют вести себя морально, его почти незамедлительный, хотя и невысказанный вслух, вопрос: «Что я от этого получу?» Традиционное обоснование максимы «Честность — лучшая политика»: обман зачастую сурово карается, и никогда нельзя быть уверенным, что тебя не раскроют. Далее срабатывает инерция: однажды сдержанное обещание создает впечатление, что вы сделаете то же самое в будущем. Это, в свою очередь, располагает людей больше вам доверять, что порой дает решающее преимущество.
В некоторых случаях легко увидеть, почему честность — это действительно лучшая политика, согласно традиционно приводимым доводам. Рассмотрим, например, практику, которая со всей очевидностью зиждется на доверии: чаевые в ресторане. Поскольку чаевые принято оставлять в конце, официант или официантка должны полагаться на имплицитное обещание клиента наградить их за быстрое и вежливое обслуживание[11]. Добившись хорошего обслуживания, клиент может надуть официанта. Но хотя так время от времени и происходит, для большинства людей, неоднократно посещающих одни и те же рестораны, такая политика была бы неразумной. Человек, оставляющий щедрые чаевые всякий раз, когда посещает свой любимый ресторан, может рассматриваться как тот, кто делает рациональную инвестицию в получение хорошего обслуживания в будущем. Выполнение его имплицитного обещания, очевидно, не только не противоречит реализации его эгоистического интереса, но даже необходимо для активного стремления к этой реализации.
Трудность в том, что на самом деле поведение дающего чаевые в данном случае не отражает то, что мы понимаем под «честностью». Возможно, точнее будет описать его как «осторожность». Он выполнил обещание, да, но, поскольку его невыполнение привело бы к плохому обслуживанию в будущем, мы не можем заключить, что верность обещанию была здесь важным фактором мотивации.
Соблюдают ли люди свои договоренности, когда предполагают, что будут взаимодействовать с нами неоднократно, — это, конечно, важно. Но большую часть времени мы озабочены тем, как они себя поведут либо при мимолетной встрече, либо в ситуациях, когда за их поведением нельзя проследить. В конце концов, именно в таких ситуациях по-настоящему проверяется характер человека. В них честный поступок будет действительно требовать самопожертвования. Яркий пример — чаевые, оставленные в ресторане в далеком городе. Когда приезжий нарушает имплицитное обещание оставить чаевые, он экономит какие-то деньги, а у разгневанного официанта нет возможности с ним поквитаться.
Держа в голове подобные ситуации, многие люди цинично реагируют на идею, что честность — лучшая политика. Они понимают, что гарантированный успех — необязательное условие прибыльности обмана. Конечно, всегда есть некоторая вероятность, что официант, разозлившись, устроит сцену, свидетелем которой станет кто-то из ваших знакомых. Но, если не брать в расчет знаменитостей, этот риск не страшен или же слишком мал, чтобы всерьез рассматриваться как эгоистическое основание для чаевых. Трудность с традиционными эгоистическими апелляциями к морали в том, что они не дают причин не обманывать в ситуациях, в которых разоблачение абсолютно невозможно.
Модель обязательства предлагает совершенно иное основание для честности, одновременно и эгоистичное, и релевантное для ситуаций, в которых обман нельзя разоблачить. Если в человеке можно заметить такие черты характера, как честность, честный человек выиграет, имея возможность решить важные проблемы обязательства. Он окажется достойным доверия в ситуациях, в которых законченный эгоист будет казаться недостаточно надежным и потому будет не особенно популярен в ситуациях, предполагающих доверие.
Оставляя чаевые в далеком городе, человек подкрепляет собственные привычки, которые хочет в себе культивировать. Ибо, хотя современные биологи установили, что способность развивать различные черты характера является наследственной, никто до сих пор успешно не оспорил оставшееся с XIX века представление: для того чтобы проявились черты характера, нужны воспитание и практика. Таким образом, причинно-следственные отношения между характером и поведением действуют в обе стороны. Характер, конечно же, влияет на поведение. Но поведение так же влияет на характер. Несмотря на наши очевидные способности к самообману и рационализации, лишь немногие люди могут сохранять способности к честному поведению, если при этом им приходится часто демонстрировать явно оппортунистическое поведение.
Цель оппортуниста — выглядеть честным, не упуская при этом ни одной возможности для личной выгоды. Он хочет выглядеть хорошим человеком перед людьми, которые важны для него, но в то же время не оставлять чаевые в далеком городе. Однако, если черты характера считываются, это может оказаться невозможно. Может случиться и так: чтобы выглядеть честным, необходимо или по крайней мере полезно быть честным.
Эти наблюдения содержат в себе зерно совершенно иного основания для того, чтобы оставлять чаевые в ресторанах в далеком городе. Мотивация не в том, чтобы избежать поимки с поличным, а в том, чтобы поддерживать и укреплять склонность к честному поведению. То, что я не оставлю чаевые в далеком городе, помешает мне культивировать эмоции, мотивирующие поступать честно в других ситуациях. Именно это изменение в моем эмоциональном настрое, а не факт отсутствия чаевых может быть замечен другими людьми.
Философы морали и проч. часто подчеркивали негативные социальные последствия необузданной погони за своим эгоистическим интересом. Представители утилитаризма, например, призывают нас практиковать сдержанность, ибо мир станет лучше, если все будут сдержаннее. Но для оппортунистов такие призывы непривлекательны. С внешне безупречной логикой они рассуждают о том, что их собственное поведение не слишком влияет на то, что делают другие. Поскольку положение в мире оказывается в основном независимым от их собственного поведения, они делают вывод, что им лучше брать все, что можно, и предполагать, что другие поступают так же. По мере того как все больше людей начинают придерживаться этих взглядов, даже по-настоящему честным людям становится все труднее поступать иначе.
Многие из моих друзей и я сам в прошлые годы жаловались, что чувствуем себя идиотами, когда платим подоходный налог, в то время как так много людей открыто уклоняются от его уплаты. Однако не так давно занятия моделью обязательства радикально изменили взгляды на этот вопрос. Я по-прежнему раздражаюсь, когда сантехник просит меня заплатить наличными, но теперь мою обиду сглаживает мысль, что уплата налогов — это моя инвестиция в поддержание моей предрасположенности к честности. Добродетель здесь не только сама по себе награда, она также может привести к материальному вознаграждению в других контекстах. Больше ли этот внешний выигрыш того, что я мог бы спокойно украсть у государства — я точно не знаю. Но факты, как мы увидим, подсказывают, что, может быть, и больше.
Сама возможность подобных вознаграждений трансформирует решение человека, культивировать ли ему в себе склонность к честности или нет. С традиционной точки зрения на мораль, оппортунисты имеют все основания нарушать правила (и учить своих детей поступать так же) всегда, когда они могут сделать это с пользой для себя. Модель обязательства ставит под сомнение саму суть этого взгляда, что для меня является самой восхитительной ее особенностью. Поскольку эта модель дает понятный ответ на насущный вопрос: «Что я от этого получу?», я надеюсь, что она вдохновит даже самых закоренелых циников с большим уважением относиться к другим людям.
II. ПАРАДОКС АЛЬТРУИЗМА
Во «Взрослении» Рассел Бейкер рассказывает о родственниках матери, собравшихся за кухонным столом поздно ночью во время Великой депрессии и разговаривающих о давно потерянном семейном состоянии. О нем стало известно много лет назад, когда дедушка, «Папá», ездил в Европу изучать историю семьи. Там он узнал, что происходит из рода «сказочно богатого старого епископа Лондонского времени герцога Мальборо и королевы Анны».
Епископ, по-видимому, завещал свое состояние родственникам из Вирджинии — т.е. предкам Бейкера — но по каким-то причинам оно так и не перебралось через Атлантику. Папá сообщили, что оно было «возвращено Короне» и теперь является собственностью империи. Семья, однако, не сомневалась, что их законное состояние было украдено у них «британскими интриганами».
По их словам, потеря была ощутимой. «Возможно, миллион долларов в нынешних деньгах», как сказал дядя Рассела, Аллен. «Скорее пятьдесят или шестьдесят миллионов», по мнению его дяди Хэла.
Одиннадцатилетний Рассел одурманен былым семейным богатством. Но его сестра Дорис, хоть и на два года младше, настроена более скептически. Вот как об этом рассказывает Бейкер:
Мое волнение по поводу утраченного семейного богатства охладила Дорис. Однажды вечером я привычно ныл, сетуя, что приходится продавать журналы:
— Если бы мамин отец получил то богатство, мне бы не пришлось работать.
На что она спросила:
— Ты же не веришь в эти бредни?
Тогда-то я и расстался с иллюзиями. Еще не хватало, чтобы какая-то девятилетняя девчонка переплюнула меня по части скептицизма.
Подобно юному Бейкеру, многие ученые-бихевиористы страшно боятся, что коллеги сочтут их наивными. Им неприятно, когда их просят объяснить, почему дантист бесплатно работает в совете директоров местного благотворительного фонда. Возможно, он взялся за это добровольно — из благородных побуждений, но приземленные бихевиористы с неохотой говорят о таких мотивах. Они чувствуют себя гораздо увереннее, когда думают, что дантист надеется привлечь благосклонное внимание и тем самым заманить больше народу выдирать зубы, когда это понадобится. В самом деле, среди членов «Ротари-клуба» или других организаций «с миссией» мы в избытке находим юристов, страховых агентов и других, кому есть что продать, но не слишком много работников почты или пилотов самолетов.
Для материалистичного ученого нет большего унижения, чем назвать какое-то действие альтруистическим, а потом увидеть, как более изощренный коллега продемонстрирует, что оно было эгоистическим. Этот страх, безусловно, объясняет невероятное количество чернил, которые бихевиористы извели на то, чтобы раскопать хоть какой-нибудь эгоистический мотив для якобы самоотверженных действий. В этой главе я собираюсь рассмотреть самые важные из этих усилий и показать, что они объясняют некоторые, хотя и никак не все, из наших неудач в погоне за эгоистическим интересом.
НЕВИДИМАЯ РУКА
Внимание современного ученого-бихевиориста к эгоистическому интересу напрямую восходит к Адаму Смиту. Прозорливая идея шотландского философа, если выразить ее в двух предложениях, такова:
Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, но об их выгодах[12].
В схеме Смита поиски личной выгоды часто приносят пользу другим людям. Торговец, стремящийся получить прибыль, действует так, как будто невидимая рука заставляет его поставлять продукты, которые мы желаем получить. Однако Смит не строил иллюзий насчет того, что у этого явления всегда благотворные последствия. «Представители одного и того же вида торговли и ремесла редко собираются вместе <...> без того, чтобы их разговор не кончился заговором против публики или каким-либо соглашением о повышении цен», — замечает он.
Многих людей — бихевиористов среди них вызывающе мало — оскорбляет предположение, что поведение так сильно подчинено эгоистическому интересу. Даже сам Адам Смит в более ранней книге «Теория нравственных чувств» трогательно писал о сострадании человека к своим собратьям:
Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в нас несчастьем посторонних, увидим ли мы его собственными глазами или же представим его себе. Нам слишком часто приходится страдать страданиями другого, чтобы такая истина требовала доказательств. Чувство это, подобно прочим страстям, присущим нашей природе, обнаруживается не только в людях, отличающихся особенным человеколюбием и добродетелью, хотя, без всякого сомнения, они и наиболее восприимчивы к нему. Оно существует до известной степени в сердцах самых великих злодеев, людей, дерзким образом нарушивших общественные законы[13].
Однако кто будет отрицать, что большинство людей думает сначала о себе и о своей семье? Или то, что этот подход, безусловно, позволяет объяснять поведение? Когда детектив расследует убийство, его первый вопрос: «Кому выгодна смерть жертвы?» Когда экономист изучает государственное регулирование, он старается разобраться, в чью пользу оно работает, чьи доходы повышает. Когда сенатор предлагает новую статью расходов, политолог пытается понять, кто из его избирателей станет главным бенефициаром этого проекта. То, что эти вопросы так полезно задавать, не доказывает, что только лишь эгоистические мотивы имеют значение. Но даже в этом случае их важность едва ли вызывает сомнения.
ЭГОИЗМ И ДАРВИНОВСКАЯ МОДЕЛЬ
Самое убедительное интеллектуальное основание для модели эгоистического интереса предлагается не в «Исследовании богатства народов» Адама Смита, а в «Происхождении видов» Чарльза Дарвина (1859 год). Дарвин объяснил, что единственный способ, каким унаследованное свойство может получить широкое распространение, — усилить репродуктивные способности индивидов, являющихся его носителями. Согласно Дарвину, отдельно взятое свойство мало что значит для благополучия популяции в целом.
Одни из наиболее ярких доказательств этого предположения — свойства и черты, обусловленные выбором партнера. Самку павлина по каким-то причинам привлекают самцы с большими и ярко раскрашенными перьями в хвосте — чем больше, тем лучше. Это предпочтение могло возникнуть, потому что такие большие перья — полезный признак крепкого здоровья в целом, хорошая черта для того, чтобы передать потомству. Но как бы оно ни возникло, раз образовавшись, такое предпочтение в дальнейшем самовоспроизвóдится. Самка павлина, озабоченная репродуктивным успехом собственного мужского потомства, не нуждается ни в какой иной причине, чтобы отдавать предпочтение большим, красочным хвостам, кроме той, что большинство других самок тоже предпочитает такие хвосты. Любая самка, спаривающаяся с самцом с небольшими перьями на хвосте, будет иметь больше шансов получить сыновей с короткими хвостовыми перьями, которые тоже в свою очередь столкнутся с трудностями в привлечении партнерш.
Если бóльшая часть потомства произойдет от павлинов с длинным хвостовым оперением, среди самцов неизбежно начнется «гонка вооружений в хвостовом оперении». На каждом ее витке половой отбор будет поддерживать самцов с самым большим хвостовым оперением. В результате выживающие самцы будут иметь такое большое хвостовое оперение, что станут уязвимы для хищников. Павлины как группа, очевидно, имели бы больше преимуществ, если бы у всех было короткое хвостовое оперение. И тем не менее самцу-мутанту с существенно более коротким оперением будет труднее, чем остальным, поскольку он будет менее привлекателен для самок.
Пример с павлинами проясняет крайне важный тезис: единицей отбора в дарвиновской модели является индивид, а не группа или вид. Учитывая уровень, на котором происходит отбор, поведение и физические характеристики любого вида должны развиваться так, чтобы благоприятствовать репродуктивным интересам не вида в целом, а его индивидуальных членов. Оказавшись перед выбором между действием, которое принесет пользу другим, и действием, которое служит его собственным узким интересам, каждое животное, как считается, запрограммировано силами эволюции следовать по второму пути.
Это фундаментальный принцип. Он применим не только к размерам хвостового оперения, но и к вопросу, обманывать или нет. Британский биолог Ричард Докинз иллюстрирует идею следующим описанием поведения только что вылупившихся птенцов:
Многие виды птиц кормят своих птенцов в гнезде. Все птенцы раскрывают клювы и кричат, а родители бросают в раскрытый рот одного из них червяка или другой лакомый кусочек. Чем голоднее птенец, тем громче он кричит. Поэтому, если родители всякий раз дают пищу тому, кто кричит громче всех, все птенцы в конечном счете получают свою долю, потому что после того, как один из них получит достаточно пищи, он уже не кричит так громко. Во всяком случае, так должны были бы обстоять дела в этом лучшем из миров, если бы индивидуумы не мошенничали. Но в свете нашей концепции эгоистичного гена мы должны ожидать, что индивидуумы будут мошенничать — врать относительно того, насколько они голодны. Ситуация будет обостряться, причем, надо полагать, это окажется довольно бессмысленным, поскольку может показаться, что если все их громкие крики — обман, то такой уровень громкости превратится в норму и, в сущности, перестанет вводить в заблуждение. Однако процесс этот нельзя повернуть вспять, потому что любой птенец, который попытается сделать первый шаг, понизив громкость крика, тут же будет наказан: он получит меньше пищи и, по всей вероятности, будет голодать[14].
Если бы человеческая природа тоже формировалась силами естественного отбора, по-видимому, пришлось бы сделать неизбежный вывод, что поведение человека должно быть в фундаментальном смысле эгоистическим, на манер описываемых Докинзом птенцов. Однако факт такого распространения дарвиновской модели на поведение человека остается глубоко спорным, в большой степени из-за того, что многие неохотно соглашаются с отрицанием существования у людей по-настоящему альтруистических побуждений.
РОДСТВЕННЫЙ ОТБОР
Биологи неоднократно пытались объяснить поведение, которое внешне представляется жертвенным. Многие из них использовали предложенное Уильямом Хэмилтоном понятие родственного отбора[15]. Согласно Хэмилтону, индивид часто бывает способен улучшать свое генетическое будущее, жертвуя собой ради других индивидов, носителей таких же, как у него, генов. Действительно, для некоторых особей некоторых видов (например, у рабочих муравьев, которые не могут размножаться) помощь родственникам — единственный способ помочь выживанию копий их собственных генов. Модель родственного отбора предсказывает, что родители пойдут на «альтруистические» жертвы ради своего потомства, братья — ради сестер и т.д. (Предвосхитив аргумент Хэмилтона на несколько десятков лет, Дж.Б.С. Хэлдейн однажды заметил, что для него было бы целесообразно пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы спасти жизни своих восьми двоюродных братьев и сестер — потому что двоюродные братья и сестры в среднем имеют одну восьмую общего генетического материала.)
Модель родственного отбора хорошо встраивается в концепцию Дарвина и пользуется большим влиянием в том, что касается предсказаний. Э.О. Уилсон, например, показал, что то, в какой степени муравьи помогают друг другу, очень точно предсказывается степенью их родства[16]. Роберт Трайверс даже показал, что модель родства предсказывает специфические конфликты между родственниками. Он, например, продемонстрировал конфликт матери и потомства из-за отнятия от груди: период грудного вскармливания, отвечающий репродуктивным интересам матери, значительно короче, чем тот, который лучше всего служит ее потомству[17].
Жертвы, принесенные ради родственников, — пример того, что Э.О. Уилсон называет «“жестким” альтруизмом, набором реакций, на которые не оказывают особого влияния социальные вознаграждения или наказания за пределами детского возраста»[18]. С одной точки зрения поведение, которое объясняется моделью родственного отбора, отнюдь не является жертвенным. Когда особь помогает родственнику, она просто помогает той части себя, которая воплощается в генах этого родственника.
Однако, как отмечает философ Филип Китчер, этот взгляд слишком быстро списывает невероятные личные издержки, которые иногда приходится нести тем, кто жертвует собой ради родственников.
Когда мы вспоминаем случаи альтруистического поведения в отношении родственников, мы вспоминаем в первую очередь не родителей, которые бросаются спасать детей прежде, чем осознают, что опасность грозит и им самим. Нет, мы думаем о политических заключенных, которые выдерживают пытки, чтобы защитить своих родных, о Корделии, следующей за отцом в тюрьму, о решимости Антигоны похоронить своего брата. Это не те случаи, от которых мы склонны отмахнуться как от реакций, «оставшихся более или менее неизменными за пределами детского возраста». Наоборот, они предстают перед нами как мужественные акты самопожертвования, на которое человек решился после глубокого размышления[19].
Но самая главная трудность использования модели родственного отбора для наших целей состоит не в том, что она не объясняет некоторых из проявлений благородного поведения, подпадающих под рубрику жесткого альтруизма. Проблема, скорее, в том, что она не объясняет многих вполне понятных случаев по-настоящему альтруистического поведения в отношении не-родственников.
Некоторые аналитики предлагали считать жесткий альтруизм эволюционным рудиментом, паттерном, сформированным родственным отбором в те времена, когда люди жили исключительно в группах близких родственников. С этой точки зрения особая концентрация на различиях между родственниками и неродственниками никогда не приносила каких-либо особенных преимуществ, ибо все в той или иной степени состояли в родстве.
Действительно, наши предки существовали небольшими родственными группами на протяжении всей эволюции человека, и совершенно логично говорить о том, что черты, каким отдавалось предпочтение в течение этого периода, могли сохраниться до наших дней. Но даже в ранних группах охотников и собирателей модель родственного отбора не будет предсказывать альтруистического поведения ко всем без исключения.
Так происходит просто потому, что генетическое родство стремительно уменьшается, как только мы выходим за пределы нуклеарной семьи. Родные братья и сестры имеют в среднем половину общих генов, двоюродные — только одну восьмую, а троюродные — только одну тридцать вторую. Таким образом, с точки зрения генетики троюродные родственники мало чем отличаются от совершенно чужих людей, а модель родственного отбора предсказывает, что помощь им принесет лишь небольшую выгоду. Было показано, что насекомые меняют свое поведение при оказании помощи с учетом еще более мелких вариаций в степени родства, чем эта[20]. Поскольку всегда есть крайне существенные вариации в степени генетического родства даже между членами самых мелких групп охотников и собирателей, маловероятно, чтобы силы родственного отбора могли породить неразборчивое альтруистическое поведение.
РЕЦИПРОКНЫЙ АЛЬТРУИЗМ
Трайверс и другие попытались объяснить альтруизм в отношении неродственников при помощи теории «реципрокного альтруизма», когда люди доброжелательно относятся к другим, ожидая, что их признают и вознаградят каким-нибудь ответным проявлением доброты в будущем[21]. Часто в пример приводится взаимное вычесывание среди животных. Животным трудно ловить паразитов у себя на голове, но они могут легко выбирать у других. Каждое животное, таким образом, может выиграть, если присоединится к другому животному, заключив воображаемый контракт о взаимном предоставлении услуг по вычесыванию.
Чтобы такой контракт был успешным, животным необходима способность узнавать конкретных особей и отказывать в услугах по вычесыванию тем, кто отказался оказывать ответные услуги. В противном случае в популяциях возобладали бы мошенники — те, кто получает вычесывание, сам при этом не тратя драгоценного времени на других.
В природе процветает целый ряд симбиотических отношений. Известно, что приблизительно пятьдесят видов рыб, например, живут тем, что вычищают паразитов с более крупных. Для выполнения этой задачи мелкой рыбе порой требуется заплывать в рот к более крупной. Трудно себе представить какое-то другое действие, требующее доверия больше, чем это.
Чистильщику нужна какая-либо гарантия, что его не проглотят. А тот, кого чистят, должен иметь основания верить, что чистильщик не отхватит от него кусок. И чистильщик, и тот, кого чистят, в ходе эволюции получили крайне характерные отметины на теле и выработали паттерны поведения, которые делают их узнаваемыми друг для друга. И хотя в этих отношениях, по-видимому, бывают случаи мимикрии и обмана, по большей части они отличаются устойчивостью.
Люди, конечно, превосходят животных в способности узнавать и запоминать прошлое поведение представителей своего вида. Действительно, мы даже знаем, в какой части мозга находится способность различать лица. (Жертвы инсульта, у которых оказалась поражена именно эта зона в обоих полушариях, чувствуют себя по большей части нормально, но не могут узнавать лиц даже близких родственников.) Так что теории реципрокного альтруизма Трайвиса, безусловно, есть подтверждения и среди людей.
И все же многие из предсказаний его модели не очень хорошо объясняют то, что мы наблюдаем в мире. Рассмотрим, например, предсказание о решении прохожего спасать или не спасать утопающего. Согласно формальной логике этой модели, если вероятность, что спасатель сам может утонуть, скажем, 1 к 20, попытку спасения нужно предпринимать, только если есть больший, чем 1 к 20, шанс, что жертва когда-нибудь ответит ему услугой за услугу. Если так рассуждать, то мы должны крайне редко сталкиваться с актами спасения.
Однако такие поступки крайне распространены, даже когда связаны с большой опасностью для спасателя. В холодный вечер в середине января 1982 года Ленни Скутник нырнул в ледяную реку Потомак, чтобы спасти одного из выживших после крушения рейса 90 Флоридских авиалиний, который за несколько минут до этого столкнулся с мостом на 14-й Стрит. Не было никаких гарантий, что он вовремя доплывет до тонущей женщины, и, даже если доплывет, не было уверенности, что он сможет потом добраться до берега. В конце концов ему удалось ее вытащить, она стала одной из пяти выживших в катастрофе.
Мы, конечно же, восхищаемся мужеством Скутника. Но продемонстрированные им и многими другими качества, разумеется, не результат ожиданий ответных выгод. В самом деле, если бы они ожидали, что им ответят тем же, стали бы мы ими так восхищаться?
Поступок Скутника — очевидный пример жесткого альтруизма. Реципрокный альтруизм, в свою очередь, — пример того, что Уилсон называет «мягким альтруизмом», действиями, предпринятыми в надежде на то, что общество ответит взаимностью[22]. Наша задача в данной книге опять-таки — попытаться понять жесткий альтруизм.
«ОКО ЗА ОКО» И ДИЛЕММА ЗАКЛЮЧЕННОГО
Как мы видели в главе I, погоня за эгоистическим интересом часто сбивает людей с толку. Во многих ситуациях мы можем достичь того, к чему стремимся, только если каждый из нас отставит в сторону личный интерес. В периоды жары в Нью-Йорке энергетическая компания Consolidated Edison Company предупреждает жителей, что им будет достаточно электричества на первостепенные нужды, если они не станут включать кондиционеры до десяти вечера. Многие потребители легко согласились бы подождать с кондиционером до вечера, лишь бы не было отключения электричества. Но страх, что другие не станут соблюдать свою часть сделки, подрывает многие из подобных попыток кооперации. Как только кто-то заслышит, что у соседа в семь вечера заработал кондиционер, договоренность моментально теряет силу.
Такого рода дилеммы долгое время являются излюбленной темой бихевиористов и теоретиков игр. Самый обсуждаемый пример — дилемма заключенного. Заслуга в открытии этой простой игры приписывается математику А.У. Такеру, взявшему ее название из анекдота, который вначале ее иллюстрировал. Двоих заключенных держат в разных камерах за серьезное преступление, которое они совершили. Однако имеющиеся у обвинения доказательства позволяют вынести им приговор только за небольшое правонарушение, которое карается, скажем, годом тюремного заключения. Каждому из заключенных говорят, что, если он признается, а другой промолчит, признавшийся выйдет на свободу, тогда как его подельник проведет 20 лет в тюрьме. Если признаются оба, они получат промежуточный срок, скажем, пять лет. (Эти выигрыши приводятся в табл. II. 1.) Заключенным не разрешается общаться друг с другом.
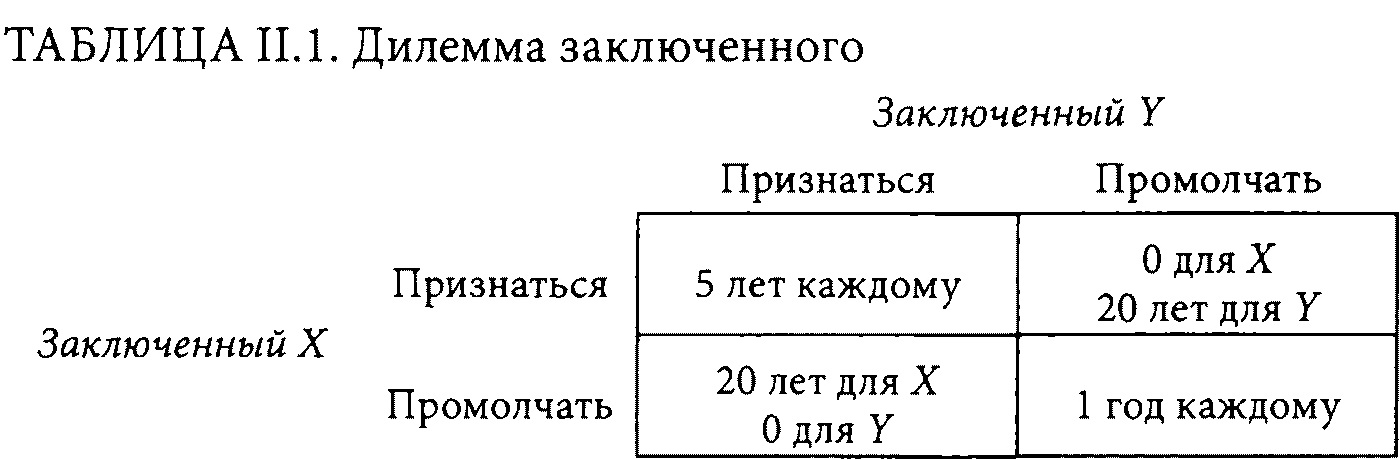
Превалирующая в дилемме заключенного стратегия — признаваться. Независимо от того, что делает Y , X получает более мягкий приговор, если заговорит: если Y тоже признается, X получит пять лет вместо 20; если Y так и будет молчать, X выйдет на свободу вместо того, чтобы год сидеть в тюрьме. Выигрыши идеально симметричны, так что Y тоже лучше признаться вне зависимости от того, что делает X . Трудность здесь опять-таки заключается в том, что, если каждый будет вести себя эгоистически, обоим будет хуже, чем если каждый проявит сдержанность. Таким образом, когда оба признаются, они получают пять лет вместо одного года, который могли бы отсидеть, если бы промолчали.
Хотя заключенным не позволяется общаться друг с другом, было бы ошибкой считать, что источник затруднений именно в этом. Скорее, их проблема в нехватке доверия. Простое обещание не признаваться не меняет материальных выигрышей игры. (Если бы каждый мог пообещать, что не признается, все равно каждому было бы лучше, если бы он не сдержал обещание.)
В одном давнем исследовании Анатоль Рапопорт и Альберт Чаммах выясняли, как на самом деле ведут себя люди, перед которыми неоднократно вставала дилемма заключенного[23]. В их экспериментах, как и в сотнях других, последовавших за ними, парам игроков давалось два варианта выбора: «сотрудничать» или «отказаться от сотрудничества». В качестве выигрыша выступали небольшие суммы денег, а не годы тюремного заключения, но в остальном структура игры была идентична дилемме заключенного. Типичная игра представлена в табл. ІІ.2.
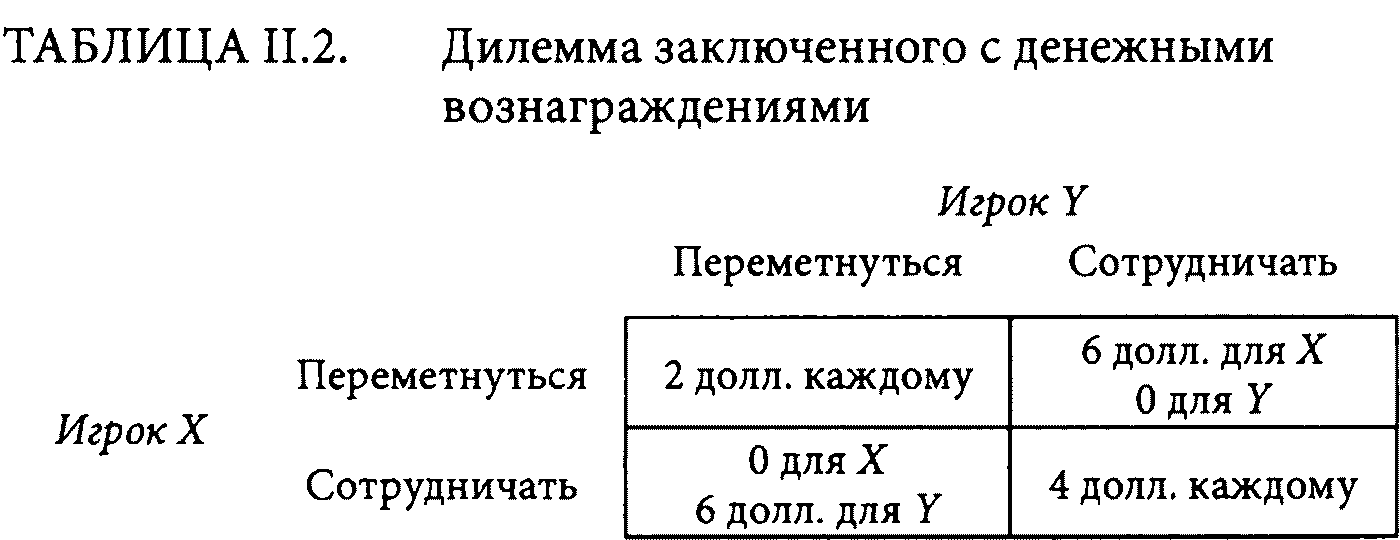
Как и раньше, превалирующая стратегия для идентичной игры — не сотрудничать. Это приносит более высокий выигрыш независимо от того, как поступает второй игрок. Однако, как и в изначальной дилемме заключенного, каждому игроку будет лучше, если оба будут сотрудничать, чем если оба переметнутся.
Главное открытие Рапопорта и Чаммаха было в том, что люди демонстрируют сильную тенденцию к сотрудничеству, когда многократно играют с одним и тем же партнером. Причина проста. Если игра происходит много раз, у сотрудничающего есть возможность расквитаться с партнером, который его предал. Как только становится понятно, что за это придется расплачиваться, обе стороны обычно сходятся на модели сотрудничества. Рапопорт и Чаммах назвали стратегию, вознаграждающую сотрудничество и наказывающую переметнувшегося, «око за око».
В недавней книге Роберт Аксельрод исследует вопрос, как стратегия «око за око» работает на фоне широкого ряда хитроумных контрстратегий[24]. Стратегия «око за око» формально определяется как «первый ход — сотрудничать, каждый последующий ход — повторять предшествующий ход другого игрока». Это «хорошая» стратегия в том смысле, что она показывает изначальную склонность к сотрудничеству. Но это также и жесткая стратегия: она быстро наказывает другую сторону, как только та предаст. Если каждый из игроков играет «око за око», результат — идеальное сотрудничество в каждом раунде игры. Таким образом, пара игроков, применяющих стратегию «око за око», получает самый большой совокупный выигрыш.
Аксельрод изучал гипотетические популяции игроков. В популяциях были представлены не только стратегия «око за око», но также и многочисленные другие стратегии. Он выполнил компьютерные симуляции, чтобы понять, какие условия способствуют появлению сотрудничества. И открыл, что стратегия «око за око» действовала очень хорошо в сравнении с рядом циничных стратегий, которые были специально разработаны для того, чтобы нанести ей поражение.
В схеме Аксельрода появление сотрудничества требует, чтобы был достаточно стабильный состав игроков, каждый из которых может вспомнить, что делали другие игроки в предшествующих взаимодействиях. Оно также требует, чтобы игроки делали серьезную ставку на то, что произойдет в будущем, ибо только страх расплаты удерживает людей от того, чтобы отказаться от сотрудничества. Когда эти условия выполнены, сотрудничающие могут распознать друг друга и исключить тех, кто склонен к предательству[25]. Чем выше выигрыши, заложенные в успешном сотрудничестве, тем больше доля популяции, готовая сотрудничать.
Условия, необходимые для модели «око за око», часто выполняются в человеческих популяциях. Многие люди и в самом деле взаимодействуют многократно, и большинство следит за тем, как другие с ними обращаются. Аксельрод собрал убедительные свидетельства, что эти факторы помогают объяснить, как в действительности ведут себя люди. Возможно, самое убедительное подтверждение — рассказы о системе «живи сам и дай жить другим», сложившейся в окопах во время Первой мировой войны. Во многих местах боевых действий одни и те же воинские подразделения вели окопную войну друг против друга на протяжении нескольких лет. Часто они были подобраны в соответствии друг с другом, так, чтобы ни у кого не было надежды на быструю победу. Перед ними стоял выбор: либо интенсивно сражаться с большими потерями с обеих сторон, либо практиковать сдерживание.
Условия взаимодействия, описанные в рассказе историка Тони Эшворта об окопной войне, очень похожи на те, что необходимы для успеха стратегии «око за око»[26]. Идентичности игроков были более или менее стабильны. Взаимодействия между ними повторялись, часто по нескольку раз в день в течение продолжительных периодов времени. Каждая сторона могла легко сказать, когда другая сторона отказалась от сотрудничества. И каждая сторона очевидным образом была заинтересована свести будущие убытки к минимуму.
Можно не сомневаться, что стратегии «око за око» часто отдавали предпочтение воинские части и союзников, и немцев. Хотя официальная политика крайне отрицательно относилась к сдерживанию, порой оно было более чем очевидно. Так, касательно ночных патрулей, действовавших в окопах, Эшворт пишет:
И Британия, и Германия в тихих секторах предполагали, что, если вдруг патрули случайно столкнутся, ни один не будет ввязываться в бой, но все будут стараться избегать друг друга. Все патрули давали друг другу передохнуть тогда, когда агрессия была не только возможна, но предписана правилами, с условием, что на этот жест ответят тем же, поэтому, если один патруль откроет огонь, второй тоже будет стрелять[27].
По словам одного из участников конфликта:
Обойдя какой-то ров или яму, мы внезапно очутились лицом к лицу с немецким патрулем... Мы были, может быть, в двадцати ярдах друг от друга, полностью на виду. Я робко помахал рукой, как будто говоря, какой нам толк убивать друг друга? Немецкий офицер, казалось, понял меня, и обе стороны развернулись и отправились обратно в свои окопы[28].
Часто бомбардировки происходили в определенное время суток и были отдалены от наиболее уязвимого времени и позиций. Время приема пищи и санитарные палатки обычно, по молчаливому соглашению, исключались из зоны и времени обстрелов.
Условия, описанные Аксельродом, помогают объяснить не только то, когда люди будут сотрудничать, но также — когда они скорее всего будут воздерживаться от сотрудничества. Так, он отмечает, что взаимное сдерживание в окопной войне начало прекращаться, как только забрезжил конец войны.
То же самое происходит и в мире бизнеса. Компании платят по счетам вовремя, указывает Аксельрод, не потому, что так правильно поступать, но потому что им и в будущем придется иметь дело с теми же поставщиками. Когда взаимодействия в будущем представляются маловероятными, тенденция к сотрудничеству идет на спад: «Примером может послужить ситуация, когда предприятие стоит на грани банкротства и продает свою дебиторскую задолженность сторонней организации, называющейся “фактором”». Продажа идет с существенной скидкой, потому что
<...> как только производитель начинает идти ко дну, даже лучшие его клиенты отказываются оплачивать товар, ссылаясь на дефекты качества, несоответствие спецификациям, несоблюдение сроков поставки, на все что угодно. Великий проводник морали в коммерции — постоянство отношений, вера в то, что может снова понадобиться вести дела с этим клиентом или с этим поставщиком, и когда компания-банкрот теряет этого проводника, даже мощный фактор не в состоянии найти ему замену[29].
От всего этого несвободен даже академический мир: «с приглашенным профессором будут обращаться хуже, чем с постоянными коллегами»[30].
Невозможно поспорить с тем, что доверие и сотрудничество часто возникают по причинам, указанным данными авторами. Материальный мир — сложная среда, и наказанием за некритическое альтруистическое поведение часто становится невозможность выживания.
Но опять-таки с точки зрения наших целей трудность в том, что «око за око» — попросту не настоящее альтруистическое поведение. Скорее, подобно взаимному альтруизму, это яркий пример осмотрительного поведения — просвещенной осмотрительности, но тем не менее поведения эгоистического. Человек, который сотрудничает только при условиях, описанных в этих теориях, едва ли может претендовать на высокую нравственность. Те, кто ищет более глубокие, более благородные побуждения в людях, должны искать их где-то в другом месте.
ОПОСРЕДУЮЩИЕ ЭМОЦИИ
Трайверс, очевидно, имеет в виду именно эти побуждения, когда пишет: «Отбор может укреплять недоверие к тем, кто совершает альтруистические действия без эмоциональной основы, связанной с широтой души или чувством вины, потому что на альтруистические тенденции таких индивидов сложнее полагаться в будущем»[31]. Он упоминает параллельные роли и других опосредующих эмоций, таких как «моралистическая агрессия», дружба и сочувствие.
Наличие таких эмоций помогает объяснить многие из наблюдений, которые не может объяснить чистый расчет на взаимность. Например, как отмечалось в главе I, чаевые в далеком городе оставляют не в ожидании ответного жеста. Но щедрость или сочувствие могут дать превосходные мотивы для этого.
То, чего Трайверс не объясняет, — каким образом эти эмоции приносят индивиду материальную выгоду. Чтобы разглядеть эту трудность, вспомните, что базовая проблема, которую пытаются решить обе теории, — это многократная дилемма заключенного[32]. Как подчеркивают и Трайверс, и Аксельрод, каждый индивид имеет совершенно эгоистическую причину сотрудничать в данном контексте, поскольку за отказ от сотрудничества придется расплачиваться. Но Аксельрод также подчеркивает, что этот мотив сам по себе достаточен, чтобы обеспечить максимальную выгоду.
Люди с каким-либо дополнительным мотивом, как правило, чаще проигрывают, потому что порой сотрудничают, когда это не в их материальных интересах. Человек, желающий избежать угрызений совести, например, иногда будет сотрудничать даже в однократной дилемме заключенного — он может платить по счетам и тогда, когда видно, что его кредитор скоро прекратит свою деятельность. Наоборот, стратегия «око за око» просто не применима в данном случае, оптимальная стратегия в котором — отказаться от сотрудничества.
Человек, испытывающий симпатию, может крайне неохотно думать о мести. В категориях Аксельрода эта тенденция характерна для людей, которые играют в «одно око за два» — используют стратегию расплаты только против партнеров, которые переметнулись два раза подряд. Во всех средах, которые изучал Аксельрод, «око за око» оказывается более действенной стратегий, чем «одно око за два».
Трайверс утверждает, что моралистическая агрессия полезна, потому что мотивирует нас наказывать людей, которые отказываются отвечать услугой за услугу. Но опять «око за око» позволяет это делать, и, как подчеркивает Аксельрод, в нужных контекстах и в нужное время. Тот, кого мотивирует моралистическая агрессия, может впустую потратить энергию, пытаясь наказать тех, с кем, как ему известно, он больше не будет взаимодействовать. Конечно, зачастую это хорошо с точки зрения интересов общества в целом, но любой индивид выиграет, если оставит затратную агрессию другим. Еще одна трудность, связанная с моралистической агрессией, состоит в том, что люди с такой мотивацией могут переусердствовать в отношениях со своими нынешними партнерами. («Друзей даже могут убить из-за внешне банальных споров»[33].) С точки зрения Аксельрода, таким образом, моралистическая агрессия напоминает стратегию «одно око за два», еще один пример из множества стратегий, которые разбиваются стратегией «око за око».
Если бы стратегия «око за око» требовала от людей сложных подсчетов, опосредующие эмоции могли бы обеспечить полезную эвристику. Если бы они достаточно часто мотивировали максимизирующее поведение и экономили энергию и время, уходящие на расчеты, они могли бы в среднем показывать лучшие результаты, чем «око за око». Но ввиду исключительно простой природы стратегии «ока за око», такая роль оказывается малоправдоподобной. Даже тугодумы могут легко произвести необходимые расчеты.
Говоря вкратце, преимущество теории Трайверса в том, что его опосредующие эмоции помогают объяснить, почему люди могут совершать альтруистические поступки даже в ситуациях, в которых они не приносят им выгоды. В изложении Аксельрода, у которого эмоции не фигурируют, такое поведение остается загадкой. Недостаток теории Трайверса в том, что он не дает ясного объяснения, как опосредующие эмоции приносят индивидам материальные выгоды. Там, где поведение, подкрепляемое этими эмоциями, отличается от поведения, диктуемого стратегий «око за око», последняя, как представляется, оказывается полезнее. А там, где два механизма ведут к одному и тому же поведению, опосредующие эмоции оказываются избыточными. Хотя эти две теории сотрудничества очень похожи, теория Трайверса, по-видимому, лучше согласуется с нашими наблюдениями касательно альтруистического поведения, тогда как теория Аксельрода представляется более соответствующей дарвиновской теории индивидуального отбора[34].
Однако я не хочу сказать, что опосредующие эмоции, описанные Трайверсом, бесполезны. Наоборот, в следующих двух главах я утверждаю, что они на самом деле приносят очень много пользы. Мой тезис состоит в том, что гораздо больше должно быть сказано о том, как именно они приносят эту пользу.
ГРУППОВОЙ ОТБОР
Модели группового отбора — излюбленная тема биологов и других ученых, которые чувствуют, что люди — настоящие альтруисты. Многие биологи скептически относятся к этим моделям, отвергающим центральную посылку Дарвина о том, что отбор происходит на индивидуальном уровне[35]. Например, Трайверс включил в свою недавнюю работу главу, названную «Заблуждение о групповом отборе»[36]. С едва скрываемым презрением он определяет групповой отбор как «дифференцированное воспроизводство групп, которое, как часто воображают, отдает предпочтение чертам, которые невыгодны на индивидуальном уровне, но развиваются, потому что полезны для группы в целом». Сторонники группового отбора попытались показать, что истинный альтруизм, в его конвенциональном определении, как раз и является такой чертой. Удобный пример — склонность не обманывать, даже когда обман не может быть раскрыт. В тех случаях, когда обман нельзя раскрыть, стратегия «око за око» и другие формы реципрокного альтруизма, как кажется, не могут привести к успеху, поскольку сотрудничающие не имеют возможности поквитаться с теми, кто отказался от сотрудничества.
Мог ли альтруизм развиться при помощи группового отбора? Чтобы это произошло, необходимо, чтобы альтруистические группы преуспевали за счет менее альтруистических групп в конкуренции за дефицитные ресурсы. Это требование само по себе не вызывает проблем. В конце концов, альтруизм эффективен на групповом уровне (вспомним, что пары сотрудничающих в дилемме заключенного выигрывают чаще, чем пары отказывающихся сотрудничать), и мы можем представить, как альтруистические группы могут избегать того, чтобы на них наживались менее альтруистические группы. Например, альтруистическая группа может полностью изолироваться от всех остальных групп. Подобная изоляция, хотя и редко, но все же может иметь место[37].
Но даже если мы предположим, что больший успех альтруистической группы дает ей возможность одержать триумфальную победу над всеми остальными группами, перед теорией группового отбора по-прежнему встает исключительное препятствие. Конвенциональное определение опять-таки в том, что неальтруистическое поведение дает больше преимуществ индивиду. Даже в альтруистической группе не каждый индивид в одинаковой степени будет альтруистом. Если индивиды отличаются друг от друга, будет наблюдаться селекционное давление в пользу наименее альтруистических членов. И пока эти индивиды получают более высокие выигрыши, их доля в альтруистической группе будет постоянно увеличиваться.
Таким образом, даже в случае победы чисто альтруистической группы над всеми остальными логика отбора на индивидуальном уровне будет, по всей видимости, пагубна для истинно альтруистического поведения. Оно может одержать победу, только если темпы вымирания групп сопоставимы с темпами смертности индивидов внутри них. Как подчеркивает Уилсон, это условие редко или почти никогда на практике не выполняется[38].
Хотя итоги дебатов о групповом отборе еще далеко не подведены, большинство биологов сейчас отвергают идею, что истинно альтруистическое поведение могло родиться из группового отбора. И в самом деле, многие, похоже, смотрят на сторонников группового отбора так же, как Дорис Бейкер когда-то смотрела на своего брата Рассела.
ДАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Возможно, альтруизм и другие формы самопожертвования и вовсе не укоренены ни в какой биологии, но являются результатом культурного обусловливания. Кажется, именно так считает Уильям Хэмилтон, когда пишет:
Предполагается, что животная часть нашей природы должна быть больше озабочена тем, чтобы «получить больше среднего», а не тем, чтобы «получить максимально возможное». <...> Отсюда следует полное неуважение к любым ценностям, индивидуальным или групповым, которые бесполезны в конкуренции за партнера. Если так, то животное, являющееся частью нашей природы, нельзя рассматривать как подходящего хранителя для ценностей цивилизованных людей[39].
Практически все человеческие культуры, которые нам известны, тратили много сил на прививание морального кодекса поведения и его поддержание. Большинство таких кодексов противостоит «животному в нашей природе», призывая людей отказаться от личной выгоды во имя других людей. Возможно, эти кодексы и являются реальным объяснением жертвенного поведения.
Мы знаем, однако, что существуют по крайней мере некоторые формы самопожертвования, которые культура явно объяснить не может. Один из примеров — стремление к мести, обсуждавшееся в главе I. Большинство культур не только не поощряет месть, но даже предпринимает реальные шаги к тому, чтобы положить ей конец. Вопреки первому впечатлению, библейское выражение «око за око, зуб за зуб» — это не призыв к отмщению, но просьба ограничить его масштабами первоначальной провокации. Мы можем с полной уверенностью заключить, что там, где культурные нормы пытаются сдерживать какое-то поведение, люди, оставленные на произвол судьбы, еще больше склонны к этому поведению. Таким образом, едва ли имеет смысл предлагать культурное обусловливание в качестве объяснения того, почему мы в первую очередь наблюдаем именно подобное поведение.
Однако это возражение, явно, неприменимо в случае поощряемого культурой поведения, например, честности или участия в благотворительности. Многие утверждали, что такого поведения не существовало бы вовсе, если бы не давление со стороны культуры. В конце концов, само определение честности сильно разнится от культуры к культуре и даже среди отдельных групп в рамках одной культуры. Мафиози следует кодексу поведения, сильно отличающемуся от кодекса поведения пресвитерианского священника. Это говорит о том, что нет никакого простого биологического побуждения «быть честным». Если здесь и работает какой-то унаследованный инстинкт, он должен быть очень и очень гибким — что-то в духе «прислушивайся к тому, чему тебя учат окружающие, и старайся следовать их советам».
Необходим ли такой инстинкт, или культурных норм самих по себе достаточно, чтобы объяснить существование альтруистического поведения? Легко утверждать, что культурные нормы могут быть предварительным условием появления альтруистического поведения. В конце концов, мы знаем, что в культурах, которые его не поощряют, альтруизм — большая редкость.
Так же легко понять, почему даже прирожденный эгоист был бы рад жить в культуре, которая поддерживает альтруистические нормы, ибо, если эти нормы действенны, другие люди в итоге будут к нему благосклоннее.
С точки зрения скептического бихевиориста, однако, настоящая загадка — зачем эгоистическому индивиду соблюдать данный кодекс. Другими словами, мы должны объяснить, почему не будет решающего преимущества в нарушении моральных норм всякий раз, когда это выгодно. Некоторые люди именно так и поступают. Но большинство людей — отнюдь не оппортунисты. Как в мире, в котором, очевидно, есть высокие выигрыши от оппортунистического поведения, сохраняется что-то иное, нежели сугубо оппортунистическое поведение?
Здесь я должен подчеркнуть, что под «полным оппортунизмом» я не подразумеваю открыто антисоциального поведения. Настоящий оппортунист сотрудничает, когда это в его интересах, и часто воздерживается от обмана, когда есть хотя бы малая вероятность, что его разоблачат. Он может казаться образцовым гражданином. Но существует масса случаев, когда образцовый гражданин может отказаться от сотрудничества, по сути дела, совершенно безнаказанно. Он может, среди прочего:
• оставить себе деньги из найденного бумажника;
• не сообщить об этих деньгах в налоговую службу;
• завысить свои расходы к возмещению и страховые требования;
• не оставить чаевых там, где находится проездом;
• оставить мусор на пустом пляже;
• отключить в машине прибор контроля за выхлопами.
Возможно, некоторые люди делают все перечисленное. Еще больше людей делают лишь что-то из этого списка. Природа этих поступков такова, что, хотя мы и можем знать, что кто-то это делает, узнать, кто именно, все равно невозможно. И все же мы знаем: не все делают все из этих вещей. Если бы все приборы контроля за выхлопами были отключены, воздух был бы грязнее, чем сейчас; если бы все мусорили, пляжи тоже были бы грязнее.
Верно ли, что люди, которые воздерживаются от нарушений во всех этих ситуациях, менее успешны? Многие религии учат нас, что добродетельные люди могут ожидать награды в иной жизни. Но общепринятая мудрость гласит, что в этой жизни добродетель — сама по себе награда. Это фундаментальный парадокс дарвиновской модели и других материалистических теорий человеческого существования. Они не оставляют явного места для добродетельного поведения, но при этом можно в избытке найти убедительные свидетельства такого поведения.
Хотя культурные нормы могут быть необходимыми, их явно недостаточно для объяснения такого поведения. Прежде всего, возникает вопрос, зачем родителям-оппортунистам сотрудничать, чтобы научить своих детей не быть оппортунистами. Почему бы им просто не сказать: «Будь энергичным членом группы, соблюдай свои обязательства, когда их несоблюдение заметно, но во всех остальных случаях не упускай возможности получить личную выгоду»?
Предположительно, можно было принять законы, мешающие родителям-оппортунистам транслировать своим детям подобные послания. У нас, например, есть обязательное образование, и мы можем попытаться прививать благородные культурные ценности в школах. Однако мы знаем, что некоторые люди — например, социопаты — невосприимчивы даже к самым активным формам культурного обусловливания. А если оппортунисты постоянно превосходят всех остальных своими успехами, согласно неумолимой логике эволюционной модели, мы должны были бы в итоге остаться исключительно с этими людьми.
Однако этого не случилось. В главе I я предполагаю, что одной из причин может быть то, что люди, не склонные к оппортунизму, внешне отличаются от других, и что в этом различии может лежать ключ к их выживанию. Обратимся теперь к деталям этого объяснения.
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 333; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
