На что реагируют потовые железы?
Хэссет A Primer of Psychophysiology James Hassett Boston University with a Foreword by Gary E. Schwartz Yale University W. H. Freeman and Company San Francisco Введение в психофизиологию Перевод с английского канд. биол. наук И. И. Полетаевой под редакцией д-ра биол. наук Е. И. Соколова Издательство «Мир» Москва 1981 "■ 5А2.2 Х99 УДК 612 + 577.3 _~ ■Л.В.й.ШЧйй mm г. . ■ ■ ' . В книге американского ученого описаны строение центральной и периферической нервной системы и принципы регистрации физиологических реакций человека, в том числе кожно-гальвани-ческой реакции, освещены проблемы обратных связей, сна, эмоций, мозговой асимметрии и другие, стоящие на грани между физиологией и психологией. Для физиологов, нейрофизиологов, психологов, врачей, а также для широкого круга читателей, интересующихся физиологическими основами поведения и психофизиологией. Редакция литературы по биологии 0304000000 © 1978 Ьу W- Н' Freeman and Company 50300-122 (22-81 ч 1 © Перевод на русский язык, «Мир», 041(01 )-81 ' ' ,981 Предисловие редактора перевода В последние годы неуклонно возрастает интерес к психофизиологии и быстро увеличивается число публикаций в этой области, в том числе специальных монографических исследований. Однако книг вводного характера до сих пор очень мало, и книга Хэссета во многом восполняет этот пробел. Автор определяет психофизиологию как науку о физиологических реакциях при разных психических состояниях человека. В соответствии с этим строится и все изложение. После краткого описания строения нервной системы человека и принципов регистрации физиологических показателей следуют подробные обзоры данных о тех реакциях, которые наиболее чутко отражают изменения в психическом состоянии субъекта. Сюда относятся кожно-гальва-нические реакции, реакции сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, движения глаз, мышечные реакции и изменения электрической активности мозга. Такое изложение, ориентированное на основные физиологические реакции, позволяет автору детально описать методы регистрации каждой из них и технику эксперимента. Этой «технологической» направленности книги соответствует и подбор приложений: они содержат конкретные методические указания, что особенно важно для лиц, только приступающих к изучению психофизиологии. Вместе с тем такая организация материала ведет к тому, что основные проблемы психофизиологии представлены несколько фрагментарно — в связи с обсуждением соответствующих реакций. Представляет интерес изложение прикладных задач психофизиологии. Надо, однако, иметь в виду, что рассмотренные автором практические приложения во многом можно считать специфическими для американского образа жизни. Следует подчеркнуть, что автор книги критически оценивает и практику применения «детекторов лжи», и использование аутогенной тренировки с помощью специальной обратной связи, позволяющей человеку контролировать состояние внутренних органов. Книга заканчивается рассмотрением перспектив развития психофизиологии. Здесь выделены две проблемы: проблема анализа реакций как сложных биологически целесообразных комплексов и проблема индивидуальных различий. Следует сразу же сказать, что эти проблемы наукой уже решаются. Что же касается более далеких перспектив развития психофизиологии, то этот вопрос в книге почти не затронут. Авторская трактовка психофизиологии как науки о физиологических реакциях при различных психических состояниях представляется несколько суженной. Действительно, вне поля зрения оказываются обширная область сенсорной психофизиологии, вопросы организации движений и дифференциальная психо- 6 Предисловие редактора перевода физиология. Соглашаясь с автором в том, что психофизиология переживает период становления, следует подчеркнуть новые тенденции, характерные для последнего десятилетия. Эти новые тенденции связаны прежде всего с успехами в регистрации активности отдельных нервных клеток мозга в клинике. В нашей стране это направление представлено работами Н. П. Бехтеревой. Сопоставление субъективных состояний и реакций человека с активностью отдельных нейронов в разных структурах мозга открыло совершенно новые возможности для развития объяснительной психофизиологии. Под влиянием открытий, сделанных с использованием микроэлектродной техники, изменилось само содержание предмета психофизиологии. Ее можно определить теперь как науку о нейронных механизмах психических процессов и состояний. При этом регистрации объективных реакций человека, как и прежде, отводится ведущее место. Однако на первый план выдвигаются задачи расшифровки нейронных механизмов, лежащих в основе процессов восприятия, памяти и научения, эмоциональных состояний и уровня внимания,— вместе с той системой физиологических реакций, которые обслуживают и реализуют эти процессы. Перед психофизиологом открывается перспектива выяснения интимных нейронных механизмов психики. Существенным фактором, определяющим развитие психофизиологии, стало применение электронных вычислительных машин в ходе психофизиологического эксперимента. Особенно интенсивно используется вычислительная техника при изучении электрической активности мозга. В нашей стране пионером в этой области является академик М. Н. Ливанов, реализовавший многоканальную систему регистрации и обработки электроэнцефалографических данных, что отмечает и автор книги. Области практического применения психофизиологии значительно шире, чем те, что описаны в книге. Прежде всего нужно указать на использование вызванных потенциалов мозга для объективной оценки сенсорных функций человека и достигнутой компенсации их нарушения с помощью сенсорных протезов. Еще одна область — это отбор лиц для профессий, требующих высокой надежности в, экстремальных условиях. Не менее важен объективный контроль за работой оператора с использованием комплекса электроэнцефалографических и вегетативных реакций и объективный контроль за уровнем бодрствования и внимания в процессе обучения. Наконец, нужно еще упомянуть о построении моделей психофизиологических функций из нейроноподобных элементов. Психофизиология смыкается здесь с проблемами нейробионики, внося свой посильный вклад в разработку интегральных роботов с элементами искусственного интеллекта. Говоря о перспективах развития психофизиологии, следует подчеркнуть, что психофизиологу необходимо владеть методами многоканальной регистрации сложного комплекса реакций с использованием в ходе самого эксперимента средств обработки получаемой информации. Описанные в книге реакции и способы их регистрации позволят читателю войти в психофизиологическую проблематику и при желании самому начать работать в этой области. * Е. Н. Соколов Предисловие ПУТЕЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ — ОДИН ИЗ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА Сейчас больше чем когда-либо люди начинают осознавать, что они существа психофизиологические. Это понимают уже не только ученые и врачи, исследующие отношение между сознанием и мозгом, поведением и организмом. Широкая публика начинает знакомиться с результатами научных работ, связывающими биологию с психологией. Всюду мы читаем и слышим, что мозг и сознание тесно связаны друг с другом и что отношение между психикой и нейрофизиологическими процессами остается пока одной из великих тайн, еще не раскрытых наукой. Многие взрослые и дети сами знают, как разные лекарства влияют на сознание и эмоции. Даже съедаемая нами пища рассматривается теперь как смесь сложных химических веществ, которые становятся компонентами нашего тела и мозга и влияют таким образом на наше сознание и поведение. Популярные статьи и книги о психофизиологической основе природы человека в норме и при заболеваниях быстро распространяют знания в этой области. Хотя большая часть этих материалов по-настоящему интересна, они часто имеют сенсационную окраску и нередко содержат ошибочные утверждения. Это относится, в частности, к популярному изложению вопросов, касающихся тренировки с помощью обратной связи, физиологии «медитации» и широкого использования «детекции лжи». Начинающий исследователь вынужден либо читать очень интересные, но неточные сообщения широкой прессы, либо разбираться в более точных, но обычно изложенных трудным и сухим языком материалах, содержащихся в научных книгах и статьях. «Введение в психофизиологию» Джима Хэссета — это попытка психофизиолога перекинуть мост через разрыв, существующий между завлекательными статьями и книгами и реально существующими теориями и проводимыми исследованиями в этой области. Поскольку Хэссет предназначает эту книгу начинающим студентам, интересующимся изучением физиологических процессов у человека в связи с влиянием внешней среды и поведением, он исходил из того, что в таком случае нужно сочетать интересное изложение с таким содержанием, которое подчеркивало бы широкие перспективы развития психофизиологии. Эти перспективы неоднократно обсуждаются на протяжении книги в связи со всеми современными аспектами данной науки. Как указывает Хэссет, в методах, используемых для регистрации физиологических процессов, есть много технических моментов. Ясно, что для понимания психофизиологии студент должен знать методы биомедицинских исследований и хорошо понимать их возможности и ограничения. А в связи с этим ему нужно знать и основные биологические свойства тканей, активность ко-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I I I I I I I I I
| 8 |
Предисловие
торых он регистрирует. Сюда должно входить и понимание тесной связи между структурой и функцией.
Я хотел бы, однако, подчеркнуть, что перспективы психофизиологии связаны не только с техникой исследования, современной или будущей. Даже если мы научимся точно и без больших неудобств для испытуемого измерять все нервные, гуморальные и физиологические процессы, перед нами по-прежнему будет стоять концептуальная задача такого объединения всей этой информации, чтобы из нее можно было воссоздать целостное психофизиологическое представление о существе, которое может читать, испытывать эмоции и мыслить. Перед нами стоит в конечном счете именно такая задача.
Все действия человека требуют сложной регуляции многочисленных психофизиологических процессов. Хотя обычно это принимают как нечто само собой разумеющееся, на самом деле поистине удивительно, каким образом мозгу удается скоординировать все сложнейшие процессы, лежащие в основе таких, казалось бы, простых действий, как управление руками и глазами, когда мы держим книгу и читаем ее. И при этом мозг еще должен одновременно координировать множество физиологических процессов просто для поддержания нашей жизни и здоровья. (Подумайте, например, что могло бы случиться, если бы наш мозг во время чтения этих слов «забыл» поддерживать дыхание!) Помимо этого, мозг должен обрабатывать всю информацию, приходящую по нервам от глаз в зрительную систему, и превращать эту информацию в осознанные образы, имеющие для нас определенный «смысл».
Хэссет представляет себе организм, занятый такой деятельностью, как некую симфонию биологических органов, которая оркестрована мозгом и дирижер которой — мозг. Это удачная аналогия, и я ее продолжу. Каждый орган, подобно инструменту в оркестре, исполняет свою уникальную «партию», чтобы в целом получилось то, что мы называем поведением. Каждый орган, подобно инструменту, имеет свои специфические возможности и ограничения. Дирижер, как это делает в организме мозг, должен координировать игру разных инструментов так, чтобы в целом получился комплекс звуков, составляющих определенную симфонию. При этом он по-своему интерпретирует написанную партитуру.
На самом деле в нашем мозгу имеется много таких партитур, которые выбираются и проигрываются в соответствии с требованиями внешней среды. Эти нервные «партитуры» постоянно совершенствуются и изменяются по мере накопления мозгом опыта в рамках определенной культуры. В этом смысле мозг человека представляет собой систему, постоянно использующую обратную связь от органов для координации функций всего организма. При этом он динамически воздействует на непрерывно изменяющуюся активность органов, привнося в нее свои собственные уникальные свойства. Внешне мы это видим как поведение, а в самих себе ощущаем как сознание. В то время как не искушенный в музыке человек слышит симфонию как сложную комбинацию звуков, настоящий музыкант прослеживает в ней множество отдельных мелодий, исполняемых разными инструментами, а затем пытается» понять структуру, объединяющую эти мелодии в сложную картину оркестрового звучания. Таким же образом мы можем рассматривать задачи, стоящие перед
Предисловие 9
психофизиологом. Его цель — изучить сложное поведение как единую симфонию, хотя оно складывается из активности многих органов, каждый со своей собственной структурой. Он должен сначала изолировать каждый орган и исследовать его в отдельности, а затем понять взаимосвязь между органами, чтобы можно было делать заключения о работе координирующих нервных структур более высокого уровня.
Слушать и понимать симфонию—нелегкая задача. Пытаться сделать то же в отношении психофизиологии человека еще труднее. Однако мы не должны бояться этой сложности, даже если окажется, что психофизиолог завтрашнего дня никогда не сможет полностью реализовать перспективы изучения человека, намечаемые Хэссетом, в такой же мере, как Чайковский понимал симфоническую музыку. Я учился музыке и когда-то хотел стать исполнителем, дирижером и композитором одновременно. И хотя я никогда не мог научиться играть на гитаре, как Сеговиа, или же сочинять музыку и дирижировать, как Чайковский, я постепенно пришел к более глубокому пониманию того, каким должен быть хороший исполнитель и о чем «рассказывается» в той или иной симфонии. Моя музыкальная перспектива расширилась в результате моего обучения, и я стал лучше разбираться в музыке.
Нечто подобное возможно и для студентов, которые захотели бы увидеть перспективы психофизиологического исследования природы человека. В настоящее время психофизиологи бьются над изучением работы отдельных органов, пытаясь выяснить, как она регулируется. К сожалению, из-за методических трудностей исследователи и студенты часто не видят, что орган — это лишь один из компонентов сложной системы — тела определенного человека. Но если в качестве перспективы для психофизиологии мы наметим изучение всего множества компонентов, составляющих человека, с последующим объединением их в функциональную психофизиологическую систему, то мы увидим новый важный аспект в природе человеческой деятельности. Для студента, который не продвинется дальше «Введения в психофизиологию», это, может быть, даже более важно, чем сохранение в памяти отдельных фактов о методах измерения и характерных особенностях каких-либо реакций. А для того, кто будет изучать эти вопросы дальше, настоящая книга составит полезную основу для освоения методов регистрации и анализа различных компонентов биологической системы, а также для понимания задачи их концептуального синтеза, продуктом которого был бы живой человек в его психофизиологическом единстве.
Гэри Шварц
Йельский университет
 Предисловие автора
Предисловие автора
Эта небольшая книга была задумана как краткое и легкое для понимания введение в изучение физиологических реакций человека. Она предназначена как для серьезных исследователей, например специалистов по клинической психологии, так и для любознательных студентов, еще мало знакомых с естественными науками.
Студенты и коллеги засыпают меня просьбами указать какую-нибудь общую работу, которая помогла бы им в понимании физиологических исследований, связанных с их специальностью. Недавняя вспышка интереса к тренировке с помощью обратной связи и к физиологической основе медитации усилила поток таких запросов. Мне всегда приходилось отвечать: «Подобной работы пока еще нет». Эта книга и была написана с целью удовлетворить такую потребность.
Поскольку специфические нужды читателей, вероятно, будут весьма различными, книга построена так, что использовать ее можно несколькими способами. В основном тексте дается очерк интересующей нас области науки. Он задуман не как исчерпывающее описание, а скорее как историческое введение. Ряд развивающихся направлений рассмотрен подробно (например, использование обратной связи, асимметрия мозга), другие вопросы — кратко (классические условные рефлексы, привыкание и т. п.). Книга написана, чтобы возбудить аппетит, а не для того, чтобы удовлетворить его. Материал, который вряд ли будет интересен всем читателям, помещен отдельно в виде нескольких «Приложений». Содержание некоторых из них весьма элементарно (например, введение в теорию электричества), в других же приводятся более специальные сведения (например, о применении фильтров в электроэнцефалографии).
Я стремился к тому, чтобы книга действительно была вводным учебником — источником начальных сведений для интересующегося новичка. Помимо того что она может быть первым учебником общей психофизиологии, книга должна служить подспорьем при прохождении курсов экспериментальной, социальной и клинической психологии с биологической ориентацией. Она могла бы также быть одним из нескольких рекомендуемых пособий при изучении физиологической психологии, психобиологии человека, тренировки с помощью обратной связи и измененных состояний сознания. В главах 1—3 дается общее представление о психофизиологии, в частности в исторической перспективе. Здесь рассмотрен также ряд ключевых понятий физиологии, анатомии и электроники. В главах 4—9 внимание будет сосредоточено отдельно на каждом из главны* психофизиологических показателей, истории его изучения, физиологических основах и психологическом значении. Эти показатели рассматриваются
| 11 |
Предисловие автора
начиная с самого периферического (кожа) и кончая самым центральным (головной мозг), что представляется естественным и в историческом, и в анатомическом плане.
Эта книга выросла из моей работы сначала как лабораторного ассистента, а затем как лектора по курсу «Введение в психобиологию» в Гарвардском университете. В 1965 году этот курс, когда его начал читать Дэвид Шапиро, был единственным в своем роде. Я стал участвовать в его преподавании несколькими годами позже, когда его читал Гэри Шварц.
Психофизиологи, которые будут читать эту книгу, повсюду обнаружат в ней влияние Гэри. От него у меня и особое внимание к характерным комплексам (паттернам) физиологических реакций, и подчеркивание центральной роли головного мозга, и большой энтузиазм даже в случаях, когда нет однозначного решения вопроса. Трудно переоценить его роль в создании этой книги. Как это часто делают учитель с учеником, мы спорили о каждом шаге на этом пути, однако в конечном счете он обычно оказывался правым. Без его постоянной помощи как друга и редактора эта книга никогда не была бы закончена.
К этой работе, разумеется, было причастно и множество других людей. Я особенно хотел бы поблагодарить Теодора Зана и Уильяма Лоулора, давших мне начальные знания по психофизиологии и познакомивших меня с настоящей наукой; Аннелизу Кац — заведующую библиотекой, в которой работа была радостью; постоянных членов комитета кафедры психологии и социальных связей Гарвардского университета — за помощь в определении моего выбора области науки; Терри Бергмена, Ричи Дэвидсона и Лэрри Янга — за воодушевляющую поддержку, библиографические ссылки и даже подбор нужных слов; Гэйл Блум, Ронду Редд, Джуди Холмен и Пола Гэя за перепечатку рукописей; Хейуорда Роджерса из компании W. H. Freeman — за уверенность в том, что эта книга должна быть написана и что написать ее должен я; Патрицию Солт, Лори Фогельсон, Эбби Стюарта, Ричарда Томпсона, Джозефа Кампоса и Дэвида Шапиро — за обеспечение обратной связи от первых вариантов рукописи; Джозефа Музаккья, Алана Зибера, Патрицию Солт и Лэрри Янга — за помощь в получении некоторых записей на полиграфе, приводимых в книге; маму и папу — за то, что они мама и папа; и наконец, бесчисленный легион испытуемых, чьи сердца, мозги и потовые железы позволили провести все эти исследования.
Джеймс Хэссет Октябрь 1977 г.
1
I I I 1 I I I I

Символическая голова, иллюстрирующая «естественный язык человеческих способностей». (Из Wells, 1968.)
Сделанная в XIX веке попытка изобразить локализацию черт личности в мозгу. Возможно, что современные теории о функциях мозга в 2050 году покажутся столь же наивными.
Что такое психофизиология^
Психофизиологические наблюдения столь же стары, как старо наблюдение того первого юноши, который увидел, как покраснела девушка. Это древнее и благородное явление легло в основу нескольких современных научных концепций. О психологическом состоянии другого человека всегда судили по какому-нибудь четкому физиологическому изменению (например, по увеличению притока крови к лицу). Кроме того, считалось, что физиологическое изменение — более верное свидетельство, чем любые слова. Чем энергичнее молодая леди отрицает свое смущение, тем больше в нем убеждается ее собеседник.
Вскоре появились и практические приложения знаний, полученных путем психологических наблюдений. В ряде государств существовали примитивные методы детекции лжи. В Китае, например, человеку, обвиняемому в преступлении, давали в рот пригоршню сухого риса, и если он был в состоянии полностью выплюнуть рис, его признавали невиновным. У англосаксов применялась сходная процедура: если обвиняемый мог легко разжевать и проглотить кусок сухого хлеба, его освобождали. Обе эти пробы на невиновность основывались на том факте, что при стрессе активируется симпатическая нервная система и в результате этого, в частности, замедляется слюноотделение. Ретроспективно заметим, что в основе таких приемов лежало представление о том, что виновный должен испытывать тревогу, от которой у него пересохнет во рту, и поэтому ему будет трудно прожевать или выплюнуть что-либо. К сожалению, при этом игнорировалось то, что и невиновный может быть напуган и у него тоже может пересохнуть во рту.
Одним из первых, кто провел более систематические наблюдения над телесными изменениями как признаками эмоций, был древнеримский врач Гален (Mesulam, Perry, 1972). Однажды к этому знаменитому врачу обратилась женщина, которая жаловалась на ряд физических симптомов, причем у нее были также и эмоциональные нарушения. В какой-то момент врачебного осмотра стоявший рядом человек случайно упомянул, что он недавно видел в театре молодого танцора Пилада. Гален заметил, что при этом замечании у пациентки «пульс сделался нерегулярным — он вдруг резко участился, что гово-
14
Глава 1
Что такое психофизиология?
15
mm ,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
рит о душевном смятении». При дальнейшем обследовании Гален стал время от времени произносить имена различных молодых танцоров, однако пульс женщины изменялся только тогда, когда она слышала имя Пилада. Окончательным диагнозом Галена было то, что больная страдает от несчастной любви — болезни, которая остается неизлечимой и по сей день.
Как утверждает наука, человек есть животное. Но если мы пойдем дальше таких примеров, как замирание сердца от страха или восторга, то окажется, что мы редко думаем о себе как о биологическом существе. В моменты резкого физического напряжения или эмоционального возбуждения вы можете отчетливо ощущать состояние своего тела, однако при более обычных обстоятельствах все протекающие в нем процессы остаются неосознанными.
Даже чтение этой книги в спокойной позе за столом требует сложного согласования функций организма. Фактически все они регулируются мозгом без всякого сознательного участия с вашей стороны. Представьте себе, как трудно было бы извлечь смысл из написанного, если бы вам надо было постоянно приказывать глазам, чтобы они переходили с одного ключевого слова на^другое! «Хорошо, глаза мои! Какое же следующее слово я должен теперь читать? Попробуем следующую фразу справа». Вместо этого, в то время как все системы тела продолжают работать сами по себе, наши глаза скользят по тексту, получая первичные элементы информации и позволяя мозгу извлекать из них общий смысл. А ведь глаза — это лишь наиболее очевидная отправная точка для нашего анализа. Каждый поворот страницы требует синхронного действия сотен мышечных волокон кисти, предплечья и плеча. Чтобы совершился этот несложный акт, должно произойти перераспределение крови во всем теле. Кроме этого, вы можете, задумавшись, нахмурить лоб, можете сжать или приоткрыть губы и даже, не думая о том, переменить позу на более удобную. Все это регулирует мозг даже тогда, когда мы сосредоточены на смысле читаемых слов или же пускаемся в фантазии относительно персоны, сидящей в другом конце библиотеки.
Психофизиология изучает роль всех этих многочисленных процессов организма в поведении и осознаваемых психических процессах. Название этой науки составлено из корня «психо...», означающего душевные переживания, и слова «физиология», предполагающего акцент на телесных изменениях, с которыми эти переживания связаны. Это попытка наблюдать работу всей нашей скрытой «механики» — от ежесекундной регуляции притока крови к сердцу до организации разрядов нервных клеток в^ коре мозга, где представлены наши благороднейшие идеалы.
Мы живем в то время, когда успехи медицинской техники позволяют нашему взору все легче проникать в наше внутреннее пространство. Честер Дарроу так писал об этом в первом номере журнала «Психофизиология» (Darrow, 1964a): «Инженеры-электронщики не только расширили доступную нам область внешнего пространства, но и дали нам почти неограниченные возможности для проникновения в то, что некогда считалось недоступными тайниками человеческого организма». Мы находимся в начале длительного путешествия внутрь человеческого тела, где нам хотелось бы проследить все сложные процессы приспособления к вечно изменяющемуся миру. Эта небольшая книга задумана как введение в область такого поиска. В ней дается краткий обзор того, что мы уже знаем, и того, что еще остается сделать. Мы знаем гораздо больше о камнях Луны, чем о том, как астронавт наклоняется, чтобы их подобрать. Глубокая тайна биологических процессов, лежащих в основе человеческого сознания и поведения, еще только начинает раскрываться.
В центре внимания психофизиологии, по существу, находится роль физиологических процессов во внутренних переживаниях человека. Как самостоятельная дисциплина эта наука сравнительно молода.
В первой половине нашего столетия многие исследователи употребляли термин «психофизиология» в довольно неопределенном смысле, говоря о физиологических исследованиях весьма различного рода. Здесь мы постараемся дать более точное определение. Мы не ставим своей целью очертить границы еще одной академической дисциплины, замкнувшейся на изучении одной только ей известных проблем. Психофизиология — дитя психобиологии, которая в свою очередь явилась плодом союза между естественными и социальными науками. Тем не менее полезно будет все-таки отделить поле этой науки от родственных ей областей.
Ближе всего к психофизиологии академическая наука, именуемая физиологической психологией. Здесь исследователь чаще всего наблюдает поведение при различных экспериментальных воздействиях на физиологические процессы (Stern, 1964). Для того чтобы изучить функцию затылочной доли мозга животного, он может ее разрушить и после этого обнаружить у животного расстройства зрения. Или же для изучения химизма тела он может ввести животному вещество, влияющее на синаптическую передачу, и проследить, как реагирует на это животное.
Поскольку физиологическая психология — экспериментальная наука, требующая серьезных вмешательств в нормальные жизненные процессы, большая часть исследований в этой
16
Глава 1
Что такое психофизиология?
17
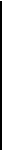
 области была проведена на животных. С крысами, голубями и обезьянами мы можем делать такое, что вряд ли сделали бы с человеческим существом. Мы морим их голодом и жаждой, запирая в ящике, где им не остается ничего другого, как нажимать на педали долгие часы или дни. Мы можем втыкать им в мозг или в другие участки тела электроды.
области была проведена на животных. С крысами, голубями и обезьянами мы можем делать такое, что вряд ли сделали бы с человеческим существом. Мы морим их голодом и жаждой, запирая в ящике, где им не остается ничего другого, как нажимать на педали долгие часы или дни. Мы можем втыкать им в мозг или в другие участки тела электроды.
Когда завоевала признание дарвиновская теория эволюции, давняя медицинская практика экспериментов на животных получила теоретическое оправдание. В соответствии со взглядами Дарвина на родство видов теперь можно было рассматривать обезьяну как нашу двоюродную сестру, а крысу — как что-то вроде троюродной тетки. Таким образом, поскольку все животные имеют общее происхождение, в строении и функции их нервной системы должны быть существенные черты сходства. И действительно, многое из того, что мы знаем о физиологии человека и ее связи с поведением, основано на экспериментах именно такого рода.
Хотя психофизиолог часто обращается к таким данным, главный предмет его внимания •— сложное поведение человека в более обычных условиях. Поведение чаще бывает здесь независимой переменной, тогда как зависимыми оказываются физиологические процессы. Можно, например, лишить человека сна, вызвать у него радость или печаль и наблюдать, как реагирует его организм на подобные изменения. (Таким образом, в данном случае различие между физиологической психологией и психофизиологией проводится на основе того, что служит независимой переменной — поведение или какая-то физиологическая функция. Однако это различие не следует рассматривать как незыблемое «правило». Подобные правила слишком часто оказываются помехой для экспериментаторов, не принося никакой пользы.)
Там, где «физиологический психолог» часто жертвует значимостью своих работ, поскольку он проводит их на животных, психофизиолог в свою очередь жертвует простотой: гораздо легче, например, определить, какой именно отдел мозга разрушен у крысы, чем сказать сколько-нибудь точно, в какой мере счастлив стал испытуемый. Изменчивость состояния психики у человека — постоянный источник огорчений для психофизиологов, которые должны пытаться одновременно и контролировать внешние условия, и не делать их слишком искусственными. Подобно тому как физик имеет преимущества в точности перед химиком, так физиологическая психология оказывается более «строгой» наукой, чем психофизиология. Но когда наступает время обсуждать переживания человека, исследователю, работающему в области физиологической психологии, приходится экстраполировать на человека данные,
полученные им на животных, тогда как психофизиологу этого делать не нужно.
Хотя мы отграничили психофизиологию от другой ближайшей к ней области, мы еще не дали ее определения. Прагматически поле этой науки часто «определяют» на основе набора используемых в ней методов. Психофизиология изучает физиологические процессы у человека при различных психологи" ческих состояниях. Чаще всего такое изучение начинается с использования полиграфа — электронного прибора, регистрирующего ничтожные "изменения электрических потенциалов (см. гл. 3). На протяжении всей книги речь будет идти о таких показателях, как активность потовых желез, пульс, давление крови, электрическая активность мышц (электромиограмма — ЭМГ) и мозга (электроэнцефалограмма — ЭЭГ), которые легко регистрировать на поверхности тела и которые давно уже широко используются. Если мы проследим историю психофизиологии, то эти традиционные показатели могут нам представиться наиболее важными — хотя бы по абсолютному объе-ему накопленных сведений. Но мы не должны позволить себе сделать ошибку — оценить научное направление только по его прошлому. По мере развития методов биологических исследований к нашему основному списку добавляется много новых показателей. Например, разрабатываются новые методы термографии (измерения температуры кожи используются здесь как показатель распределения крови у поверхности кожи; см. гл. 5). Эти методы, по-видимому, будут играть все возрастающую роль в будущем. Определение психофизиологии как науки на основе ее методов (см. Sternbach, 1966) имеет то преимущество, что дает ясную картину современного состояния этой области. Однако при этом мы рискуем не увидеть новых направлений развития науки.
Другая группа определений психофизиологии связана с некоторыми из ее основных проблем. С такой точки зрения психофизиологом можно назвать, например, того, кто изучает структуру потовой железы и ее отношение к электрической активности кожи. Такой подход близок к определению психофизиологии по ее методам, но это не совсем одно и то же. В случае с исследователем потовых желез, например, не требуется, чтобы он использовал полиграф, проводя работу на людях, или же манипулировал психологическими переменными.
Определять психофизиологию в терминах ее методов или задач — пустое занятие. Психофизиолог должен искать ответ на любой вопрос, который возникнет в его уме, с помощью любых методов, какие только сможет предложить его изобретательность. В этой книге мы представим психофизиологию
18
Глава 1
в перспективе, как стратегию исследования поведения к внутреннего мира человека.' Ее предмет—это предмет всей психологии. Психофизиолог надеется прийти к новому пониманию старых проблем, рассматривая человека как биологическое существо.
Возьмем, например, случай с молодым человеком, который хотел бы стать летчиком, но боится летать. Разные психологические школы будут стремиться понять эту проблему по-разному. Психоаналитик будет искать корни злополучного страха у своего клиента, изучая его сновидения и детские воспоминания. Клиницист, ориентированный на исследование сдвигов в поведении, обратит внимание на специфические проявления данной фобии (например, выяснит, избегает ли этот человек вообще все аэропорты) и будет считать, что проблема связана с результатами научения. Психофизиолог сосредоточит внимание на особенностях физиологической основы страха. Он мог бы предложить «терапию», в которой будут учитываться изменения физиологических реакций, с привлечением также других психологических теорий. Например, этот человек мог бы использовать внутреннюю обратную связь — научиться расслаблению в периоды, когда он мысленно представляет себе перелет из Толедо в Акрон.
Отметим, что психофизиология предлагает здесь иной подход к решению вполне тривиальной проблемы. Дело не просто в использовании полиграфа, а в том, чтобы рассматривать каждого человека как биологическое существо, каким он и является. Таким образом, для психофизиологии предмет исследования тот же, что и предмет самой психологии. Ее проблемы стары, как мысль того первого человека, который задумался над вопросом относительно другого человека: «О чем он думает?» или «Почему он поступает так?»
2
Тело и сознание
«В 1926 году один врач, который долгое время был моим другом, потерял в результате инфекционного процесса левую руку... Несмотря на близкое знакомство с этим человеком, я не имел ясного представления о его страданиях даже через несколько лет после ампутации, так как он не был склонен рассказывать кому-либо о своих ощущениях. Вначале он думал, как очень часто думают и врачи, и непрофессионалы, что, поскольку руки нет, все ощущения, с нею как будто бы связанные, должны быть плодом воображения. Большая часть его жалоб относилась к отсутствующей руке. Он ощущал ее в напряженном положении с пальцами, сжатыми вокруг большого пальца, и резко согнутым запястьем. Никаким усилием воли он не мог хоть сколько-нибудь шевельнуть воображаемой кистью... Ощущение напряжения в руке было временами невыносимым, в особенности если культя охлаждалась или испытывала толчки. Нередко, у него было ощущение, как будто в первоначальную рану на этой руке... многократно глубоко вонзается скальпель. Иногда у него возникало неприятное ощущение в костях указательного пальца. Оно начиналось с конца пальца и поднималось к плечу, и в это время в культе начинался ряд судорожных подергиваний. На высоте болевых ощущений у него часто бывала рвота. Когда боль постепенно ослабевала, спадало и ощущение напряжения в кисти, но оно никогда не уменьшалось настолько, чтобы ею можно было пошевелить. В перерывах между острыми приступами боли он ощущал в руке постоянное жжение. Это ощущение не было невыносимым, и иногда он мог отвлечься и на короткое время забыть о нем. Если оно начинало беспокоить его, то укутывание плеча теплым полотенцем или глоток виски приносили частичное облегчение.
Однажды я спросил его, почему больше всего он жалуется на ощущение напряжения в кисти. Он предложил мне сжать пальцы в кулак, согнуть запястье и, подняв руку наподобие молотка, держать ее в этом
20
Глава 2
Тело и сознание
21-
положении столько, сколько я мог терпеть. Через пять минут с меня лился пот, в кисти и во всей руке было ощущение невыносимого сжатия, и я это прекратил.— Но вы-то можете опустить руку,— сказал он.» [Ливингстон, 1943 (цит. по Melzack, 1973).]
Каждая мысль, каждое действие или ощущение начинается с какого-то электрохимического процесса в мозгу. В случаях фантомных ощущений после ампутации может оставаться боль в конечности. Это в яркой форме демонстрирует ту истину, что ощущению напряжения в руке соответствует электрическая активность определенных клеток головного мозга. Даже после потери руки та же электрическая активность будет по-прежнему восприниматься как ощущение напряжения в уже не существующей руке.
Таким образом, если мы хотим понять внешнее поведение человека и его сознание, мы должны сначала изучить нервную систему. И в самом деле, вся психология — это изучение процессов, протекающих в мозгу.
Центральная роль мозга в определении нашей духовной жизни понималась людьми не всегда. Древние философы, для которых все естественные явления были чем-то таинственным, ставили вопрос так: каким образом «дух» или «душа» взаимодействует с телом? Не зная, что такое душа, ранние мыслители хотели знать, где она находится в теле. Примерно за 700 лет до нашей эры Герофил из Александрии утверждал, что седалищем души служит четвертый желудочек мозга (желудочки мозга — это просто полости, заполненные цереброспинальной жидкостью). Утверждение Герофила положило начало до сих пор не разрешенному спору, который дошел до средних веков: пребывает ли душа в сердце или в мозгу?
В познании организации мозга мы многим обязаны Галену. В частности, Гален приписывал важную функциональную роль открытой им «чудесной сети» (rete mirabile) — сплетению тонких сосудов в основании мозга (Clarke, Dewhurst, 1972): он полагал, что именно здесь образуется «животный дух», вызывающий движения и ощущения. Эта идея оставалась популярной вплоть до XIX века, когда было обнаружено, что в мозгу человека подобной сети нет. Дело в том, что наблюдения Галена были основаны на изучении мозга быков и свиней. Долгая приверженность ученых к ошибочной теории Галена должна послужить некоторым предостережением для тех, кто слишком быстро готов экстраполировать на человека данные, полученные на животных.
В течение веков постепенно накапливались сведения о несчастных жертвах повреждения мозга, которые свидетельствовали о первостепенной важности этого органа. Греческий
врач Гиппократ впервые заметил, что ранения головы часто ведут к нарушению мышления, памяти и поведения. На протяжении последующих двадцати пяти веков делалось много попыток объяснить, каким образом эта масса водянистой серой ткани может создавать такие вещи, как теория относительности, Мона Лиза или Лос-Анджелесский фри-вэй. Однако сознание по-прежнему остается тайной само для себя.
Как это происходит, что вы решаете почитать эту книгу, рассмотреть нужную иллюстрацию или задумываетесь над тем, что же имел в виду автор? Ученые до сих пор бьются над разрешением вопроса, который Гэри Шварц назвал «парадоксом саморегулирования мозга» — как мозг говорит сам себе, что надо сделать? Проблему «тело — сознание» вряд ли можно считать решенной; однако психофизиология может указать много подходов к ее разрешению.
Некоторые психологи довольствуются тем, что рассматривают организм человека как «черный ящик» — сложный механизм, который лучше всего можно понять, изучая, что в него поступает (из внешней среды) и что из него исходит (поведение). Психофизиолог же интересуется всеми сложными промежуточными звеньями. Ему хотелось бы вскрыть черный ящик и исследовать процессы, которые лежат в основе и даже определяют поведение человека и его осознаваемый опыт. Иногда это может быть прямая регистрация электрической активности мозга в виде электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В менее прямых подходах используются «периферические» показатели — частота сокращений сердца, активность потовых желез, сокращения мышц и т. д. (отметим, что они тоже в конечном счете отражают регулирующие влияния мозга).
Организация нервной системы
Нервная система состоит из миллиардов отдельных клеток (нейронов), соединенных между собой электрическими или химическими связями. Место контакта двух нейронов называется синапсом; один нейрон может контактировать с сотнями других. В результате возникает система, которая бесконечно сложнее любой из машин, когда-либо созданных человеком.
Чтобы немного разобраться в ошеломляющей сложности нервной системы, мы должны познакомиться с разными способами ее подразделения на части. Организм человека не для того прошел путь своей эволюции, чтобы аккуратно уложиться в рамки подобных схем, поэтому нам не следует ждать от них многого. Каждый способ подразделения нервной системы отражает какую-то попытку упростить действительность, по частям исследовать то, что на самом деле составляет единое целое.
22
Глава 2
Тело и сознание
23



Рис. 2.1. Центральная и периферическая нервная система. Центральная нервная система (слева) состоит из головного мозга, ствола мозга и спинного мозга. Периферическая нервная система (справа) включает все нервные волокна, идущие от мозга ко всему телу и от тела к мозгу.
В некоторых схемах такого подразделения акцентируются структурные моменты (т. е. строение нервной системы, ее анатомия), тогда как в других основой служат функции (то, какую работу выполняют соответствующие части). На всем протяжении книги мы будем подчеркивать теснейшую связь между структурой и функцией. В действительности это две стороны одной медали; в конце концов, структура тела эволюционировала для того, чтобы лучше выполнять определенные функции.
В качестве первого приближения мы могли бы в структурном плане выделить центральную нервную систему (ЦНС) и периферическую нервную систему (последнее название иногда сокращают как ПНС, но так чаще обозначают парасимпатическую нервную систему, поэтому во избежание путаницы мы это сокращение применять не будем). ЦНС включает головной мозг, ствол мозга и спинной мозг. Все остальное относится к периферической нервной системе (рис. 2.1). ЦНС воздействует на окружающий мир через периферическую нервную систему. Мозс не мог бы говорить, не имея рта. Точно так же через периферическую нервную систему ЦНС узнаёт все об окружающем мире; мозг ничего не мог бы видеть, не имея глаз.
Периферическую нервную систему обычно подразделяют далее на соматическую (воздержимся и здесь от сокращения до СНС, чтобы не было путаницы с симпатической нервной системой, о которой речь будет позже) и_ве£етативную, или автономную. И опять-таки это подразделение представляется упрощенным. Например, вегетативную систему обычно выделяют по функциональным признакам, и она может включать также центральные связи. Соматическая система состоит из нервов, идущих к чувствительным органам и от двигательных Органов. Вегетативную систему называют еще висцеральной, так как она управляет внутренними органами тела (лат. yiscera — внутренности).; Соматическая нервная система активирует прбизвоЖную мускулатуру (называемую также поперечнополосатой из-за поперечной исчерченности ее волокон). Вегетативная нервная система иннервирует так называемую непроизвольную (или гладкую) мускулатуру.
Двигательные ветви соматических нервов представляют для нас значительный интерес. Поведение (которым многие психологи ограничивают свои исследования) — это в конечном счете сложные комплексы мышечных движений. И крыса, нажимающая на рычаг, и философ, обсуждающий проблему соотношения между телом и сознанием,— оба взаимодействуют с внешним миром при помощи мышечной системы. Психофизиолог непосредственно регистрирует электрическую активность мышц в виде электромиограммы (ЭМГ). С поверхности тела можно зарегистрировать суммарную электрическую активность больших групп мышц, что уже позволяет заметить достаточно тонкие изменения, обычно предшествующие видимым элементам поведения.
Подразделяя тело на небольшие, удобные для анализа участки, полезно помнить о том, что каждая мысль и каждое действие связаны со сложной картиной нервной активности, которая не обязательно будет укладываться в создаваемые нами схемы. Наши подразделения помогают нам понять изучаемый предмет, но они не должны ограничивать наше понимание.
Например, подразделение на соматическую и вегетативную (висцеральную) системы — это всего лишь удобное «сокращение» вместо полного описания их функций. Связи этих лвух систем с ЦНС отнюдь не независимы; в пределах ЦНС существует значительное анатомическое перекрывание сенсомотор-ных путей с функциональными интергативными центрами вегетативной нервной системы. Поэтому, когда мы говорим об измерении любой из вегетативных реакций, нам не следует думать, что эта реакция происходит в вакууме. Организм всегда работает как единое целое. Соматические и вегетатив-
| 24 |
I I
I
I I I I
i
Глава 2
ные реакции часто бывают сопряжены между собой. Например, при снижении температуры тела вегетативная система отвечает симпатической реакцией сужения периферических сосудов, чтобы предотвратить потерю тепла через поверхность кожи. В то же время соматическая система стимулирует усиленную выработку тепла путем сокращения произвольной мускулатуры, что как крайний случай выражается в потираний рук и притоптывании, когда холодным утром вы ожидаете автобус. По мере нашего ознакомления с психофизиологией мы будем встречать много примеров взаимодействия между реакциями организма.
А сейчас, помня об этом, мы продолжим наше знакомство со структурой и функциями нервной системы.
Центральная нервная система
ЦНС состоит из головного мозга, ствола мозга и спинного мозга. Спинной мозг — это тяж из нервных волокон, идущий посередине тела и защищенный костной структурой. Он служит связующим звеном между головным мозгом и периферической нервной системой; его волокна передают информацию от головного мозга к телу и обратно. Спинной мозг самостоятельно осуществляет лишь несколько очень простых рефлексов (например, коленный рефлекс), но в обычных условиях головной мозг контролирует все реакции. Ради простоты можно представить себе, что головной мозг состоит из ряда концентрических слоев. Самую сердцевину его составляют наиболее древние системы, обеспечивающие поддержание жизни. Спинной мозг, входя в череп, расширяется и образует ствол мозга, в котором лежат структуры, ответственные за основные физиологические процессы: дыхание, работу сердца, пищеварение и т. д. В эту центральную область входит также ретикулярная активирующая система — сеть волокон, управляющих сном и бодрствованием. Центральный стержень окружен лимби-ческой системой, с которой интимно связана наша эмоциональная сфера. И наконец, все эти структуры охватывает кора мозга. Большой мозг ответствен за высшие мыслительные способности, отличающие человека от животных. На рис. 2.2 головной мозг представлен в поперечном разрезе, показаны его основные анатомические отделы и их функции.
Интерес психофизиолога к работе мозга связан с рядом различных проблем. Когда мы будем обсуждать периферические показатели, такие, как частота пульса или кровяное давление, мы вернемся к рассмотрению специфических структур мозга, регулирующих эти переменные. В настоящее время значительный интерес представляет вопрос о том, в какой мере оба
25

Рис. 2.2. Схематический разрез мозга. (Hilgard E. R., Atkinson R. С, Atkinson R. L., Introduction to Psychology, 6th ed. Copyright 1975 by Harcourt Brace Jovanovich.) Представлены важнейшие отделы мозга и указаны их функции.
полушария мозга (его симметричные половинки) участвуют в различных психических процессах (см. гл. 7 и 9). Еще один дискуссионный вопрос — это проблема локализации разного рода психических функций в коре мозга (см. гл. 9).
Ясно, что на нескольких страницах невозможно описать во всех поразительных деталях то, что мы знаем и чего мы не знаем о работе мозга (см. Rose, 1976). Здесь мы можем только подчеркнуть, что головной мозг играет важнейшую регулирующую роль. Вся психология — это в конечном счете изучение мозга, и это особенно справедливо в отношении психофизиологии.
Вегетативная нервная система
Наибольший интерес для психофизиологов всегда представляла именно вегетативная система (хотя это положение изменилось с развитием методов прямой регистрации активности
26
Глава 2
Тело и сознание
27
ЦНС). Вегетативную нервную систему подразделяют на симпатическую и парасимпатическую. Работа этих двух систем-антагонистов поддерживает в организме стабильность внутренней среды перед лицом вечно изменяющегося внешнего мира. Изучение таких физиологических показателей, как секреция пота, ритм сердца, кровяное давление, расширение зрачков (все они регулируются вегетативной системой), было основным багажом психофизиологов. Рассмотрим теперь подробнее структуру и функцию симпатической и парасимпатической систем.
Вегетативная нервная система регулирует работу сердца, желез и непроизвольной (гладкой) мускулатуры без активного участия нашего сознания, так что мы этого даже не замечаем. В течение многих лет считалось, что функции вегетативной системы недоступны для нормального самоконтроля. Недавние эксперименты с созданием обратной связи и изучение практики восточных мистиков с их древней религиозной традицией тренировки тела позволяют предполагать, что и так называемую «непроизвольную» мускулатуру можно поставить под ' контроль воли. Клиническое и теоретическое значение этих недавно полученных данных будет обсуждаться позже (см. гл. 10). Однако эта новая перспектива не изменяет того основного факта, что обычно мы не можем сознательно контролировать внутреннее состояние организма. Природа мудро сконструировала тело таким образом, что нам не надо постоянно на протяжении всей жизни напоминать сердцу, чтобы оно сокращалось 70 раз в минуту. Если бы внутренние функции требовали нашего повседневного контроля, у нас почти не оставалось бы времени на что-либо иное, кроме непрерывных забот о поддержании жизнедеятельности собственного организма.
Основная функция симпатической системы — это мобилизация всего организма при чрезвычайных обстоятельствах. Такая мобилизация связана с рядом сложных реакций, начиная от расщепления гликогена в печени (образующаяся при этом глюкоза служит добавочным источником энергии) и кончая изменениями в циркуляции крови. Каждую из этих реакций, осуществляемых симпатической нервной системой, легко понять как механизм приспособления к «аварийным» ситуациям, выработанный в ходе эволюции. Обеспечение доступа к запасам энергии дает организму максимум физических возможностей в непредвиденных случаях. Уменьшение кровотока около поверхности тела снижает вероятность обильного кровотечения при повреждении кожи, тогда как усиленная подача крови к глубже лежащим мышцам позволяет развить большее физическое усилие. Кэннон (Cannon, i"§?2)- назвал весь этот комплекс
изменений «реакцией борьбы или бегства». Его теоретические соображения о роли этой реакции явились существенным стимулом для развития психофизиологии, как мы увидим позже при рассмотрении современных представлений об «общей активации» организма.
Действие симпатической системы обычно проявляется диффузно (т. е. охватывает все тело) и поддерживается относительно долго. С другой стороны, действие парасимпатической системы, способствующее сохранению и поддержанию основных ресурсов организма, локально и относительно кратковременно. Стернбах (Sternbach, 1966) сравнил парасимпатические эффекты с выстрелами из ружья, а симпатические — с пулеметными очередями.
Эффекты этих двух систем противоположны друг другу. В то время как симпатическая нервная система ускоряет сокращения сердца, парасимпатическая их замедляет; она усиливает также приток крови к желудочно-кишечному тракту и стимулирует превращение глюкозы в гликоген печени. Большинство, но не все системы внутренних органов получают волокна от обеих систем. Поскольку обе они работают согласованно, трудно бывает определить, связано ли данное изменение функции с активностью той или другой из них. Например, расширение зрачка может быть связано с усилением активности симпатической системы или же с ослаблением активности парасимпатической. Точно так же замедление ритма сердца может указывать и на усиленную активность парасимпатической системы, и на ослабление действия ее антагониста. (Однако, как мы увидим в гл. 5, недавно полученные данные позволяют предполагать, что, если не считать стрессовых ситуаций, как ускорение, так и замедление ритма сердца регулируется парасимпатическими влияниями).
В табл. 2.1 суммированы основные структурные и функциональные различия между двумя отделами вегетативной нервной системы. Главное различие заключается, конечно, в том, что симпатическая система мобилизует организм для действия (катаболизм), а парасимпатическая восстанавливает запасы энергии в организме (анаболизм). Следующее по важности различие — то, что симпатическая система имеет тенденцию действовать быстро и как.единое целое, тогда как парасимпатическая активация более кратковременна и носит более локальный характер.
Последнее различие в функционировании обеих систем связано с особенностями их структурной организации. В соматической нервной системе каждый нейрон, тело которого находится в ЦНС, имеет длинный отросток — аксон (нервное волокно, передающее электрохимические импульсы), который в конце
I
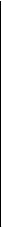
 28 Глава 2
28 Глава 2
Таблица 2.1 Сравнение симпатической и парасимпатической систем (по Noback, Demarest, 1972)
| Симпатическая нервная | Парасимпатическая | |
| система | нервная система | |
| Функция | Катаболизм • | Анаболизм |
| Характер активности | Диффузный, длитель- | Дискретный, кратко- |
| ный | временный | |
| Анатомия | ||
| Место выхода нервов | Грудной и поясничный | Краниальный и крест- |
| из спинного мозга | отделы | цовый отделы |
| Расположение ганглиев | Около спинного мозга | Около иннервируемых |
| органов | ||
| Постганглионарный | Норадреналин ' | Ацетилхолин |
| передатчик | ||
| Специфические эффекты | ||
| Зрачок | Расширение | Сужение |
| Слезная железа | — | Усиление секреции |
| Слюнные железы | Малое количество гус- | Обильный водянисты? |
| того секрета | секрет | |
| Сердечный ритм | Учащение | Урежение |
| Сократимость сердца | Усиление | — |
| (сила сокращений желудочков) Кровеносные сосуды | ||
| В целом сужение ' | Слабое влияние | |
| Состояние бронхов | Расширение просвета | Сужение просвета |
| Потовые железы | Активация ' | — |
| Надпочечники, мозго- | Секреция адреналина | — |
| вое вещество | и норадреналина ' | |
| Половые органы | Эякуляция | Эрекция |
| Подвижность и тонус | Торможение | Активация |
| желудочно-кишеч- | ||
| ного тракта | ||
| Сфинктеры | Активация | Торможение (расслаб- |
| ление) |
 1 В большинстве потовых желез и кровеносных сосудах некоторых скелетных мышц симпатическим постганглионарным передатчиком служит ацетолхолин. Мозговое вещество надпочечников иннервируется преганглионарными холинэрги-ческими симпатическими нейронами.
1 В большинстве потовых желез и кровеносных сосудах некоторых скелетных мышц симпатическим постганглионарным передатчиком служит ацетолхолин. Мозговое вещество надпочечников иннервируется преганглионарными холинэрги-ческими симпатическими нейронами.
 концов подходит к органу-мишени; в произвольной мускулатуре такой аксон образует синапс в области двигательной пластинки мышечного волокна. Про соматическую нервную систему, таким образом, говорят, что она имеет «однонейронный путь». В вегетативной же системе путь двухнейронный, т. е. между последним нейроном, расположенным в ЦНС, и иннервируемым органом имеется еще одна, дополнительная нервная клетка. Место соединения между этими двумя нейронами находится в ганглии. Различия между ганглиями симпатической и пара-
концов подходит к органу-мишени; в произвольной мускулатуре такой аксон образует синапс в области двигательной пластинки мышечного волокна. Про соматическую нервную систему, таким образом, говорят, что она имеет «однонейронный путь». В вегетативной же системе путь двухнейронный, т. е. между последним нейроном, расположенным в ЦНС, и иннервируемым органом имеется еще одна, дополнительная нервная клетка. Место соединения между этими двумя нейронами находится в ганглии. Различия между ганглиями симпатической и пара-

Рис. 2.3. Вегетативная нервная система. (Hilgard et al., см. подпись к рис. 2.2.)
симпатической систем определяют и некоторые различия между диффузной активностью первой и локальной активностью второй.
Как вы можете видеть на рис. 2.3, симпатические волокна выходят из средней части спинного мозга — из грудного и поясничного отделов. Поэтому симпатическую систему иногда называют тораколюмбальной системой. Ее волокна (аксоны) вскоре сходятся к группе симпатических ганглиев, расположенных с обеих сторон около спинного мозга. В этих ганглиях с плотно расположенными нервными элементами существуют большие возможности для электрических «переклю-
30
Глава 2
Тело и сознание
31
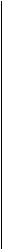
 чений». При этом может случиться так, что импульс, пришедший из любого участка симпатической нервной системы, вызовет активацию всей этой системы. С другой стороны, как видно из рис. 2.3, парасимпатические волокна образуют синапсы недалеко от иннервируемого органа; они выходят из спинного мозга выше и ниже места выхода симпатических волокон — из черепного и крестцового отделов; в связи с этим парасимпатическую нервную систему называют иногда кранио-сакральной системой. Ее ганглии расположены далеко друг от друга, и поэтому нервные импульсы оказываются более специфическими (т. е. воздействуют только на какой-то один орган).
чений». При этом может случиться так, что импульс, пришедший из любого участка симпатической нервной системы, вызовет активацию всей этой системы. С другой стороны, как видно из рис. 2.3, парасимпатические волокна образуют синапсы недалеко от иннервируемого органа; они выходят из спинного мозга выше и ниже места выхода симпатических волокон — из черепного и крестцового отделов; в связи с этим парасимпатическую нервную систему называют иногда кранио-сакральной системой. Ее ганглии расположены далеко друг от друга, и поэтому нервные импульсы оказываются более специфическими (т. е. воздействуют только на какой-то один орган).
Но на этом анатомические различия между двумя системами не кончаются. Из рис. 2.3 видно, что один из симпатических путей ведет к мозговому слою надпочечников — эндокринной железе, выделяющей в кровь гормоны, которые играют роль химических сигналов. У парасимпатической системы таких связей нет (приведенная схема, так же как и табл. 2.1, показывает, что антагонистическое действие двух систем распространяется не на все органы). Если в темной аллее к вам подойдет грабитель, ваша симпатическая система начнет посылать сигналы ко всем органам, сообщая организму, что надо приготовиться к худшему. Мозговое вещество надпочечников, получив электрохимический сигнал, ответит выделением в кровоток гормонов — адреналина и норадреналина. После этого картина несколько усложняется, так как норадреналин служит в симпатической нервной системе медиатором (или передатчиком, т. е. веществом, выделяемым под действием электрического импульса в синапсе). Норадреналин гормонального происхождения попадет в симпатические синапсы и усилит их действие еще больше. Некоторые медиаторы, повысив частоту электрических разрядов в синапсе, быстро разрушаются; другим для этого требуется более долгое время. Норадреналин относится к последней категории. Это тоже помогает понять, почему активность симпатической системы относительно диф-фузна и почему для ее прекращения нужно больше времени. (Вероятно, после того как грабитель удалится с вашими деньгами, вы успокоитесь не сразу.) Отсюда еще одно название для тораколюмбальной симпатической системы «борьбы или бегства» — адренэргическая система (от слова «адреналин»).
Нет необходимости говорить, что для парасимпатической системы существует другой передатчик — ацетилхолин. Поэтому анаболическую краниосакральную систему называют также холинэргической. В синапсах этой системы ацетилхолин быстро инактивируется ферментом холинэстеразой; в связи с этим параеимпатические эффекты четко ограничены не только в пространстве, но и во времени.
Как и любое «правило», относящееся к устройству нервной системы, утверждение, что активация симпатической системы' связана с адреналином, а парасимпатической — с ацетилхоли-ном (АХ), верно не во всех случаях. Преганглионарные волокна всей вегетативной нервной системы выделяют в качестве медиатора ацетилхолин. Иными словами, то, что мы говорили, относилось к синаптической передаче только во втором — постганглионарном — звене двухнейронной цепи. Но для наших целей важнее то, что и для постганглионарных нейронов это правило не всегда верно: в симпатической системе существует также холинэргическая передача. Наиболее важное исключение составляют симпатические волокна, иннервирующие потовые железы — они активируются ацетилхолином. Поскольку потовые железы в этом отношении атипичны, то и электрическую активность кожи (ЭАК, изменение электрических характеристик потовых желез) следует рассматривать как атипичную симпатическую реакцию.
Таким образом, мы обрисовали различия между катаболи-ческим действием симпатической системы и анаболическим действием парасимпатической системы и показали, что различия в функциях этих взаимозависимых систем определяются особенностями их анатомического строения.
Эмоции иактивация (arousal)
Некоторые концепции, изложенные при рассмотрении вегетативной нервной системы, были выдвинуты У. Б. Кэнноном и его учениками в попытке понять физиологические процессы, связанные с эмоциями. Отмеченные ими функциональные различия между симпатической и парасимпатической системами способствовали развитию теории общей активации (arousal), а также пониманию механизмов этой активации и эмоций. Рассмотрим теперь понятие активации в свете представленных выше анатомических данных и некоторых недавно полученных результатов, наводящих на мысль об ином, более сложном объяснении этих явлений.
Эмоции придают жизни вкус и служат источником всех жизненных драм. Из-за любви Отелло убил Дездемону, покончили с собой Ромео и Джульетта. Из любви шах Джехан построил Тадж-Махал. Если психологии суждено когда-нибудь понять человека с его страстями, злобой и идеалами, ей придется объяснить, каким образом и почему мы чувствуем все именно так, а не иначе.
Этот предмет оказался столь трудным для анализа, что многие исследователи при попытках склонить коллег к своей точке зрения впадают в сильные эмоции. Некоторые зашли
32
Глава 2
Тело и сознание
33

 так далеко, что страстно отрицают даже саму возможность научного подхода к человеческим чувствам.
так далеко, что страстно отрицают даже саму возможность научного подхода к человеческим чувствам.
Согласно словарю Уэбстера, эмоция есть «физиологическое отклонение от гомеостаза, которое субъективно переживается в форме сильных чувств (например, любви, ненависти, желания или страха) и обнаруживается в нервно-мышечных, респираторных, сердечно-сосудистых, гормональных и других телесных изменениях, подготавливающих к внешним действиям, которые могут быть совершены или не совершены».
Это определение подчеркивает, что в любой эмоции решающую роль играют внутренние изменения в организме. При любых эмоциональных состояниях мы ясно видим взаимодействие тела и сознания. Две наиболее старые психологические теории эмоций — Джеймса—Ланге и Кэннона — это взаимодействие признают, но по-разному решают вопрос о том, что здесь изменяется первично.
В конце XIX столетия выдающийся гарвардский психолог Уильям Джеймс и скандинавский исследователь по имени Карл Ланге независимо друг от друга выдвинули теорию эмоций, которая на первый взгляд противоречит здравому смыслу. С точки зрения мифического обывателя мы смеемся, потому что счастливы, плачем оттого, что печальны, и дрожим от страха. Концепция, получившая известность как теория Джеймса — Ланге, перевертывает все наоборот. Какое-то событие во внешнем мире автоматически вызывает определенные сдвиги во внутреннем состоянии организма. Мозг распознает данный комплекс сдвигов как соответствующий определенной эмоции. Так, например, вид незнакомого человека в темной аллее может вызвать замирание сердца и потение ладоней. Мозг начинает воспринимать эти сигналы от внутренних органов и в какой-то миг внезапно осознаёт: раз мое тело реагирует так, значит, я, вероятно, испуган. Таким образом, по Джеймсу, мы ощущаем радость потому, что смеемся, печальны потому, что плачем, и боимся потому, что дрожим.
Уолтер Кэннон отбросил эту концепцию. Вместо этого он хотел подчеркнуть важную с эволюционной точки зрения роль сильных эмоций в подготовке организма к энергичной деятельности при неожиданной опасности — реакцию типа «борьба или бегство», осуществляемую симпатической нервной системой. (Эта точка зрения подразумевается и в приведенном выше словарном определении понятия «эмоции»). Кэннон хотел также подчеркнуть важное значение мозга (в особенности гипоталамуса) как инициатора и непременного участника любого эмоционального переживания. Согласно теории эмоций Кэннона — Барда, мозг — нечто гораздо большее, чем пассив-
ный получатель сведений о том, какие процессы во внутренних органах «включены» или «выключены».
В своей классической статье Кэннон (Cannon, 1927) приводит несколько групп экспериментальных фактов, говорящих против представления Джеймса — Ланге о периферическом происхождении эмоций. Он отмечает, что даже после перерезки волокон, идущих от внутренних органов к мозгу, подопытное животное по-прежнему ведет себя «эмоционально». Для истории психофизиологии еще более важной оказалась аргументация Кэннона, основанная на том, что сходные изменения во внутренних органах происходят при ряде различных эмоциональных состояний.
В теории Джеймса — Ланге подразумевается, что каждая эмоция физиологически отлична от всех других. Для того чтобы мозг мог узнать, что тело «рассержено» или что телу «страшно», с этими ключевыми эмоциями должны быть связаны две различные констелляции физиологической активности. В несколько иной форме вопрос о различных комплексах физиологических изменений сохраняет свою актуальность и в современной психофизиологии.
Сегодня ни теория Кэннона, ни теория Джеймса — Ланге не могут служить основой для интерпретации нашей сложной эмоциональной жизни. Под сомнение ставится даже мысль Кэннона об эволюционной значимости симпатической реакции «борьба или бегство», так как стало известно, что секреция адреналина, например, ведет к расщеплению гликогена в мыш-~ цах и таким образом может создавать неблагоприятные условия ДляГмышечной активности [см. статью Гроссмана (Grossman, 1967), в которой дан превосходный обзор фактического материала в связи с теориями эмоций]. Однако обе теории послужили источниками плодотворных идей для современной психофизиологии.
От идей Кэннона ведут свое начало концепция Даффи о «мобилизации энергии» (Duffy,' 1934) и широко известная «активационная теория эмоций» Линдсли (Lindsley, 1951). Линдсли использовал полученные в начале 50-х годов данные о решающей роли ретикулярной формации мозга в поддержании бодрствования. Он утверждал далее, что эмоции можно рассматривать как простой континуум, начинающийся с коматозного состояния (или, для пуристов, со смерти) до таких экстремальных проявлений, как ярость, и что это может быть выявлено в сложных ритмах ЭЭГ. Хотя его надежда на отыскание четких корреляций между характером ЭЭГ и различными эмоциями так никогда и не оправдалась, в психофизиологии уже созрели предпосылки для создания объединяющей теории вроде представления об общей активации.
2 Зак. 699
34
Глава 2
Тело и сознание
35
Мысль о том, что в основе поведения лежит континуум состояний «пробуждения», или степени активации, попала в основное русло психологии, где и остается по сей день. «Активация» (arousal) означает теперь не только простое эмоциональное Состояние, но также и более общее состояние психической «мобилизации» или «готовности». Во многих работах делались попытки трактовать активацию в чисто поведенческом плане. Можно было бы, например, сказать, что испытуемые, получившие инструкцию быть особенно внимательными к своим заданиям, находятся в состоянии активации. То, что было вначале физиологической теорией, расплылось и превратилось в поведенческий конструкт сомнительной ценности
В 1958 г Джон Лэйси написал свою классическую статью, в которой подверг сомнению обоснованность концепции активации. Он приводил, в частности, следующие доводы: 1) некоторые вещества могут вызывать четкое расхождение картины ЭЭГ и состояния активации организма, 2) нет убедительных доказательств того, что обычные психофизиологические показатели изменяются совместно; 3) есть данные'о том, что повышение активности сердечно-сосудистой системы коррелирует с понижением уровня корковой активации. Этот последний пункт — барорецепторная теория Лэйси — будет рассмотрен подробнее в гл. 5, а сейчас для нас наиболее важен второй пункт.
Представление о едином континууме уровней активации (реакции пробуждения) было понято многими исследователями в том смысле, что все психофизиологические переменные как бы взаимозаменимы. Если, например, исследователь интересуется связью между уровнем активации и зрительными порогами, то в качестве показателя этого уровня он, в зависимости от своих возможностей, может взять и активность потовых желез (Lykken et al., 1966), и электрическую активность мозга (Venables, Warwick-Evans, 1967), и сердечный ритм (Baissonneault et al., 1970). Предполагалось, что все они, хотя и неточно, отражают одно и то же состояние, лежащее в основе их всех. Лэйси совершенно резонно заметил, что если бы это было так, то экспериментаторы, регистрирующие два или большее число таких показателей одновременно, должны были бы находить высокую корреляцию между ними. Человек, у которого вспотели ладони, должен обнаруживать также высокий уровень активации ЭЭГ и повышенную частоту сокращений сердца На самом деле имеющиеся данные не подтверждают эту точку зрения. Корреляции между разными психофизиологическими показателями обычно оказывались незначительными Сторонники теории активации тут же стали говорить, что из этой теории не обязательно вытекает представление о легкой
ft
взаимозаменяемости различных показателей. Даже ее самые стойкие защитники должны были признать, как об этом говорит Даффи (Duffy, 1972), что «организм не реагирует как одно недифференцированное целое». Вудворт и Шлосберг (Wood-worth, Schlosberg, 1954) в качестве модели такой общей переменной предложили аналогию с экономическим процветанием. Любой экономический показатель, взятый в отдельности (например, средний доход всех семей или суммарные активы банков некоторого района), может быть слабо связан с показателем, который, по предположению, лежит в основе всего этого, и все-таки можно говорить о лучшем экономическом положении какого-то района по сравнению с каким-то другим. «Точно так же,— рассуждают они,— нам будет не очень трудно определить, возбужден ли испытуемый или же пребывает в полусне, даже если не все его физиологические показатели находятся в соответствующем состоянии».
Представление о том, что в основе различной «интенсивности» поведения лежит некоторый континуум состояний активации, очень заманчиво и ясно усматривается во многих психологических теориях. Так, например, многие теоретики подразделяют шизофреников на типы в соответствии с их физиологическим дефектом, который может в одних случаях вести к перевозбуждению, а в других — к заторможенности (см. Maher, 1966). Однако все попытки расположить все множество состояний человека (как в поведенческом, так и во внутреннем психическом плане) в один непрерывный ряд обречены на провал. «Активация» при игре в теннис совсем не та, что при половом возбуждении или же при подготовке к трудному экзамену.
Теория активации привела к тому, что многие исследователи стали рассматривать такой показатель, как реакция потовых желез, в качестве простого индикатора единого внутреннего состояния, вместо того чтобы видеть в нем один из компонентов в общей картине реакций всего организма. На протяжении всей этой книги проводится мысль, что потовые железы биологически организованы не так, как сердце или мозг, и что изучение каждой из этих систем может дать что-то новое для разгадки тайн человеческой психики.
Регистрация физиологических реакций человека
37

 3
3
Регистрация физиологических реакций человека
Когда Гален следил за пульсом своей пациентки, страдавшей от несчастной любви, его пальцы ощущали растяжение стенки лучевой артерии, происходившее при каждом биении сердца. В это время он мысленно отмечал, когда именно пульс становится «чаще» и когда — «реже». Как бы ни были важны выводы Галена, метод, которым он пользовался, был грубым, далеко не таким, какой требуется для подлинно научного исследования. История науки тесно связана с успехами в создании научных приборов. Наши органы чувств мало пригодны для заглядывания внутрь организма, чтобы узнать, как работает биологическая машина у нас внутри. Научные' приборы расширяют ограниченные возможности человеческого зрения. Телескоп позволяет дотянуться до звезд рукой, а микроскоп увеличивает мельчайшие частицы. Точно так же приложенный к груди стетоскоп заменяет простое прощупывание пульса и дает новую, информацию относительно периодики сердечных сокращений.
Поэтому для того, чтобы понять современную психофизиологию, нужно знать об имеющихся в нашем распоряжении методах наблюдения внутренних изменений, происходящих в организме. Иногда психофизиологам приходится даже тратить на содержание в исправности сложных электронных устройств столько же времени, сколько его уходит на их использование по назначению. Легко подпасть под гипнотизирующее влияние таких приборов при виде комнаты, где вспыхивают лампы, щелкают реле и торопливо пишут самописцы.
Мы проследим теперь развитие наиболее важных биомедицинских приборов и дадим сведения, необходимые для понимания работы современной регистрирующей аппаратуры.
Ранние методы регистрации физиологических показателей
Разумеется, проще всего производить прямые наблюдения. Как показывают недавно проведенные исследования по межполушарной асимметрии, когда человек использует для
принятия решения левую половину мозга, он чаще поворачивает глаза вправо, и наоборот (см. гл. 7). Во многих случаях экспериментатор, сидя прямо перед испытуемым, отмечает направление движений его глаз при ответах на вопросы, требующие мышления в основном правым или левым полушарием. Этот метод здесь вполне приемлем и, конечно, очень удобен. Если, однако, экспериментатора будут интересовать более тонкие движения глаз, например происходящие во время чтения, такой метод будет совершенно непригоден. Ввиду этого уже первые исследователи в данной области создавали различные устройства, подобные телескопу, которые нацеливались на глаз испытуемого и позволяли экспериментатору отмечать малейшие изменения в положении глаза, характерные для определенной деятельности. Точно так же, когда Дэрроу (Darrow, 1932) решил непосредственно наблюдать образование капелек пота в эмоциональных ситуациях, он предлагал людям прижимать кончики пальцев к стеклянной пластинке, которую он затем рассматривал под микроскопом. Как многие из его современников, Дэрроу дополнял прямые наблюдения регистрацией эксперимента на кинопленке. Человек-наблюдатель, как всегда, ненадежен, а регистрация наблюдений на пленке дает возможность позже проанализировать все подробно. Этот принцип непрерывной фоторегистрации физиологических изменений используется и поныне при изучении "движений глаз.
Но не все физиологические изменения видимы для глаза даже при сильном увеличении; поэтому постепенно стали разрабатываться методы непрямого наблюдения.
Во многих ранних работах такое косвенное измерение физиологических реакций всецело основывалось на применении механических устройств. Например, для изучения коленного рефлекса Вендт (Wendt, 1930) разработал систему стержней, рычагов и блоков, при помощи которых четырехглавая мышца бедра была связана с пишущим устройством. При утолщении мышцы, сопровождавшем ее сокращение, перо всякий раз писало на бумаге зубец.
Ясно, что механические системы такого типа требовали и механических записывающих устройств. Для изучения поведенческих реакций физиологи вначале приспособили кимограф. Существенная часть этого прибора — медленно вращающийся цилиндр, покрытый листом бумаги. Перо или писчик, касаясь поверхности бумаги, движется по ней по мере вращения цилиндра. В этом случае, пока четырехглавая мышца остается в покое, на бумаге пишется прямая линия. Неожиданное вздрагивание пера при механическом утолщении мышцы в момент ее сокращения регистрирует коленный рефлекс.
38
Глава 3
Регистрация физиологических реакций человека
39
 В ранних исследованиях использовалось много различных систем регистрации. Для кимографа с закопченной лентой брали полосу специальной бумаги и пропускали ее через дымящее пламя, пока она не покрывалась слоем сажи. Затем ленту помещали на барабан, а острый кончик писчика при движении по цилиндрической поверхности просто снимал слой сажи. По окончании записи бумагу обрабатывали раствором шеллака, и ее можно было хранить неопределенно долго. Этой системе отдавали предпочтение перед системой с пером, пишущим чернилами, так как писчик был легче и быстрее" реагировал на механические сигналы в системе. Применялись многие другие системы записи на кимографе. Все это были предшественники основного современного аппарата психофизиологической лаборатории — полиграфа. Слово «полиграф» означает «многопишущий» и указывает на возможность одновременной записи информации, приходящей по нескольким каналам. Хотя с технической точки зрения перья могут регистрировать все что угодно (например, полиграфы можно использовать на метеорологических станциях для одновременной записи температуры, влажности и атмосферного давления), этот термин постепенно стал означать в первую очередь прибор, предназначенный для психофизиологических исследований. И естественно, эксперты, работающие в области детекции лжи (регистрирующие обычно изменения активности потовых желез, дыхания и кровяного давления — см. гл. 10), называют себя более нейтральным словом «polygraphers».
В ранних исследованиях использовалось много различных систем регистрации. Для кимографа с закопченной лентой брали полосу специальной бумаги и пропускали ее через дымящее пламя, пока она не покрывалась слоем сажи. Затем ленту помещали на барабан, а острый кончик писчика при движении по цилиндрической поверхности просто снимал слой сажи. По окончании записи бумагу обрабатывали раствором шеллака, и ее можно было хранить неопределенно долго. Этой системе отдавали предпочтение перед системой с пером, пишущим чернилами, так как писчик был легче и быстрее" реагировал на механические сигналы в системе. Применялись многие другие системы записи на кимографе. Все это были предшественники основного современного аппарата психофизиологической лаборатории — полиграфа. Слово «полиграф» означает «многопишущий» и указывает на возможность одновременной записи информации, приходящей по нескольким каналам. Хотя с технической точки зрения перья могут регистрировать все что угодно (например, полиграфы можно использовать на метеорологических станциях для одновременной записи температуры, влажности и атмосферного давления), этот термин постепенно стал означать в первую очередь прибор, предназначенный для психофизиологических исследований. И естественно, эксперты, работающие в области детекции лжи (регистрирующие обычно изменения активности потовых желез, дыхания и кровяного давления — см. гл. 10), называют себя более нейтральным словом «polygraphers».
Простые механические устройства описанного выше типа использовались не только для измерения коленного рефлекса. Например, вначале при изучении мигания к веку нередко прикрепляли легкий стержень. Каждое движение века смещало этот стержень и связанный с ним писчик. С помощью хитроумных приспособлений подобного же рода исследовали тремор пальцев и другие физиологические изменения.
Сходные, но более сложные системы появились после разработки пневматических записывающих устройств. Они преобразовывали изменение давления в механическое движение, которое заставляло перемещаться писчик. Таков, например, плетизмограф — несложный прибор, регистрирующий изменения объема. Усиленный приток крови к какой-либо части тела обычно ведет к ее набуханию, т. е. к увеличению объема. На рис. 3.1 показано простое приспособление для изучения кровотока в руке. Руку опускают в сосуд, заполненный жидкостью, и плотно закрывают этот сосуд диафрагмой (называемой тамбуром) из эластичной резины или металла. Когда кровь усиленно притекает к руке, объем руки увеличивается. Это вызывает небольшое смещение жидкости, которая

Рис.3.1. Плетизмограф Франке для кисти и запястья (Ruckmick С. A., The Psychology of Feeling and Emotion. Copyright 1936, McGraw-Hill.) Тяжелый стеклянный сосуд А наполнен водой, которая частично заполняет также стеклянную трубку с расширением (Д) Изменения уровня воды в трубке передаются в пневматическую систему и регистрируются Резиновая мембрана Г закрывает отверстие сосуда и облегает руку. Рука сжимает в воде деревянную гантель (Б).
в результате растягивает диафрагму. Движение диафрагмы передается через рычаг писчику и регистрируется на кимографе. Таким способом можно проводить длительное (хотя неизбежно лишь грубое) измерение колебаний кровотока в руке.
Вероятно, наибольшую известность получил прибор для регистрации дыхания — пневмограф. В этом приборе имеется герметически закрытая резиновая трубка, которая охватывает кольцом грудь испытуемого и может растягиваться наподобие гармошки. Когда человек дышит, брюшные и грудные мышцы у него последовательно расслабляются и сокращаются. При вдохе трубка пневмографа растягивается и ее объем возрастает. При этом мембрана, прикрепленная на одном из концов трубки, втягивается внутрь. Механическое устройство передает это движение писчику полиграфа. Работа этого приспособления показана на рис. 3.2. Аппараты такого типа до сих пор используются в практике профессиональной детекции лжи, тогда как психофизиологи предпочитают более современные приборы. В гл. 5.будет рассмотрена более сложная система для измерения кровяного давления, в которой использован сходный принцип
40
Глава 3
Регистрация физиологических реакций человека
41
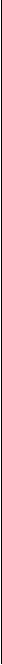

Рис.3.2. Пневматическая система для записи дыхания. (Smith В. М., The Polygraph. Copyright 1966 by Scientific American, Ins.) Трубка со складчатыми стенками охватывает грудную клетку испытуемого и соединена с тонкостенными металлическими мехами. При вдохе и выдохе воздух входит в меха и выходит из них, вращая при этом вертикальный стержень с прикрепленным к нему пером.
Этот краткий обзор методов прямого наблюдения и механической регистрации физиологических сдвигов уже дает нам некоторое представление о решающей роли приборов в психофизиологии. Технические устройства описанного выше типа часто бывают неудобными для испытуемых и могут очевидным образом влиять на изучаемые реакции. Сомнительно, чтобы в условиях, когда человек должен неподвижно сидеть с ниткой, приклеенной к веку, у него регистрировалась нормальная частота мигания. Поэтому успехи в изучении физиологии человека часто зависят от разработки аппаратуры, позволяющей наблюдать разнообразные физиологические реакции, не причиняя беспокойства испытуемому. Большинство современных психофизиологических методов основано на записи электрических явлений, связанных с процессами, протекающими в организме.
Электричество и организм
Луиджи Гальвани впервые высказал предположение, что решающая роль в снабжении биологических тканей энергией принадлежит электричеству. 26 сентября 1786 года в своей тесной лаборатории Гальвани занимался препарированием лягушки, а его коллега рядом с ним ставил опыты с электростатическим генератором. Когда один из его ассистентов случайно коснулся скальпелем нерва в лапке мертвой лягушки, лапка резко сократилась. Этот случай вдохновил
Гальвани на проведение ряда опытов, которые постепенно убедили его в том, что сокращение мышцы произошло в результате случайного электрического разряда.
Гальвани считал, что он открыл важнейшую жизненную силу, которую он назвал «животным электричеством». Он оказался вовлеченным в научный спор со своим коллегой Алессандро Вольта. Вольта доказывал, что Гальвани во многих экспериментах непреднамеренно создавал примитивные электрические батареи и что на самом деле существует только один тип электричества.
Когда Гальвани был вынужден уйти в отставку (из-за отказа присягнуть в верности Наполеону), его племянник Альдини в стремлении поддержать престиж семьи объехал Европу, отстаивая всюду представление об уникальной природе «животного электричества». Многие из современников Гальвани верили, что вскоре можно будет оживлять умерших, просто-напросто восстанавливая в них эту электрическую силу. Альдини поддерживал эту веру полными драматизма демонстрациями открытия своего дяди. Легенда гласит, что он будто бы показывал аудитории мертвую куриную голову и заставлял ее мигать глазами, а также открывать и закрывать клюв. В отдельных случаях он даже доставал тела только что казненных преступников и в качестве мрачной демонстрации своей правоты заставлял двигаться их конечности.
Несмотря на успех у впечатлительной публики, теория Гальвани была в конце концов отвергнута. Существует только один тип электричества. Наши знания о природе этого единственного типа оставляют, однако, желать много лучшего (см. Приложение А).
Регистрация психофизиологическихпроцессов
|
|
| Рис. 3.3. Этапы психофизиологической реги^тпячии |
Процедура регистрации в настоящее время состоит обычно из трех связанных между собой этапов, схематически представленных на рис. 3.3. На первом этапе определенный физиологический процесс выделяется в виде электрического
42
Глава 3
Регистрация физиологических реакций человека
43
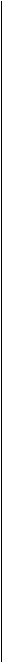 сигнала или преобразуется каким-то образом в электрический импульс. Затем, на втором этапе, этот сигнал обрабатывается в серии усиливающих электронных цепей — так, чтобы в определенном виде попасть в устройство, демонстрирующее электрические процессы (третий этап).
сигнала или преобразуется каким-то образом в электрический импульс. Затем, на втором этапе, этот сигнал обрабатывается в серии усиливающих электронных цепей — так, чтобы в определенном виде попасть в устройство, демонстрирующее электрические процессы (третий этап).
Рассмотрим каждый из этих этапов в отдельности.
Первый этап: выделение сигнала
Как мы уже говорили, организм человека представляет собой сложную электрохимическую систему Многде электрические явления в организме можно наблюдать, просто приложив электроды (в простейшем случае — любые хорошие проводники) к поверхности тела.
Если мы поместим электроды где-либо на поверхности кожи, то между ними обнаружится доступная для измерения разность потенциалов. (Отметим, что электродов всегда должно быть два, чтобы электрическая цепь была замкнутой. Электроны должны переходить из одного места в другое.) Эти биопотенциалы отражают нормальный электрогенез организма. Если поместить два электрода на череп, мы будем регистрировать главным образом электрическую активность мозга — электроэнцефалограмму, или ЭЭГ. Если мы поместим один электрод на правую руку, а другой — на левую, мы сможем записать электрокардиограмму (ЭКГ), которая отражает электрические процессы, связанные с сокращением сердечной мышцы. Если два электрода расположить близко друг к другу на тыльной стороне руки, мы получим запись мышечной активности в этом участке — электромиограмму (ЭМГ). Два электрода, приложенные по обе стороны глаз, позволяют регистрировать изменения ориентации глаз. Запись электрических процессов при таких изменениях называется электроокулограммой. Отметим, что с помощью таких методов возможно только грубое измерение электрической активности. Функция каждого нейрона проявляется в электрических импульсах. Можно зарегистрировать активность одного нейрона, но для этого приходится обычно вводить микроэлектроды в глубь ткани, что позволяет подойти к отдельной клетке. Отведением электрической активности от одиночных клеток обычно занимаются исследователи в области физиологической психологии и физиологии Чаще всего такие эксперименты проводятся на животных. Психофизиолог, регистрирующий электрические процессы с поверхности тела человека, изучает сложные взаимодействия больших объемов нервной и мышечной ткани и их связь с поведением и сознательными переживаниями.
Нет нужды говорить о том, что организм не построен из четко обособленных электрических цепей. Мы не можем быть
уверены, что два электрода, помещенные на макушке, будут регистрировать только активность мозга. Если у испытуемого будут напряжены мышцы скальпа, на ЭЭГ наложатся ненужные в данный момент сигналы от этих мышц — ЭМГ. На запись активности передних отделов мозга может повлиять потенциал, связанный с глазами. Наши электроды могли бы даже зарегистрировать мощные сигналы от сердца — ЭКГ. Эти побочные электрические сигналы называются артефактами, они накладываются в виде электрических «помех» на тот сигнал, который нас интересует. Поэтому, в частности, и нужны на втором этапе электронные фильтры, способные выделить те волны, которые для нас существенны в данном эксперименте.
Все записи, о которых шла речь, были биполярными, т. е. оба электрода располагались на самой исследуемой ткани или в непосредственной близости от нее. Каждый из этих электродов помещался на «активной» точке. В других случаях исследователь может предпочесть монополярное отведение, при котором для одного из электродов выбирается относительно неактивная точка, называемая референтной. Мы можем, например, регистрировать монополярную ЭЭГ, если поместим один электрод на поверхность головы, а второй — на мочку уха. В некоторых отношениях этот способ отведения дает более однозначные результаты, чем биполярное отведение. Он дает нам относительно чистую информацию об электрической активности в одном участке тела, а не сложную картину взаимодействия активности двух участков. Электрогастрограм-му — электрическую активность мускулатуры желудка,— обычно регистрируют, помещая один электрод над желудком, а второй — на ноге. Потенциал кожи — показатель электрической активности потовых желез ладоней и подошв — тоже удобнее регистрировать монополярно: один электрод помещают на ладони, а второй — на тыльной стороне руки.
Выбор моно- или биполярного способа отведения зависит как от специфики изучаемой физиологической системы, так и от целей эксперимента. Мы будем обсуждать этот вопрос при рассмотрении отдельных физиологических показателей. Важно помнить, что где бы на поверхности тела мы ни поместили два электрода, мы всегда обнаружим разность потенциалов между ними. Где именно мы располагаем электроды и как связываем электрические сигналы с физиологическими процессами, лежащими в их основе,— это один из ключевых ьопросов психофизиологии, к которому мы. будем возвращаться на протяжении всей книги.
До сих пор мы рассуждали так, как будто устройство самих электродов — вещь несущественная и, если мы можем прикрепить две полоски алюминиевой фольги к кускам про-
44
Глава 3
Регистрация физиологических реакций человека
45
 волоки, этого будет вполне достаточно. В отношении некоторых, наиболее мощных сигналов, например ЭКГ, это практически верно. Тут годится любой хороший проводник, плотно прижатый к поверхности тела. Но когда речь идет о сигналах, которые трудно выделить (из-за их малой величины), тип используемых электродов приобретает большое значение. Нам нужно быть уверенными в том, что регистрируемые сигналы действительно исходят от тела, а не являются артефактами иного происхождения — электрическими помехами, которые генерируются самим оборудованием. Кроме того, в некоторых случаях вещества, соприкасающиеся с кожей, могут влиять на саму изучаемую ткань (например, при записи активности потовых желез). Почти всегда между кожей и электродом помещают проводящую среду — специальный химический раствор. Это тоже может влиять на ткань под электродом. При измерении малых потенциалов особые затруднения возникают в связи с поляризацией электродов. Многим веществам свойственна ионная поляризация, и при эгам электроды начинают работать как миниатюрные батареи, генерирующие собственный потенциал. Очень стабильны электроды, сделанные из серебра и покрытые слоем AgCl2,— поляризации у них не происходит. Теперь имеются в продаже хлорсеребряные электроды разной формы и размеров, и их обычно используют в большинстве психофизиологических исследований. Для укрепления их придуман ряд хитроумных приспособлений.
волоки, этого будет вполне достаточно. В отношении некоторых, наиболее мощных сигналов, например ЭКГ, это практически верно. Тут годится любой хороший проводник, плотно прижатый к поверхности тела. Но когда речь идет о сигналах, которые трудно выделить (из-за их малой величины), тип используемых электродов приобретает большое значение. Нам нужно быть уверенными в том, что регистрируемые сигналы действительно исходят от тела, а не являются артефактами иного происхождения — электрическими помехами, которые генерируются самим оборудованием. Кроме того, в некоторых случаях вещества, соприкасающиеся с кожей, могут влиять на саму изучаемую ткань (например, при записи активности потовых желез). Почти всегда между кожей и электродом помещают проводящую среду — специальный химический раствор. Это тоже может влиять на ткань под электродом. При измерении малых потенциалов особые затруднения возникают в связи с поляризацией электродов. Многим веществам свойственна ионная поляризация, и при эгам электроды начинают работать как миниатюрные батареи, генерирующие собственный потенциал. Очень стабильны электроды, сделанные из серебра и покрытые слоем AgCl2,— поляризации у них не происходит. Теперь имеются в продаже хлорсеребряные электроды разной формы и размеров, и их обычно используют в большинстве психофизиологических исследований. Для укрепления их придуман ряд хитроумных приспособлений.
Прежде чем закончить разговор о потенциалах, нужно еще упомянуть об одной часто используемой электрической характе--ристике кожи — ее сопротивлении слабому току. Это уже не биопотенциал, генерируемый самим телом. Сопротивление кожи (СК), так же как и обратная ему величина — проводимость кожи (ПрК), характеризует активность потовых желез. Это наиболее широко используемый психофизиологический показатель, и при его измерении к телу должен быть приложен внешний ток. Разумеется, через кожу пропускают только очень слабые токи (порядка 10 микроампер), которые значительно ниже порога чувствительности.
Интересы психофизиологов не ограничиваются, однако, регистрацией тех физиологических процессов, которые сопровождаются сдвигами в электрической активности, записываемой с поверхности тела. Поэтому психофизиологи часто используют преобразователи — приспособления, переводящие в форму электрических потенциалов давление, температуру или изменения освещенности.
» Мы уже видели, как можно использовать ритмические движения грудной клетки для регистрации дыхания. В современной психофизиологической лаборатории для регистрации
дыхания не пользуются описанным выше пневмографом Вместо этого вокруг грудной клетки крепится приспособление, называемое датчиком натяжения. Это проводник, сопротивление которого при растяжении уменьшается. Таким образом, изменения окружности груди регистрируются как изменения электрического сопротивления в цепи. Подобный же датчик, прикрепленный горизонтально к веку, может измерять растяжение века, когда глаза спящего испытуемого движутся туда и сюда в фазе «быстрого» сна (сон с быстрыми движениями глаз, см. гл. 7).
Есть и другие преобразователи. Если нам нужно измерять температуру тела (как показатель локального кровотока, см. гл. 5), то мы можем использовать термопару, которая генерирует потенциал разной величины в зависимости от температуры. Вместо этого можно применять и термистор, у которого электрическое сопротивление зависит от температуры.
Итак, мы видим, что на первом этапе психофизиологической регистрации — при обнаружении сигнала — можно регистрировать биопотенциалы (т. е. естественные электрические процессы организма) или различные неэлектрические процессы, которые можно записывать в виде электрических сигналов с помощью преобразователей.
Второй этап: уточнение сигнала
Электрический сигнал, полученный с поверхности тела, в своем первоначальном виде непригоден для исследования. Хотя между любыми двумя точками вашей головы имеется разность потенциалов, ее недостаточно, чтобы включить лампу-вспышку или электромотор. Сигнал надо усилить, т. е. сделать его достаточно мощным, чтобы он мог на третьем этапе привести в действие записывающее устройство. Далее, некоторые характеристики сигнала могут иметь более прямое отношение к лежащим в его основе физиологическим процессам, нежели другие. Мы уже упоминали, что прикрепленные к голове электроды могут наряду с электрической активностью мозга уловить изменения потенциала, связанные с движениями глаз. Поэтому отводимый электрический сигнал нужно подвергнуть фильтрации, чтобы выделить те изменения потенциала, которые наиболее интересны для исследователя.
Второй этап — уточнение сигнала — заключается, таким образом, в его усилении и фильтрации. Зто осуществляется с помощью ряда сложных электронных схем, обычно подразделяемых на предусилитель и усилитель мощности. Как говорят сами названия, наибольшее усиление происходит в усилителе мощности, тогда как предусилитель в большей степени связан с фильтрацией физиологического сигнала.
46
Глава 3
Регистрация физиологических реакций человека
47


Рис.3.4. Полиграф Grass model 7. (Фото предоставлено Grass Instrument Company, Quincy, Mass.)
Выпускаемые полиграфы позволяют в широких пределах изменять усиление и фильтрацию. Благодаря этому с помощью одного прибора можно записывать много различных физиологических процессов с разными электрическими характеристиками. Кроме того, это дает возможность определять влияние разных уровней усиления и степени фильтрации на данный физиологический сигнал. Но с такой гибкостью связана и сложность. Контрольная панель полиграфа недоступна для понимания новичка (рис. 3.4). Перед началом работы множество переключателей и регуляторов должно быть поставлено в надлежащее положение. Сказанное в этой книге не научит вас работать на полиграфе, однако мы изложим здесь главные
принципы уточнения сигнала, знание которых будет полезно при изучении литературы по психофизиологии.
Принципы усиления очень просты. Цель его — усилить электрические сигналы организма до такого уровня, чтобы они могли приводить в движение регистрирующую аппаратуру. Применявшееся усиление сигнала указывают в научных статьях с помощью отрезка, помещенного под физиологической записью; например, если мы на записи ЭЭГ увидим такой знак.
I 50 мкВ,
то мы будем знать, что отклонение от нулевого уровня на величину, равную длине этого отрезка, соответствует исходному потенциалу 50 микровольт
Принципы фильтрации электрических процессов не так просты, чтобы их можно было описать здесь (см. Приложение А). Но если сигнал усилен и его частотные характеристики изменены фильтрацией, то эта картина сохраняется и на последнем этапе, когда преобразованные сигналы становятся доступными глазу.
Третий этап, демонстрация сигнала
Наиболее распространенный способ регистрации физиологи ческих процессов, изучаемых в лаборатории, аналогичен записи на кимографе, употреблявшемся раньше. В историческом плане одной из главных проблем психофизиологической регистрации было создание записывающего устройства, доста- ' точно чувствительного для того, чтобы можно было точно регистрировать небольшие по величине высокочастотные изменения потенциала, происходящие в организме
В 1903 году Эйнтховен изобрел струнный гальванометр для записи ЭКГ. В его приборе между полюсами мощного электромагнита была натянута тонкая металлическая нить. При прохождении по нити тока, подлежавшего измерению и регистрации, вокруг нити создавалось второе магнитное поле и нить отклонялась на расстояние, пропорциональное силе проходящего по ней тока. Во многих приборах старой конструкции к нити прикреплялось зеркальце, которое отражало направленный на него луч света на движущуюся ленту фотобумаги (рис. 3.5). Преимуществом этой системы была относительно малая механическая инерция. Для того чтобы двигать перо по бумаге, требовалась значительно большая сила.
Впоследствии было создано много конструкций мощных гальванометров с легкими перьями. Основной принцип реги страции, применяемый в настоящее время в полиграфах, состоит в том, что перо укрепляют на стрелке чувствительного электроизмерительного прибора Под кончиком пера с помощью
48 Глава 3



Рис. 3.5. Зеркальный гальванометр.
специального мотора с постоянной скоростью протягивается бумажная лента. Скорость бумаги устанавливает экспериментатор в зависимости от того, какие детали изучаемого процесса его интересуют (новичку это может показаться сложным; см. Приложение А). Однако даже современные системы имеют механические ограничения. Во многих полиграфах перо не может отклоняться чаще, чем 75 раз в секунду. Таким образом, на полиграфе нельзя зарегистрировать без искажений физиологические сигналы, содержащие компоненты с частотой более 75 Гц (например, электромиограмму).
Экспериментатор, которому нужно исследовать высокочастотные реакции, может пользоваться осциллографом. Это сложное устройство имеет небольшой экран, на котором могут демонстрироваться процессы, протекающие очень быстро. Разумеется, если надо сохранить запись наблюдаемых изменений, приходится снимать эти процессы на кинопленку.
Но даже после того, как сделана запись на полиграфе или засняты на пленку процессы с экрана осциллографа, работа исследователя еще только начинается. Теперь, когда он зарегистрировал физиологические реакции, он должен найти в этом какой-то смысл, проанализировать свои данные. На заре психофизиологических исследований это означало, а нередко и сейчас означает, что надо взять в руки линейку и начать вручную измерять величину различных колебаний.
Некоторую часть этой работы можно теперь переложить. на быстродействующие ЭВМ. В таких случаях наряду с контрольной записью, доступной глазу, осуществляется регистрация изучаемого процесса на магнитной ленте в электронном устройстве. С помощью печатающего устройства эта запись подается в ЭВМ, где возможен значительна более сложный анализ данных.
Однако главным прибором, повседневно используемым в психофизиологической лаборатории, остается полиграф.
Потовые железы
Скромная потовая железа может показаться неподходящим объектом для начала нашего ознакомления с человеческим организмом. Все мы знаем, как важны мозг или сердце, но мало кто из нас когда-либо серьезно задумывался о значении потоотделения. Эта функция кажется нам несколько приземленной и даже, может быть, не совсем приличной.
Однако современная психофизиология родилась тогда, когда французский врач Фере впервые заметил, что в эмоциональных ситуациях изменяются электрические свойства кожи. Теперь мы знаем, что Фере косвенным образом наблюдал активность потовых желез. Поэтому нам кажется уместным начать наш обзор именно с функции потоотделения. Ведь даже в этой биологически столь примитивной функции мы найдем много удивительных сложностей. При анализе получаемых данных психофизиолог нередко чувствует себя здесь как путешественник в неведомой стране. Перед ним стоит задача перевода с незнакомого языка — с давно забытого тайного языка организма.
История вопроса
В1888 году д-р Фере описал следующий случай. Больная с истерической анорексией, которую он тактично именует «мадам Икс», жаловалась на ощущения электрического покалывания в кистях и ступнях. Фере заметил, что эти ощущения усиливались,когда больная вдыхала какой-нибудь запах, смотрела на кусок цветного стекла или прислушивалась к звуку камертона. Мы не знаем, прекратились ли у больной покалывания в конечностях, но в ходе обследования Фере обнаружил, что при пропускании слабого тока через предплечье происходили систематические изменения в электрическом сопротивлении кожи. Двумя годами позже Тарханов независимо показал, что сходные электрические сдвиги можно наблюдать и без приложения внешнего тока. Таким образом, он открыл кожный потенциал и, кроме того, установил, что этот потенциал изменяется как при внутренних переживаниях, таки в ответ на сенсорное раздражение.
50
Глава
Потовые железы
51
Позднее эта электрическая активность кожи получила название «кожно-гальванической реакции» (КХР) Этот термин сохранился и до наших дней. Хотя с помощью примитивных приборов, которыми пользовались в начале века, трудно было измерять столь тонкие сдвиги, предсказуемость и драматичность КГР привлекли внимание многих исследователей. Если вы никогда не наблюдали этого простого феномена, вам будет трудно представить себе воодушевление ранних исследователей, видевших в этой области безграничные перспективы. Вообразите себе, что с помощью замысловатого сплетения проводов ваши пальцы соединены с огромной машиной и что вы находитесь в старой лаборатории начала нашего века. А теперь вообразите, что всякий раз, как вы мысленно представляете себе лицо друга, стрелка измерительного прибора сдвигается с места!
Одним из первых исследователей КГР был Карл Юнг. Он рассматривал КГР как объективное физиологическое «окно» в бессознательные процессы, которые были постулированы его наставником Фрейдом (Peterson, Jung, 1907) Именно в работе Юнга было впервые показано, что величина электрической реакции кожи отражает, по-видимому, степень эмоционального переживания. Чем сильнее затрагивает вас то, что вы себе представляете, тем сильнее отклоняется стрелка.
В этой атмосфере энтузиазма сотни ученых начали использовать свою громоздкую аппаратуру, чтобы определить, в каких именно ситуациях возникает КГР. В одной работе по изучению страха Нэнси Бэйли (Bayley, 1928) испытывала на своих товарищах-студентах действие следующих раздражителей: они прослушивали рассказ о том, как в море тонул скот; держали в руке горящую спичку до тех пор, пока она не начинала обжигать пальцы; затем в четырех футах от них стреляли из револьвера, заряженного холостым патроном который давал особенно громкий звук; а некоторым этот револьвер вручали, чтобы стреляли они сами. На основании субъективного отчета испытуемых и анализа физиологических реакций Бэйли пришла к выводу, что существует страх двух типов: испуг от неожиданности и страх, обусловленный пониманием ситуации. Уоллер (Waller, 1918) изучал КГР у испытуемых, мысленно представлявших себе немецкий воздушный налет на Лондон, а Линде (Linde, 1928) обнаружил, что более смешные шутки закономерно вызывали более выраженную КГР (к восторгу психофизиков эта зависимость оказалась логарифмической кривой Вебера — Фехнера).
^Электрические изменения в коже так поразительны,, и их так легко измерять, что там, где психофизиологи искали основные законы поведения, другие люди видели уже практи-
ческие возможности. Одно время рекламные агентства выясняли, можно ли по выраженности КГР в ответ на рекламное объявление предсказать, насколько эффективно данная реклама повлияет на продажу товара. В одном предварительном опыте (Eckstrand, Gilliland, 1948) у группы домохозяек наибольшую КГР вызывала именно та реклама блинной муки, которая действительно оказалась более эффективной, чем другие рекламные объявления. Однако такой же опыт, проведенный на той же группе испытуемых с рекламой детского питания, был менее успешным. Это не удивительно. В основе этого и многих других подобных исследований лежало предположение, что реклама, вызывающая у людей наиболее эмоциональную реакцию, должна сильнее повлиять на продажу товара; но это предположение в разных случаях могло быть и верным, и неверным. Как бы то ни было, использование КГР в рекламном деле оказалось очередным скоропроходящим увлечением.
Многие фирмы, поставляющие электронное оборудование, продают сейчас недорогие устройства, которые могут издавать тоны разной высоты или громкости в зависимости от сопротивления в цепи. Человек может стать душой вечера, если, подсоединив такую машинку к ладоням ничего не подозревающего приятеля, будет задавать ему сугубо личные вопросы. Машинка, вероятно, станет издавать предательские вопли во всех случаях, когда тот будет лгать. Это, конечно, просто безобидная игрушка, но только до тех пор, пока она не используется для вторжения в личную жизнь безвинных зрителей. Когда мы будем рассматривать методы детекции лжи, мы снова вернемся к вопросу о том, действительно ли при лжи обнаруживаются такие электрические изменения (см. гл. 10).
Более дорогостоящие варианты тех же устройств продаются во имя науки и религии. Можно сказать, что чем менее искушен в житейских делах потребитель, тем скорее он станет платить деньги для измерения реакции своих потовых желез.
На что реагируют потовые железы?
Ранние исследователи полагали, что КГР служит даже лучшим индикатором эмоций, чем собственный отчет испытуемого о его переживаниях. Так, например, Ханс Сиц (Hans Syz, 1926, 1927) обнаружил, что у студентов-медиков такие слова, как «проститутка», «зря потраченная молодость» или «неоплаченный счет», вызывают КГР,тогда как сами испытуемые утверждали, что никаких эмоций при этих словах не испытывали. Он считал, что из-за социальных табу эти эмоциональные
52
Глава 4
Потовые железы
53
реакции не осознаются, но что они тем не менее продолжают оставаться эмоциональными. Это один из доводов, привлекательных для психологов-операционалистов, которые хотят обойтись без путаных и часто противоречивых отчетов людей о своих чувствах. И все-таки представляется не совсем верным ставить знак равенства между эмоциями и КГР, поскольку очевидно, что слово «эмоция» употребляется здесь не в общепринятом смысле. КГР у студентов-медиков можно было бы рассматривать как ориентировочную реакцию (рефлекс на новые раздражители), речь о которой пойдет в этой главе несколько позже.
Однако попытки установления таких прямолинейных соответствий обречены на неудачу. Эволюция потовых желез происходила не для того, чтобы их реакции согласовались с определением какого-то слова, например слова «эмоции». Психофизиолог должен стараться выйти за рамки нашего обычного языка, когда он хочет найти общие особенности событий, вызывающих реакцию потовых желез. Значительная часть этой главы посвящена вопросу, на что реагирует потовая железа? Мы увидим, что ее реакции могут быть весьма -многообразными и они дают нам информацию различного рода. Здесь уместно будет рассмотреть два главных положения:
1. Активность потовых желез отражает определенные события, происходящие в головном мозгу. Реакции потовых желез и другие показатели функции вегетативной нервной системы часто называют «периферическими», как будто они совсем отделены от функций ЦНС. Это совершенно неверно. Реакция на такие слова, как «неоплаченный счет», явно включает в себя сложные процессы мышления. Бернстейн, Тэйлор и Уэйнстейн (Bernstein et al., 1975) разработали экспериментальную методику, в которой физически идентичные раздражители получают совершенно разный смысл. Ключевым элементом для- предсказания реакции потовых желез оказалась «психологическая значимость» — сложный конструкт вроде тех, какие встречаются в социологических исследованиях. Исследуя реакцию потовых желез, психофизиолог не обходит сложности человеческих переживаний, а, наоборот, сталкивается с ними лицом к лицу.
2. Величина реакции потовых желез закономерным образом связана с интенсивностью осознаваемых переживаний. Рассмотрим следующий ряд слов: кафедра, парта, цветок, ... [fuck], пепельница, карандаш. Наверняка реакция ваших потовых желез будет наибольшей в ответ на неожиданное неприличное слово. Данные об усиленном потоотделении в ответ на ^эмоционально окрашенные стимулы весьма однозначны и убедительны. Мак-Кёрди (McCurdy, 1950) резюмировал все эти данные в обзоре с не очень приятным заглавием «Сознание
и гальванометр». Каждый исследователь, измерявший электрическую активность кожи, знаком с такой зависимостью, хотя детальному изучению этого феномена мешает то, что подобную зависимость трудно точно описать (например, трудно найти более определенный термин, чем «интенсивность осознавания»). Бихевиористский уклон американской психологии также сдерживал изучение сознания. Одна из важнейших перспектив психофизиологии — то, что здесь намечается возможность снова ввести в главное русло социальных наук эту прежде «запретную» тему. Тот факт, что более интенсивное переживание вызывает более сильную реакцию потовых желез,— это одна из удобных отправных точек.
Помимо этих двух главных положений, которые мы рассмотрели, можно сформулировать более общий вопрос: зачем в процессе эволюции у наших потовых желез выработалась реакция на интенсивные раздражители? Ответ скрыт в истории наших предков, однако существует несколько основных гипотез о биологическом значении такого эмоционального потоотделения. Традиционная точка зрения, приписываемая Дэрроу (Darrow, 1936), заключается в том, что повышенное потоотделение позволяет руке лучше что-либо схватить. Например, дровосек, прежде чем взять в руки топор, плюет на ладони. (В китайском и японском языках выражение «плевать на ладони» — это идиома для обозначения ситуации, при которой от человека требуется умственное и физическое напряжение.) Усиленное выделение пота на ладонях ведет к повышению тактильной чувствительности. Кроме того, увлажнение ладоней и подошв делает их менее уязвимыми для ссадин и порезов. Все эти изменения благоприятны при угрожающей ситуации, во всяком случае для первобытного охотника. Таким образом, их нетрудно было бы понять в эволюционном аспекте. Есть и другие, более сложные теории относительно тонких физиологических эффектов такого потоотделения (см. Edelberg, 1972).
Электрические параметры кожи
Одной из характерных черт многих ранних исследований было пренебрежение к тому обстоятельству, используется ли в работе внешний ток (метод Фере) или не используется (метод Тарханова). Было широко распространено мнение, что оба метода дают одинаковые результаты и поэтому процедура записи — вопрос сугубо методический. В течение многих лет некоторые исследователи, не занимавшиеся специально изучением электрокожной активности и лишь использовавшие ее в своих работах, не могли ясно себе представить, что же именно они регистрируют.
|
|
| 54 |
| 55 |
| Потовые железы 1 |
Глава 4
На самом же деле существуют тонкие различия в физиологической основе показателей, измеряемых двумя разными способами, а поэтому и в получаемых результатах. В настоящее время психофизиологи пытаются в связи с этим упразднить старый термин «КХР», хотя сами нередко продолжают его употреблять по привычке. В случае приложения внешнего тока (экзосоматический метод) вернее было бы говорить об измерении «сопротивления кожи» (СК), а при эндосоматическом методе — об измерении электрических потенциалов самой кожи (ПК). Наряду с применением такой терминологии нужно также точнее характеризовать рассматриваемые явления: следует говорить об уровне, когда речь идет о показателях, относящихся к достаточно долгому периоду времени (тоническая активность), и употреблять слово реакция в случае изменений малой длительности, вызываемых определенным раздражителем (фазическая активность, занимающая всего несколько секунд). Реакции, возникновение которых нелегко связать с каким-либо внешним стимулом, называются спонтанными. И наконец, для всех этих явлений вводится один общий термин «электрическая активность кожи» (ЭАК) вместо КГР. В табл. 4.1 приводятся наиболее обычные сокращения для различных показателей.
На рис. 4.1 показана одновременная запись проводимости кожи (ПрК) и кожного потенциала (ПК). Обратите внимание на четкие реакции, зарегистрированные во время случайного разговора. В период отдыха записи ПрК и ПК могут выглядеть как прямые линии. РПрК — отклонение пера вверх, означающее увеличение проводимости (связанное с усиленным потоотделением), тогда как РПК обычно выглядит как отклонение вниз от нулевой линии. Тонические УПрК и УПК можно рассчитать, суммируя и усредняя эти величины через Таблица 4.1. Виды электрической активности кожи (ЭАК)
| УПК (SPL) РПК (SPR) СРПК (SSPR) УСК (SRL) РСК (SRR) СРСК (SSRR) УПрК (SCL) РПрК (SCR) СРПрК (SSCR) |
 Уровень потенциала кожи (skin potential level) Реакция потенциала кожи (skin potential response) Спонтанная реакция потенциала кожи (spontaneous skin potential response) Уровень сопротивления кожи (skin resistance level) Реакция сопротивления кожи (skin resistance response)
Уровень потенциала кожи (skin potential level) Реакция потенциала кожи (skin potential response) Спонтанная реакция потенциала кожи (spontaneous skin potential response) Уровень сопротивления кожи (skin resistance level) Реакция сопротивления кожи (skin resistance response)
Спонтанная реакция сопротивления кожи (spontaneous skin resistance response) Уровень проводимости кожи (skin conductance level) Реакция проводимости кожи (skin conductance response)
Спонтанная реакция проводимости кожи (spontaneous skin conductance response)
Рис. 4.1. Одновременная запись проводимости кожи и кожного потенциала I и 3 — ПК, запись с левой ладони и предплечья; 2 и 4 — ПрК, запись с правой ладони. Записи / и 2 были получены во время спокойной беседы, а 3 и 4 — спустя несколько минут после первых двух. Точная корреляция между ПК и ПрК не получила полного объяснения. На рис. 4.3 представлена одна из предложенных моделей. (Записи предоставлены Лэрри Янгом.)
равные интервалы времени (например, через каждые 15 с в течение 2 мин). Реакции, представленные на рис. 4.1, можно классифицировать как спонтанные (см. ниже), так как они не следуют за каким-либо конкретным раздражителем.
Сравнительно немногие исследователи говорят теперь о сопротивлении, обычно предпочитают говорить о проводимости кожи1 (Lykken, Venables, 1971). Это по ряду причин удобнее. Наиболее убедительный довод, основанный на биологических соображениях, состоит в том, что потовые железы работают как ряд параллельно включенных резисторов (Treager, 1966). Поскольку проводимость группы параллельно включенных проводников равна сумме их проводимостей, увеличение проводимости прямо пропорционально числу включающихся в работу потовых желез. Дэрроу (Darrow, 1964b) независимо показал, что проводимость кожи линейно связана с секрецией пота, чего нельзя сказать о сопротивлении кожи. Со статистической точки зрения также предпочтительнее использовать величины ПрК, нежели СК, поскольку распределение их ближе к нормальному, чем у величин СК.
Это может показаться несущественным различием, однако это не так. Поскольку проводимость есть результат нелинейного преобразования сопротивления, использование двух групп
 1 Единицы проводимости математически, эквивалентны единицам сопро
1 Единицы проводимости математически, эквивалентны единицам сопро
тивления, и их можно вычислить из последних по формуле: Ом =----------- .
56
Глава 4
Потовые железы
57

 данных может привести к разным выводам (см. пример в Приложении Б). С точки зрения электроники проще и дешевле непосредственно регистрировать сопротивление. Поэтому большинство исследователей продолжает использовать приборы, измеряющие СК, и переводит получаемые данные в величины ПрК. Важно помнить, что выводы следует делать на основании величин ПрК, а не СК-
данных может привести к разным выводам (см. пример в Приложении Б). С точки зрения электроники проще и дешевле непосредственно регистрировать сопротивление. Поэтому большинство исследователей продолжает использовать приборы, измеряющие СК, и переводит получаемые данные в величины ПрК. Важно помнить, что выводы следует делать на основании величин ПрК, а не СК-
Конечно, существует много способов оценки потоотделения, не связанных непосредственно с электрической активностью кожи. Например, Стрэхен, Тодд и Инглис (Strahan et al., 1974) разработали метод «потовых бутылок»: к коже ладони прикладывается маленькая бутылочка, наполненная дистиллированной водой, а затем измеряются электрические характеристики этой воды. Большое преимущество такого метода — портативность бутылочек: она делает этот метод очень удобным при проведении исследований в естественной для испытуемых обстановке. С помощью этого метода было, например, продемонстрировано усиление потоотделения у больных перед хирургической операцией (Strahan, Но, 1976). В психофизиологии подобного рода методам, несомненно, принадлежит большое будущее.
Физиологическая основа
До сих пор мы рассуждали так, как будто электрическая активность кожи (ЭАК) очевидным образом определяется активностью потовых желез. Однако ранние исследователи предполагали, что здесь могут участвовать и иные факторы: некоторые считали, что ЭАК отражает мышечную активность, тогда как другие подчеркивали возможное участие периферических кровеносных сосудов. Мышечная теория была довольно скоро отвергнута. Сосудистая теория держалась несколько дольше, но ряд изящных экспериментов опроверг и эту возможность. Например, Лэйдер и Монтегю (Lader, Montagu, 1962) показали, что, если подавить реакцию потовых желез фармакологическими средствами, РПрК исчезает. Такая же блокада периферических кровеносных сосудов сохраняет РПрК без изменения. До сих пор неясно, может ли сосудистая система влиять на кожный потенциал. Как бы то ни было, в настоящее время почти все признают, что ЭАК обусловлена главным образом активностью потовых желез.
Хотя для потовых желез нейромедиатором служит ацетил-холин (передатчик, характерный для парасимпатической системы), они находятся под симпатическим контролем. Например, разрушение симпатической нервной системы на одной стороне тела уничтожает ЭАК только на этой стороне (Schwartz, 1934). Ввиду этого и вследствие широко распростра-
ненного убеждения, что симпатическая реакция носит диффузный характер, ЭАК использовалась в прошлом как грубый индикатор активации симпатической системы. Однако рассмотрение связей потовых желез с центральной нервной системой показывает необоснованность такого упрощенного подхода (Edelberg, 1972; Rickles, 1972).
Анатомически от мозга к потовым железам идут два пути: один от коры больших полушарий, а другой от глубинных структур головного мозга — гипоталамуса и ретикулярной формации. Уже это показывает нам, что даже «простая» потовая железа — орган с неожиданно высокой биологической сложностью. По ходу нашего обзора мы увидим, что разные показатели ЭАК могут давать весьма различную информацию о лежащих в ее основе процессах. Простое предположение, что любой показатель ЭАК служит надежным индикатором уровня активации симпатической системы, уже нельзя считать верным.
Прежде чем рассматривать сдвиги в работе потовых желез, ответственные за ЭАК, познакомимся вкратце с некоторыми особенностями потоотделения у человека.
В 1614 году Санкториус Санкторио начал серию опытов по потоотделению, которые он продолжал более 30 лет. С удивительной преданностью своей работе он проводил долгие часы сидя на очень чувствительных весах. Он показал, что выделение пота происходит постоянно, даже когда на коже не появляются капли,.— это он назвал «неощутимой перспирацией». За один обычный день он терял около фунта пота. Верность этой оценки подтверждена современными учеными (Kuno, 1956).
У человека имеется 2—3 миллиона потовых желез, рассеянных по всему телу. Количество их в разных участках тела сильно варьирует. Обычно, например, на ладонях и подошвах бывает около 400 потовых желез на квадратный сантиметр поверхности, около 200 на лбу и около 60 на спине (Champion, 1970). Хотя точное число желез на единицу площади у разных людей бывает разным, соотношение их числа в разных местах весьма постоянно (Kuno, 1956). Иными словами, у всех людей на ладонях и подошвах всегда больше потовых желез, чем на лбу, а на лбу — больше, чем на спине.
Существует два типа потовых желез. Менее распространенные апокринные железы развиваются из волосяных фолликулов и находятся главным образом под мышками и в области половых органов. Считается, что эти железы исключительно и определяют запах тела (Champion, 1970). Они реагируют в первую очередь на раздражители, вызывающие стресс, и не играют почти или совсем никакой роли в регуляции
58
Глава 4
Потовые железы
59
температуры тела, хотя в этих же участках есть и железы, чувствительные к температуре.
Апокринные железы начинают функционировать приблизительно с наступлением половой зрелости. Их секрет несколько отличается от того солевого раствора, каким является пот Они секретируют свою цитоплазму, т. е. часть содержимого клетки.
Биологическая роль этого апокринного потоотделения малопонятна, хотя ученые и высказали ряд интересных предположений. В общем эти теории основаны на том факте, что у высших животных многие запахи служат сигналами для половых партнеров. Пахучие вещества такого рода называются феромонами.
Есть некоторые указания на то, что подобные вещества могут играть важную роль и в биологии человека. Например, исследование Вирлинга и Рока (Vierling, Rock, 1967) показало, что некоторые запахи могут ощущаться только женщинами в детородном возрасте. Одно из таких веществ, обладающее мускусным запахом,— экзальтолид — найдено в моче мужчин. Мужчины его запаха не ощущают, как не ощущают его и жен щины до наступления менструаций или в период менопаузы. Женщины детородного возраста чувствуют этот заггах сильнее в те несколько дней каждого менструального цикла, когда возможно зачатие. Хотя секрет апокринных желез не исследовали на присутствие в нем экзальтолида, вполне возможно, что это вещество у человека представляет собой феромон — сигнальный фактор, связанный с полом. В другом исследовании (McClintock, 1971) были получены данные о возможной роли феромонов в определении ритма менструальных циклов.
Таким образом, хотя наука уделяла мало внимания апокринному потоотделению, оно, возможно, является древним механизмом, играющим какую-то роль в нашем поло-вом_ поведении (Thomas, 1974). Еще один довод в пользу этой гипотезы — то, что по крайней мере у женщин количество пота, выделяемого апокринными железами, снижается при повышении уровня эстрогенов (Rothman, 1954). Возможно, будущим ученым предстоит узнать, что распространенное в нашем обществе использование дезодорантов подавляет не только запах тела.
Потовые железы второго типа называются эккринными. Они распределены по всей поверхности тела и выделяют раствор NaCl. Хорошо развиты они только у человека и человекообразных обезьян (Champion, 1970) Их главная функция — тер-морегуляция, поддержание постоянной температуры тела. Тепло образуется при сокращении мышц и при обмене веществ Наш организм стремится поддерживать внутреннюю
температуру на постоянном уровне около 36—37°С путем отдачи тепла с выдыхаемым воздухом и через кожу. Одно из средств повышения кожной теплоотдачи — терморегуляционное потоотделение.
В течение дня мы в обычных условиях теряем около полулитра жидкости с потом. Это та самая неощутимая перспирация, которую впервые обнаружил Санкториус Санкторио. При температуре воздуха около 30°С пот начинает появляться на теле в виде мелких капелек. При исключительно сильной жаре потеря жидкости может достигать около 3,5 литров в час и 14 литров в день (Rothman, 1954). При испарении этой жидкости происходит потеря тепла. Количество пота, которое может испариться, зависит также от влажности, т. е. коли-чества влаги в воздухе. Таким образом, наша вялость в жаркие влажные дни, может быть, служит инстинктивным способом поддержания постоянной температуры тела.
Всеми этими реакциями управляет рефлекторный центр, который находится в гипоталамусе и реагирует на температуру крови. Рефлекторное потоотделение происходит автоматически, прежде чем организм начнет подвергаться риску перегрева.
Другие эккринные железы реагируют не столько на изменения температуры, сколько на внешние раздражители и стресс. Эти потовые железы сосредоточены на ладонях и подошвах, а также, в меньшей степени, на лбу и под мышками. Подразделение желез имеет не абсолютный, а относительный характер. В условиях сильной жары «эмоциональные» железы могут на нее реагировать, а в условиях крайнего стресса на него могут отвечать и терморегуляторные железы.
Электрическая активность кожи (ЭАК) обычно оказывается показателем такого «эмоционального» потоотделения. Ее обыкновенно регистрируют с кончиков пальцев или ладони, хотя ее можно измерять и на ногах, а также, возможно, на лбу и под мышками. Многие психофизиологи действовали в своих работах так, как будто бы место отведения ЭАК не имеет существенного значения. Это, вероятно, справедливо для тех несложных исследований, о которых мы до сих пор говорили. Булл и Гэйл (Bull, Gale, 1975) показали, что при прослушивании испытуемыми серии тонов реакции, регистрируемые с обеих рук, если не идентичны, то во всяком случае сходны. Однако некоторые недавние исследования, а также соображения биологического здравого смысла заставляют предполагать, что это бывает не всегда. Например, по данным Варни (Varni, 1975), когда при выработке классического условного рефлекса на одну из рук подается электрический удар, более сильные электрические реакции кожи обнаруживаются именно на этой руке. Мыслободский и Рэтток (Myslo-
60 Глава 4
Потовые железы
61


Рис. 4.2. Эккринная потовая железа.
бодскы, Ратток, 1975) недавно обнаружили, что левая рука дает большую реакцию на зрительные стимулы, чем на словесные. Это согласуется с современными представлениями о межполушарной асимметрии (см. гл. 7 и 9).
На рис. 4.2 показано анатомическое строение эккринной потовой железы. Самый наружный слой кожи, роговой (stratum corneum), состоит из отмерших клеток, образующих защитную пленку для чувствительных внутренних частей кожи. Этот слой выполняет примерно ту же функцию, что и шерстный покров у некоторых животных. Следующий слой кожи — мальпигиев слой — состоит из делящихся клеток, которые непрерывно заменяют отмершие клетки поверхностного слоя. Весь эпидермальный слой в электрофизиологическом отношении относительно нереактивен, большинство электрических изменений происходит, по-видимому, в следующем слое — дерме — ив протоках самих потовых желез.
* Вспомним, что большая часть пота, выделяемого человеком в нормальных условиях, не обнаруживается в виде капель на коже. Неощутимая перспирация обычно осуществляется не
через потовые железы, а более прямым путем — через поверхность кожи.
Как мы уже отмечали, ЭАК определяется в первую очередь самими потовыми железами. Точные детали этого механизма остаются пока неясными, однако мы опишем модель «цепи потовыделения», предложенную Робертом Эдельбергом (Edel-berg, 1972). Эта модель отражает, по-видимому, одно из наиболее законченных современных представлений по этому вопросу.
Эдельберг исходит из того, что полость потовой железы имеет заметный отрицательный потенциал по отношению к окружающей ткани. Это основная электродвижущая сила ПК. Потовые протоки обычно наполнены потом до уровня маль-пигиева слоя. Это количество пота, стоящее в протоке, и определяет тонический уровень показателей ЭАК. Если пот выталкивается вверх по протоку (что может произойти при условии секреции под влиянием симпатических нервов или при сокращении миоэпителиальных волокон, в большей степени контролируемых гормонами), то выявляется РПрК или РПК-
Пот не остается на этом новом уровне. Он может медленно диффундировать через стенку протока в роговой слой или же активно реабсорбироваться мембранами клеток протока. Соотношение этих двух процессов определяет форму поздних компонентов реакций.
Чтобы понять значение этих различий, нам надо подробнее рассмотреть топографию реакции. До сих пор мы говорили только о простейшей форме РПК, при которой все изменения сводятся к кратковременному увеличению электронегативности. Однако часто наблюдаются и более сложные формы РПК. На рис. 4.3 показаны классическая однофазная и двухфазная волны РПК и их соотношение с фазой восстановления (возвращения к исходному уровню) при РПрК.
Вернемся теперь к нашей первоначальной реакции. Если пот медленно диффундирует через стенку протока, то проводимость кожи будет постепенно возвращаться к исходному уровню. Такое медленное восстановление обычно сопровождается однофазным отрицательным сдвигом кожного потенциала. Если же изменения в мембранах клеток протока обеспечивают активную реабсорбцию пота и, следовательно, быстрый ход фазы восстановления, то мы, по всей вероятности, увидим двухфазную РПК.
Таким образом, в простейшем случае показатели электрической активности кожи связаны с количеством пота, стоящим в протоке. Медленное восстановление при РПрК и однофазная отрицательная РПК указывают на быстрое движение пота вверх по протоку, обусловленное либо его усиленным выделением, либо сокращением мышцы в основании железы. Двухфазная
G2
Глава 4
Потовые железы
63


Рис. 4.3. Схема отношений между РПрК и РПК.
Слева — однофазная РПК (отрицательное отклонение от-нулевой линии), которая обычно сопровождается РПрК с медленным восстановлением (оборонительная реакция). Справа — двухфазная РПК (отрицательное и положительное отклонение), сопровождающаяся РПрК с более быстрым восстановлением (целенаправленная активность). В действительности реакции бывают несколько сложнее (см. Edelberg, 1970).
РПК и быстрый ход восстановления при РСК говорят об активной реабсорбции пота. Отметим, что (во всяком случае, теоретически) эти процессы могут происходить ниже уровня поверхности кожи. ЭАК отражает активность большого числа потовых желез, а не просто количество выделяемого пота. Заметим также, что в соответствии с этой моделью не только разные показатели ЭАК, но и разные компоненты одного ответа могут отражать разные биологические процессы. Ниже мы рассмотрим возможную роль таких различий при различных биологических категориях поведения.
Различия между электрическими показателями активностикожи
Первое различие, существенное для оценки любой психофизиологической реакции,— это различие между тоническими и фазическими показателями активности. Тонические показатели — это относительно длительные состояния (такие, как УПрК), а фазические — это более короткие ответы на раздражители (такие, как РПрК). Из тонических показателей мы, в частности, еще не рассматривали подробно скорость спонтанных электрокожных реакций.
Часто бывает, что экспериментаторы наблюдают относительно внезапные изменения в ПрК и ПК при отсутствии видимой внешней стимуляции. Иными словами, у испытуемого обнаруживается как будто бы РПрК, но без всякого раздражителя. В подобных случаях мы можем подозревать, что у испытуемого возникает собственный внутренний стимул — например, среди обычных размышлений в сознании вдруг возникает эмоционально окрашенный образ. Может также оказаться, что человек глубоко вздохнул или же заметил что-то на стене, находящейся у него перед глазами.
С точки зрения экспериментатора такие электрические реакции кожи классифицируются как спонтанные (иногда ■обозначаемые сокращенно СРПрК и СРПК), поскольку они не связаны с применяемыми раздражителями. Общее число таких фазических реакций за данный промежуток времени — частота спонтанной активности — является тоническим показателем ЭАК- Если у спокойно сидящего испытуемого в течение двух минут наблюдается 5 таких неожиданных изменений ПрК, то говорят, что частота СРПрК у него равна 2,5 в 1 мин. Что касается точной величины, начиная с которой Данную реакцию следует относить к категории спонтанных, то здесь нет единого мнения; в разных исследованиях эта величина может быть разной (см. Приложение Б).
Обычно РПрК считаются вызванными (или неспонтанными), если на испытуемого воздействовал внешний раздражитель. Однако существуют и исключения. Например, можно говорить о частоте СРПрК при медитации ''(Orme-Johnson, 1973), при определении способностей по тестам IQ (Kilpatrick, 1972) или же при просмотре волнующего фильма (Goleman, Schwartz, 1976). По крайней мере в последнем случае число СРПрК в большой степени определяется внешней стимуляцией. Поскольку трудно с точностью установить, какие именно сцены фильма вызывают реакцию, то подсчитывается общее число реакций на протяжении всего фильма.
Ряд недавних работ указывает на то, что эти два показателя тонических реакций ПрК, возможно, отражают разные типы активности. Килпатрик (Kilpatrick, 1972), например, обнаружил, что во время тестирования IQ у большинства испытуемых наблюдается повышение УПрК без соответствующих изменений СРПрК. Но когда тот же тест предлагали для оценки степени повреждения мозга, повышались оба показателя. Этот факт согласуется с накапливающимися данными о том, что спонтанная активность усиливается при эмоциональном стрессе, тогда как изменения уровня происходят как вследствие эмоций, так и при умственной работе. Подобного рода эксперименты знаменуют начало эры психофизиологических
64
Глава
Потовые железы
65
исследований. Даже на уровне потовой железы можно выделить такие биологические особенности, которые подчеркивают важность «временной структуры» реакции.
В настоящее рремя истинное психобиологическое значение различий между регистрируемыми величинами ПрК и ПК не ясно. Эдельберг (cdelberg, 1972) считает, что ПК включает эпидермальный компонент, не связанный с активностью потовых желез, а ПрК не включает его. Поэтому мы можем ожидать, что когда будет установлен характер соотношений между обоими компонентами, ПК станет для нас информативным показателем.
Мы уже подчеркивали связь между направлением отклонения РПК от нулевой линии и скоростью восстановления при РПрК- Однофазные отрицательные РПК-связаны с медленным восстановлением, тогда как двухфазные РПК сопровождались более быстрым возвращением к исходным величинам. Это различие может иметь решающее значение для современной психофизиологии, исследующей характер формирования реакций в связи с поведением. Так, например, в одном из экспериментов у испытуемых под влиянием громкого тона возникали РПрК с медленным восстановлением. Но когда тот же тон служил испытуемому сигналом для возможно более быстрого нажатия кнопки, скорость восстановления при РПрК увеличивалась. Эти данные вместе с целым рядом других привели Эдельберга (Edelberg, 1970) к убеждению, что активный процесс реабсорбции пота, наблюдаемый при быстром восстановлении,—это признак целенаправленного характера данной.активности. Реабсорбция представляет собой биологически адаптивный процесс, предохраняющий кожу, от переувлажнения, которое могло бы затруднять тонкие движения. РПрК с медленным восстановлением рассматривается как защитная реакция, при которой пот остается на поверхности или около поверхности кожи для снижения риска появления ссадин.
Каким бы ни был окончательный приговор такому объяснению описанных различий, все это еще раз напоминает нам о сложности системы кожного электрогенеза.
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 217; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!


