ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Х} - № страницы. Комментарии в книге – в конце страницы, тут - сразу за соответствующим текстом (шрифт меньше). Содержание в начале и в конце книги. ОБ ИСКУССТВЕ ФОРТЕПЬЯННОЙ ИГРЫ ЗАПИСКИ ПЕДАГ0ГА ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА
1958
Редактор д. в. житомирский
Вступительная статья Я. И. мильштейна

ОГЛАВЛЕНИЕ
Вместо предисловия . . 5
Глава I. Художественный образ музыкального произведения 12
Глава II. Кое-что о ритме ... 38
Глава III. О звуке . 65
Глава IV. О работе над техникой .... 96
1. Общие соображения .... 96
2. Об уверенности как основе свободы . 102
3. О двигательном аппарате . ... 108
4. О свободе ... 114
5. Элементы фортепьянной техники 129
Добавления к главе IV 161
|
|
|
1. Об аппликатуре . . 161
2. О педали . . ... 177
Глава V. Учитель и ученик ..... 191
Глава VI. О концертной деятельности . . . 231
В заключение .. 245
Я. И. Мильштейн. Генрих Нейгауз .... 269
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Для начала— несколько простых положений, которые разовью впоследствии:
1. Прежде чем начать учиться на каком бы то ни было инструменте, обучающийся — будь это ребенок, отрок или взрослый — должен уже духовно владеть какой-то музыкой: так сказать, хранить ее в своем уме, носить в своей душе и слышать своим слухом. Весь секрет таланта и гения состоит в том, что в его мозгу уже живет полной жизнью музыка раньше, чем он первый раз прикоснется к клавише или проведет смычком по струне; вот почему младенцем Моцарт «сразу» заиграл на фортепьяно и на скрипке.
|
|
|
2. Всякое исполнение — проблемы исполнения будут главным содержанием этих записок,— очевидно, состоит из трех основных элементов: исполняемого (музыки), исполнителя и инструмента, посредством которого воплощается исполнение. Лишь полное владение этими тремя элементами (в первую очередь музыкой) может обеспечить хорошее художественное исполнение. Самым простым примером «трехэлементности» исполнения является, естественно, исполнение фортепьянного произведения пианистом-солистом (или сонаты для скрипки соло, виолончели и т. д.).
Эти простые вещи приходится повторять потому, что в педагогической практике чрезвычайно часты преувеличения в ту или иную сторону, отчего неизбежно {6} страдает один из трех элементов, особенно же (и это печальнее всего) — в сторону недооценки содержания, то есть самой музыки (как говорится, «художественного образа») с преобладающим устремлением внимания в сторону «технического» овладения инструментом.
Другое заблуждение, правда, значительно более редкое у инструменталистов и состоящее в недооценке трудности и огромности задачи полного овладения инструментом в угоду, так сказать, самой музыке (То есть преобладание музыкального развития над технически--профессиональным.),—неизбежно также приводит к несовершенной, «музыкальной» в кавычках игре с налетом дилетантизма, без должного профессионализма.
|
|
|
3. Несколько слов о технике. Чем яснее цель (содержание, музыка, совершенство исполнения), тем яснее она диктует средства для ее достижения. Эта аксиома не требует доказательств. Я буду не раз еще говорить об этом впоследствии. Что определяет как, хотя в последнем счете как определяет что (диалектический закон).
Метод моих занятий вкратце сводится к тому, чтобы играющий как можно раньше (после предварительного знакомства с сочинением и овладения им, хотя бы вчерне) уяснил себе то, что мы называем «художественным образом», то есть содержание, смысл, поэтическую сущность музыки, и досконально сумел бы разобраться (назвать, объяснить) с музыкально-теоретических позиций то, с чем он имеет дело. Эта ясно осознанная цель и дает играющему возможность стремиться к ней, достигать ее, воплотить в своем исполнении — все это и есть вопрос «техники».
Так как в моих записках будет часто идти речь о «содержании» как главном иерархическом принципе исполнения, и я предвижу, что слово «содержание» (или «художественный образ», или «поэтический смысл» etc.) может при слишком частом его повторении раздражать молодого пианиста, то я представил себе возможную его реплику: «все только «содержание» да «содержание»! Вот если я сумею сыграть хорошо все терции, сексты, октавы и другие виртуозные трудности в {7} вариациях Брамса на тему Паганини и при этом не забуду и о музыке, то у меня выйдет «содержание», а если я буду мазать и фальшивить, то никакого «содержания» не будет».
|
|
|
Совершенно верно! Золотые слова! Один умный писатель сказал о писателях: «усовершенствовать стиль значит усовершенствовать мысль. Кто с этим сразу не согласится, тому нет спасения!» Вот правильное понимание техники (стиля)! Я часто напоминаю ученикам, что слово техника происходит от греческого слова τέχνη, а «технэ» означало —искусство.
Любое усовершенствование техники есть усовершенствование самого искусства, а значит, помогает выявлению содержания, «сокровенного смысла», другими словами, является материей, реальной плотью искусства. Беда в том, что многие, играющие на фортепьяно, под словом техника подразумевают только беглость, быстроту, ровность, бравуру—иногда преимущественно «блеск и треск» — то есть отдельные элементы техники, а не технику в целом, как ее понимали греки, и как ее понимает настоящий художник.
Техника-«технэ» — нечто гораздо более сложное и трудное. Обладание такими качествами, как беглость, чистота и т. п., само по себе еще не обеспечивает артистического исполнения, к которому приводит только настоящая, углубленная, одухотворенная работа. Вот почему у очень одаренных людей так трудно провести точную грань между работой над техникой и работой над музыкой (даже если им случается по сто раз повторять одно и то же место). Здесь всё едино.
Старая истина: повторение—мать учения—является законом как для самых слабых, так и для самых сильных талантов—в этом смысле и те и другие стоят на равных позициях (хотя результаты работы, конечно, бывают различны). Известно, что Листу случалось по сто раз повторять какое-нибудь особенно трудное место. Когда С. Рихтер играл мне впервые девятую сонату Прокофьева (ему же посвященную), я не мог не заметить, что одно очень трудное, полифоническое, очень оживленное место (в третьей части, всего каких-нибудь 10 тактов) «здорово выходит» у него.
Он сказал мне: «А я это место учил беспрерывно два часа». Вот {8} правильный метод, так как он дает великолепный результат. Пианист работает над достижением наилучшего результата, не откладывая его в долгий ящик. В разговоре с одной ученицей, которая вяло работала и тратила много лишнего времени, я прибегнул к следующей бытовой метафоре: представьте себе, что вы хотите вскипятить кастрюлю воды. Следует поставить кастрюлю на огонь и не снимать до тех пор, пока вода не закипит. Вы же доводите температуру до 40° или 50°, потом тушите огонь, занимаетесь чем-то другим, опять вспоминаете о кастрюле, — вода тем временем уже остыла, — вы начинаете все сначала, и так по несколько раз, пока, наконец, вам это не надоест, и вы не потратите сразу нужное время для того, чтобы вода вскипела. Таким образом вы теряете массу времени и значительно снижаете ваш «рабочий тонус».
Мастерство в работе, в выучивании произведения, а это есть один из верных критериев достигнутой пианистом зрелости, характеризуется своей прямолинейностью и способностью не тратить время попусту.
Чем больше участвуют в этом процессе воля (целеустремленность) и внимание, тем эффективнее результат. Чем больше пассивности, инертности, тем больше растягиваются сроки овладения сочинением и почти неизбежно ослабляется интерес к нему. Все это известно, но упоминать об этом небесполезно. (О технике см. в IV главе, а также на многих страницах этой книжки. Мы же условились, что «текнэ» есть само искусство).
4. Для того, чтобы говорить и иметь право быть выслушанным, надо не только уметь говорить, но, прежде всего, иметь, что сказать. Это так же просто, как дважды два — четыре, а все-таки нетрудно доказать, что сотни и тысячи исполнителей грешат против этого правила постоянно.
Один ученый говорил, что в Греции все умели хорошо говорить, а во Франции все умеют хорошо писать. Однако действительно великих греческих ораторов и французских писателей можно по пальцам перечесть, и нас в данном случае интересуют именно они.
Антон Рубинштейн (не без налета тайной грусти) говорил, что в наше время «все» умеют хорошо играть. Ну и что же, это вовсе не плохо: лучше, чтобы «все» умели играть {9} хорошо, чем чтобы играли скверно. Но слова Рубинштейна с их грустно-скептическим оттенком отнюдь не теряют своего значения.
* * *
У меня смолоду и до сегодняшнего дня сохранилось одно чувство: при каждой встрече с очень большим человеком, будь то писатель, поэт, музыкант, художник, Толстой или Пушкин, Бетховен или Микеланджело, я убеждался в том, что для меня важно прежде всего то, что этот человек большой, что я через искусство вижу огромного человека, и в какой-то мере (условно говоря) мне безразлично, высказывается ли он в прозе или в стихах, в мраморе или звуках.
Когда мне было лет пятнадцать, я жалел о том, что Бетховен не «перемолол» свою музыку на философию, ибо я думал, что эта философия была бы лучше кантовской и гегелевской (Нечего и говорить, что и Канта и особенно Гегеля я знал тогда чрезвычайно поверхностно, а Бетховена совсем недурно.) глубже, правдивее и человечнее.
Расскажу здесь об одной моей ребяческой затее; она совпала по времени с теми «мыслями», которые я только что изложил (мне было тогда лет пятнадцать). Раздумывая об искусстве и науке, об их взаимных связях и противоречиях, я почему-то пришел к выводу, что математика и музыка находятся на крайних полюсах человеческого духа, что этими двумя антиподами ограничивается и определяется вся творческая духовная деятельность человека и что между ними размещается все, что человечество создало в области науки и искусства.
Мысль эта так меня увлекла, что я стал писать некий «трактат» на эту тему. Вначале мне даже казалось, что я высказываю какие-то новые и небезынтересные вещи, но очень скоро пришел к справедливому выводу, что у меня очень мало знаний, что мой ум плохо дисциплинирован, а поэтому нечего и пытаться «поднять» такую психологическую и, может быть, и гносеологическую тему.
Об этой неоконченной (и, кстати, утерянной) книжке можно было только сказать словами Феба из эпиграммы Пушкина: «Охота есть, да {10} толку мало; эй, розгу!».
Привел же я эти ребяческие думы потому, что... (прошу снисхождения у читателя) мне к до сих пор кажется, что математика и музыка — полюсы человеческого духа, и, может быть, если бы моя жизнь сложилась по-другому, я бы продолжал размышлять и фантазировать на эту тему.
Несмотря на то, что это лишь ребяческий бред, доля истины в нем есть, и привел я его только потому, что теперь, имея огромный педагогический опыт, слишком хорошо знаю, как часто даже способные, умеющие справиться со своей задачей ученики не подозревают, с каким великим проявлением человеческого духа они имеют дело. Понятно, что это не способствует художественности их исполнения,—в лучшем случае они застревают на уровне хорошего ремесла.
Да не заподозрят меня, читая слова «великий», «большой» в карлейлизме («Герой и преклонение перед ним»). Старая теория героя и толпы умерла вместе со многими иллюзорными идеями прошлого; мы слишком хорошо знаем, что так называемый великий человек—такой же продукт своего времени, как и всякий другой, но мы также знаем, что такой «продукт», если он называется Пушкиным или Моцартом, принадлежит к самому драгоценному, что родила наша грешная земля.
К тому же, такой «продукт» — самое сложное из всего, что есть на свете,—сложнее строения галактик или атомного ядра. Говоря это, желаю подчеркнуть, как важно внушить любому ученику с самого начала, с каким драгоценным материалом он будет иметь дело в своей жизни, если только действительно отдаст себя служению искусству. Меня никогда не покидает ощущение «чуда», когда я объясняю ученикам гениальные творения великих музыкантов, и мы вместе стараемся исследовать по мере сил их глубины, проникнуть в их тайны, понять их закономерности, возвыситься до их высоты. Знаю, что это ощущение «чуда» и связанной с ним радости — радости от его восприятия и осознания—дает мне весь смысл моей жизни, заставляет меня как педагога работать вчетверо больше, чем «полагается по штату», и жертвовать собой без всякого сожаления.
{11}
* * *
Постараюсь высказать свои соображения об отдельных звеньях фортепьянной игры, как они обычно представляются методисту: о художественном образе (сиречь, о самой музыке), о ритме, о звуке, о различных видах техники.
{12}
ГЛАВА 1
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Признаюсь, что этот заголовок вызывает во мне сомнение, несмотря на то, что понятие, выраженное в нем, общепринято, что все подразумевают под этими словами нечто вполне разумное, понятное и реальное. Но что же такое «художественный образ музыкального произведения», если это не сама музыка, живая звуковая материя, музыкальная речь с ее закономерностями и ее составными частями, именуемыми мелодией, гармонией, полифонией и т. д., с определенным формальным строением, эмоциональным и поэтическим содержанием?
Сколько раз я слышал, как ученики, не прошедшие настоящей музыкальной и художественной школы, то есть не получившие эстетического воспитания, музыкально мало развитые, пытались передать сочинения великих композиторов Музыкальная речь им была неясна, вместо речи получалось бормотание, вместо ясной мысли — скудные ее обрывки, вместо сильного чувства — немощные потуги, вместо глубокой логики — «следствия без причин», вместо поэтических образов —прозаические их отрыжки. В соответствии с этим, конечно, и так называемая техника была недостаточна. Такова игра, в которой художественный образ искажен, не занимает центрального положения или даже совсем отсутствует.
Однажды в моем классе произошло следующее. Один ученик — он впоследствии бросил музыку и стал превосходным инженером —так невыразительно, прозаично сыграл два последних потрясающих «выкрика» в первой балладе Шопена, что я ему поневоле сказал. «Это звучит, как будто бы девушка в красной шапке на станции метро крикнула «От края отойдите!»
{13}Диаметральной противоположностью такого исполнения является, примерно, исполнение Святослава Рихтера. Читая с листа впервые любую вещь,— будь это фортепьянное произведение, будь это опера, симфония, что угодно,— он сразу передает ее почти в совершенстве и в смысле выявления содержания, и в смысле технического мастерства (в этом случае всё едино).
Что я хочу сказать этим противопоставлением? Во-первых: все, что по вопросу об «образе» говорилось и писалось (за исключением некоторых высказываний очень больших людей), является главным образом плодом установки на какой-то общий (воображаемый) средний тип учащегося, тогда как мы знаем по опыту, что учатся музыке (то есть должны работать над «художественным образом») и минимально одаренные, и гениально одаренные, живые, реальные люди и что в действительности все ступени и градации между бездарностью и гением заполнены, и как заполнены! С сотнями и тысячами вариантов и уклонений в ту или другую сторону в зависимости от личных свойств имярека. Вывод ясен: в каждом данном случае «работа над художественным образом» будет выглядеть по-разному.
Во-вторых: чем крупнее музыкант, чем более музыка для него—открытая книга, тем меньше (незначительнее) становится проблема работы над образом: она сводится почти к нулю у таких, как С. Рихтер,—вся «работа» состоит фактически в том, что вещь «выучивается».
Но именно здесь-то и начинается та огромная работа, углубленная и страстная работа, которая недаром известна в жизни больших художников под названием «муки творчества». Врубель писал сорок раз голову Демона именно потому, что был гениален, а не потому, что был бездарен.
Меня, конечно, спросят: почему я говорю о Рихтере, уникальном даровании: ведь мы, педагоги, «методисты», должны ориентироваться на середняка, может быть, даже ниже, чем середняка, нас Рихтеры не интересуют — это «стихия». Я решительно протестую против такой точки зрения
Рассуждая так, успокаиваясь на словах: талант, гений, стихия и т. п., мы малодушно отмахиваемся от {14}самой жгучей проблемы, проблемы, которая в первую очередь должна занимать исследователя-методиста. Я убежден, что диалектически продуманная методика и школа должны охватывать все степени одаренности — от музыкально-дефективного (ибо и такой должен учиться музыке, музыка — орудие культуры наравне с другими) до стихийно гениального. Если методическая мысль сосредоточивается на малом отрезке действительности («середняке»), то она ущербна, неполноценна, недиалектична и поэтому неправомочна. Если уж быть методистом (а методист обязан исследовать действительность), то быть им до конца, охватывать весь горизонт, а не вертеться в заколдованном кругу своей узкой системочки! Правда, это трудно, очень трудно!
Всякий большой пианист-художник является для педагога-исследователя чем-то вроде нерасщепленного атома для химика. Надо иметь много духовной энергии, ума, чуткости, таланта и знания, чтобы проникнуть в этот сложный организм. Но именно этим-то и должна заниматься методика, чтобы выйти из пеленок и перестать, наконец, вызывать зевоту у каждого, кто действительно является пианистом-музыкантом. Всякая художественная методика должна быть в какой-то мере интересна и поучительна и для мастера, и для ученика, и для начинающего, и для «кончающего», иначе вряд ли она сможет себя оправдать.
* * *
Для удобства изложения я согласен временно подавить в себе сомнения насчет правильности выражения «работа над художественным образом» и принять его за чистую монету.
В таком случае установим следующее: работа над художественным образом начинается с первых же шагов изучения музыки и музыкального инструмента. Наши лучшие педагоги детских музыкальных школ прекрасно знают, что, обучая ребенка впервые нотной грамоте, они должны из только что усвоенных учеником знаков составить начертание какой-нибудь мелодии (не сухого упражнения), по возможности уже знакомой (так удобнее согласовать слышимое с {15} видимым — ухо с глазом), и научить его воспроизвести эту мелодию на инструменте. Такому первоначальному «музицированию», конечно, сопутствуют первые простейшие упражнения, преследующие техническую цель,— первое ознакомление с фортепьяно; это первые шаги на долгом пути познания инструмента и овладения им.
Я настаиваю на следующей диалектической триаде: теза — музыка, антитеза — инструмент, синтез — исполнение. Музыка живет внутри нас, в нашем мозгу, в нашем сознании, чувстве, воображении, ее «местожительство» можно точно определить: это наш слух; инструмент существует вне нас, это частица объективного внешнего мира, которую надо познать, которой надо овладеть, чтобы подчинить ее нашему внутреннему миру, нашей творческой воле.
Итак, работа над художественным образом должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на фортепьяно (Я вовсе не имею в виду, конечно, что это должно произойти на первом же уроке; в каждом данном случае рассудительный педагог сумеет найти подходящий для этого момент; важно, чтобы это произошло как можно раньше.) и усвоением нотной грамоты.
Я этим хочу сказать, что если ребенок сможет воспроизвести какую-нибудь простейшую мелодию, необходимо добиться, чтобы это первичное «исполнение» было выразительно, то есть, чтобы характер исполнения точно соответствовал характеру («содержанию») данной мелодии; для этого особенно рекомендуется пользоваться народными мелодиями, в которых эмоционально-поэтическое начало выступает гораздо ярче, чем даже в лучших инструктивных сочинениях для детей. Как можно раньше от ребенка нужно добиться, чтобы он сыграл грустную мелодию грустно, бодрую—бодро, торжественную — торжественно и т. д., и т. д. и довел бы, свое художественно-музыкальное намерение до полной ясности.
По свидетельству опытных педагогов детских школ, среднеодаренные дети с гораздо большим воодушевлением играют народные мелодии, чем инструктивную детскую литературу, где преследуются чисто технические и «умственные» задачи (например, игра целыми {16} нотами, половинными и т. д., паузы, стаккато, легато и т. д.); эти задачи, разрешение которых развивает и ум, и пальцы ребенка, его действенную «рабочую» энергию, и поэтому совершенно необходимые и незаменимые, оставляют совершенно незатронутыми его душу и воображение. (Разумеется, кроме народных мелодий, надо пользоваться множеством простейших мелодий Гайдна, Моцарта, Вебера, Чайковского, Глинки и других, не говоря уже об изумительных сборниках Шумана и Чайковского, специально посвященных детям и юношеству— на более высокой ступени развития — и имеющих чисто художественную ценность.).
Все, что я здесь говорю, старо, как сама музыка и ее изучение, — это всем известно. Я хочу только осветить некоторые детали вопроса, поставить точки над «и».
Все мы знаем, что развитие богатства и разнообразия фортепьянных приемов, их точности и тонкости, необходимых пианисту-художнику для передачи всего разнообразия реально существующей, неизмеримо богатой фортепьянной литературы, достижимо только посредством изучения именно самой этой литературы, то есть живой, конкретной музыки (Конечно, любой рассудительный пианист составит себе по мере надобности специальные технические упражнения для овладения особыми трудностями изучаемого стиля, автора или пьесы—таково требование правильного дедуктивного мышления).
Пока ребенок играет упражнение или этюд, какую-нибудь чисто инструктивную пьесу, лишенную художественного содержания, он может по желанию играть медленнее или скорее, громче или тише, делать или не делать нюансов, то есть в его исполнении неизбежна некоторая доля неопределенности и произвола, это будет игра «вообще», лишенная ясной целеустремленности (игра ради игры, а не ради музыки), игра, которую можно охарактеризовать так: «играю, что выходит» (часто это скорее то, что не выходит).
Для того, чтобы «выходило», чтобы эта инструментально-техническая работа (я хочу сказать: работа над овладением инструментом и тренировка двигательного аппарата) приносила действительно пользу, необходимо ставить ученику ясные и определенные цели и {17} неукоснительно добиваться полного их достижения, например: сыграть этюд или упражнение с такой-то, а не иной скоростью, с такой-то, а не меньшей и не большей силой; если цель этюда — развитие ровности звучания — не допускать ни одного случайного акцента, ни одного запаздывания или ускорения, если они случаются — тут же исправлять неточности и т. д., и т. д. (предполагается, что разумный педагог не будет ставить ученику неосуществимых задач).
Что же происходит, если ребенок играет не инструктивно-этюдную пьесу, а настоящее художественное произведение, пусть даже простейшее? Во-первых, его эмоциональное состояние будет совершенно иное, повышенное по сравнению с тем, какое бывает при разучивании «полезных» упражнений и сухих этюдов (а это решающий момент в работе). Во-вторых, ему с гораздо большей легкостью можно будет внушить — ибо его собственное понимание будет идти этому внушению навстречу,— каким звуком, в каком темпе, с какими нюансами, с какими замедлениями и ускорениями (буде они оправданы в данной пьесе) и, следовательно, какими «игровыми» приемами надо будет исполнять данное произведение, чтобы оно прозвучало ясно, осмысленно и выразительно, то есть — адекватно своему содержанию. Эта работа, работа ребенка над музыкально-художественно-поэтическим произведением (то есть над художественным образом и воплощением его в фортепьянном звучании) будет в зародышевой форме той работой—богатой, целеустремленной, направленной, точной и разнообразной в отношении приемов,— о которой я говорил выше, характеризуя занятия зрелого пианиста-художника.
***
Я думаю, что нетрудно угадать, к чему ведут мои размышления о столь известных, может быть, даже набивших оскомину предметах. Я призываю к тому, чтобы по возможности прямолинейно, не сбиваясь с пути и не слишком задерживаясь на его этапах, стремиться к Цели, а цель эта — художественное исполнение {18} художественной музыкальной литературы, воскрешение к жизни звука немой нотной записи.
Здесь я скажу несколько слов о знаменитом пианисте Л. Годовском.
Л. Годовский, мой несравненный учитель, один из великих пианистов-виртуозов послерубинштейновской эпохи, как-то говорил нам в классе, что никогда не учил гамм (и, конечно, это так и было), а играл он их с таким блеском, ровностью, быстротой и красотой звучания, что я, пожалуй, лучшего и не слышал. Он играл наилучшим образом гаммы, которые попадались в пьесах, и таким образом научился идеально играть «гамму, как таковую» (Обращаю внимание: это дедукция, вместо гораздо более обыкновенной и общепринятой, но гораздо менее достоверной и надежной индукции — сперва выучить «гамму, как таковую», а потом уже играть ее в пьесе.).
Маленькая, но значительная подробность.
В чем состоял педагогический метод Годовского? Как известно, он слыл «волшебником техники» (ein Hexenmeister der Technik — таково было единодушное мнение немецкой и мировой критики), а потому многочисленные молодые пианисты всех стран стремились к нему, главным образом, в надежде получить рецепт для достижения «виртуозной техники». Но, увы!
Годовский почти ни слова не говорил о технике в том смысле, как ее понимали эти молодые люди; все его замечания во время урока были исключительно направлены на музыку, на исправление музыкальных недочетов исполнения, на достижение максимальной логики, точности слуха, ясности, пластики на основе точнейшего соблюдения нотного текста и пространного толкования его.
Больше всего он уважал в своем классе настоящих музыкантов и относился с явной иронией к пианистам, у которых пальцы работали быстро и ловко, а мозги — медленно и туго (таких было несколько человек в мое время). Он терял моментально всякий интерес к ученику, который обнаруживал слуховые недочеты, заучивал грубо-неверные ноты и проявлял дурной вкус.
Так, однажды на первом же уроке «провалилась» одна уже {19} концертирующая пианистка только потому, что в предпоследнем такте
седьмого (до-мажорного) этюда ор. 10 Шопена брала лишнюю ноту (терцию) в левой руке, а именно:

вместо правильного:

На повторные просьбы Годовского сыграть верный аккорд, она никак не могла понять, что от нее требуется. N. удивленно пожимала плечами и уверяла, что играет «чисто». После урока Годовский, уже в коридоре, спросил меня с убийственно-иронической усмешкой: «как вам нравится известная пианистка N?» (Как и следовало ожидать, N. впоследствии оказалась довольно-таки слабой пианисткой, но сильной истеричкой).
Все высказывания Годовского о методике игры обычно сводились к нескольким скупым словам о Gewichtsspiel («весовой игре») и vollständige Freiheit (полной свободе).
Что и говорить: sapienti sat (для мудреца достаточно). Впрочем, раза два-три он рекомендовал некоторым ученикам поработать над восьмым фа-минорным этюдом Клементи (ред. Таузига) 33 способами, которые кратко демонстрировал. Понятно, он полагал, что ученики, интересующиеся не только виртуозной техникой вообще, но именно его (неслыханными) достижениями, должны были быть знакомы с его обработками, в особенности же с его «50 Chopin-Studien», 50-ю обработками этюдов Шопена (некоторые совершенно трансцендентной трудности и несравненные по музыкальному остроумию и комбинаторскому гению), обработками, в которых не только нотный текст, но и примечания к нему представляют исчерпывающую школу современной виртуозной техники, конечно, в стиле Годовского.
Понятно, знаменитые эти обработки этюдов являются страшным снижением художественного уровня подлинника: гениальные фортепьянные поэмы, всесильное средство изучения музыки и фортепьяно, скромно именуемые этюдами, Годовский превратил в настоящие этюды, только этюды, отняв таким образом у понятия «этюд» тот высший художественно-поэтический смысл, который придали ему Шопен (прежде всего), Лист, Скрябин, Рахманинов, Дебюсси, но поиграйте-ка этюды Годовского...
{20} Повторяю, во время урока Годовский был не учителем игры на фортепьяно, а, прежде всего учителем музыки, то есть тем самым, кем бывает неизбежно каждый настоящий художник, музыкант, пианист, как только он становится педагогом.
Я думаю, что всякому понятно, почему я в данном контексте вкратце обрисовал педагогический метод Годовского.
***
Да не обвинят меня в нескромности, если я сейчас расскажу немного о себе; ведь для всякого мыслящего человека «я» есть не только субъект, но в то же время один из объектов познаний действительного мира, правда, немного своеобразный объект, к которому отнестись с должной «объективностью» бывает труднее, чем ко всякому другому объекту. Расскажу о себе в связи с вопросом о «работе над художественным образом».
Музыкой я заражен с самого раннего детства, музыкальная бацилла свирепствовала и в семье моего отца, и в семье матери (оба были учителями музыки, то есть фортепьянной игры в провинциальном городе Елисаветграде, ныне — Кировоград).
С детства, раньше, чем я себя помню, я слышал музыку, причем слышал невероятное количество сквернейшей музыки благодаря урокам родителей (девять десятых учеников были самые обыкновенные музыкально неспособные дети, учившиеся музыке, как любой грамоте), а действительно хорошей, первоклассной музыки почти не слышал. «Питательная среда» для моих способностей была более чем мизерная.
Самым большим музыкальным и семейным событием были приезды из Петербурга дяди, Феликса Михайловича Блуменфельда, брата матери. Никогда не забуду, как совсем ребенком еще я .слушал целыми вечерами до глубокой ночи (во время его пребывания разрешалось ложиться спать очень поздно) его великолепную игру. Играл он массу фортепьянных произведений, особенно Шопена, Шумана, Листа, свои сочинения, Глазунова, Балакирева, Лядова, но больше всего во мне {21} запечатлелись тогда некоторые оперы Вагнера — «Мейстерзингеры», «Тристан и Изольда», «Зигфрид»,— которые он играл целиком в один вечер, от доски до доски, к великому нашему восторгу.
Благодаря ему я тоже впервые услышал «Пиковую даму», «Бориса Годунова», оперы Римского-Корсакова. Конечно, и сестра и я должны были ему играть и выслушивали благоговейно его замечания. Незабываемые, блаженные дни! Жизнь казалась праздником, с утра до ночи нас не покидало ощущение радости и счастья!
Но, увы, это случалось не чаще, чем раз в три-четыре года, я длилось не больше недели-двух. А потом наступали опять будни, которые надо было заполнять и оживлять уже собственными силами.
Когда мне было лет восемь или девять, я стал сперва понемногу, а потом все больше и, чем дальше, тем с большим азартом импровизировать на рояле. Иногда (это было немного позднее) я доходил до полной одержимости: не успевал проснуться, как уже слышал внутри себя музыку, свою музыку, и так почти весь день. Но я почему-то скрывал это (особенно от отца) и импровизировал на рояле только в те часы, когда родителей, не было дома (позднее нас с сестрой пощадили, и мы уже реже слышали ученическое ковырянье, зато больше сами стали заниматься).
Помню, как сейчас, что когда я шел на урок к дяде и тете Пржишиховским (у которых учился математике, истории, географии и французскому языку), я иногда буквально задыхался от наполнявшей мою голову музыки: когда внутри «пелось» какое-нибудь торжественное адажио, я шел медленно и важно, когда же начиналось Allegro con fuoco или Presto furioso, я несся галопом по пустынным переулкам, а за мной с яростным лаем неслись разноцветные дворняжки, пулей вылетавшие из подворотен.
Это было незабываемо счастливое, восторженное время, длившееся, конечно, со всякими перипетиями, «небывалыми» взлетами и падениями («himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt») — приблизительно до 16—17 лет, когда я окончательно «запер свой ящик и ключ бросил в море», отказался от собственной музыки и занялся только чужой.
Начался страшный кризис, тянувшийся несколько лет, {22} тяжелое, больное время. Я как бы упал с неба на землю и чуть не разбился, я очень медленно выздоравливал. Впоследствии я прошел полный курс теории и композиции у профессора Павла Федоровича Юона (Ученик С. И Танеева и брат нашего известного художника К. Ф. Юона.) в Берлине.
Он считал меня чрезвычайно одаренным, настойчиво уговаривал отдаться композиции, но я остался верен своему решению, о причинах которого здесь говорить не хочу. Забавно, что после нескольких уроков, когда я принес своему профессору некоторые сочинения, сложные каноны и фуги в современном стиле, сонатину в классическом духе, формально очень стройную, но безличную, так как писал я скорее для упражнения, чем «из вдохновения», две-три песни и фортепьянные мелочи, — все это, помимо школьных задач, — забавно,, говорю я, что Юон, услыхав все это, сказал мне: «В сущности вы знаете все, чему я вас могу научить. Но если хотите, для гимнастики ума займемся строгим контрапунктом, это всегда полезно». Я согласился и десять месяцев беспрерывно писал: кроме упражнений, мотеты, мадригалы, даже одну пьесу на 12 голосов в строгом стиле на латинский текст.
В пианистической работе я с двенадцатилетнего возраста был, в сущности, предоставлен самому себе. Как это часто бывает в семьях учителей, родители были так заняты (буквально с утра до позднего вечера) учениками, что для собственных детей почти не имели свободного времени. И это несмотря на то, что они со свойственным всем родителям пристрастием были чрезвычайно высокого мнения о моем даровании (я сам был гораздо трезвее, всегда знал массу недостатков за собой, хотя временами и чувствовал в себе нечто «не совсем обычное»). Но об этом я уже говорить не буду: меня знают, как пианиста, знают мои хорошие и дурные стороны, и никому не может быть интересен мой «доисторический период». Скажу только, что благодаря этой ранней «самостоятельности», я наделал массу глупостей, которых мог бы прекрасно избежать, если бы еще годика 3—4 находился под {23} бдительным надзором опытного, умного музыканта-педагога. (Насколько лучше положение нынешних детей, учащихся в детских музыкальных школах, особенно в ЦМШ! Я мог бы об этом рассказать длинную повесть.)
Мне не хватало того, что называют школой, дисциплиной. Однако нет худа без добра: моя вынужденная самостоятельность заставила меня, хотя подчас и извилистыми путями, дойти до многого собственным умом, и даже самые мои неудачи и заблуждения впоследствии часто оказывались поучительными и полезными, а в таком деле, как занятие искусством, где индивидуальность решает, если не все, то почти все, единственной прочной базой всегда будет добытое собственными силами и на собственном опыте изведанное.
Мне хотелось, да простит мне читатель, эту автобиографическую справку привести как раз здесь, в главе о художественном образе. Думаю, что это пояснит читателю, почему мне трудно бывает говорить о работе над художественным образом вне общего комплекса музыки и работы пианиста. Конечно, я, как профессионал, эту дифференциацию часто осуществлял, особенно когда стал уже старше и сознательнее; как и всякий другой, я подолгу иногда повторял не только технически особенно трудные места, но также какую-нибудь простейшую фразу (например, из мазурки Шопена, сонаты Моцарта) с целью возможно более яркого воплощения музыкально-художественного замысла.
** *
Выше я говорил, как происходит «ознакомление с произведением» у подлинно крупного музыканта. Очевидно, здесь мгновенно и подсознательно проделывается громадная «работа над художественным образом», об этом ясно говорит его исполнение. (Чтобы не было путаницы в понятиях, замечу, что бывают часто «мастаки», которые безошибочно могут прочесть с листа без одной запинки или фальшивой ноты самые сложные произведения, но исполнение при этом бывает самое обыкновенное, даже дрянное. Этот случай не следует смешивать с Рихтером, у которого поражает как раз совершенство {24} исполнения.)
Нам известны подвиги Листа: например, он однажды с листа чудесно сыграл перед аудиторией Карнавал Шумана (Но нет роз без шипов: Клара Шуман говорит, что у нее на квартире Лист отвратительно сыграл с листа квинтет ее мужа, и только вежливость не позволила ей выйти возмущенно из комнаты. Впрочем, не надо забывать, что Клара далеко не беспристрастно относилась к великому Францу.).
Я привожу эти факты «молниеносного» овладения музыкой (а следовательно, и «художественным образом»), которые мог бы произвольно умножить на основе проверенных свидетельств о многих крупных музыкантах, не для того, чтобы еще раз говорить об их «гениальности», слишком всем известной, но для того, чтобы задаться вопросом: что же тут, собственно, происходит, какие педагогические и методические выводы можно сделать из этих реальных явлений на пользу середняку, на пользу всем учащимся.
Полагаю, что, несмотря на таинственность «гениального дарования», оно поддается не только описанию, но также исследованию и анализу. У педагогов нашей профессии очень распространено мнение, что средний ученик ни в коем случае не должен подражать большому таланту: quod licet Jovi non licet bovi (что подобает Юпитеру, не подобает быку). Подражать, тем более глупо подражать (а это—явление довольно распространенное), конечно, только вредно, но учиться (А в это понятие входит подчинение, уподобление, следовательно, и некоторое подражание), у того, кто больше умеет и больше знает, — всегда полезно. Кажется, ясно.
Каждый педагог по опыту знает, как сильнейшие ученики «подтягивают» более слабых; это соревнование возникает непосредственно и стихийно, но вместе с тем, благодаря честолюбию,—сознательно. Наши методические рассуждения должны помочь ему, но не тормозить его. И поэтому я считаю, что для педагогики не только не вредно (даже имея дело с самым посредственным учеником), но, наоборот, чрезвычайно плодотворно ни на минуту не забывать о тех вершинах музыкальной одаренности, которые—хотим мы этого или нет—предопределяют ход развития музыки и музыкальной жизни, в том числе и {25} наших повседневных педагогических усилий. Короче, я полагаю (да не упрекнут меня в беспочвенном оптимизме), что, стараясь в меру сил проникнуть в «механику» крупнейшего дарования, мы извлечем всегда что-нибудь полезное и применимое даже для самого среднего ученика. Исходя из этого, впрочем, совершенно интуитивного убеждения, я в своей педагогической практике никогда не приспосабливал произведения к ученику, а всегда лишь старался приспособить ученика к произведению, чего бы ему, да и мне, это ни стоило.
В моем уме, в моей душе живет какое-то представление, скажем, о Бетховене; я его люблю, я его боготворю, я его переживаю, как значительнейшее событие моей жизни, я чувствую и знаю, что он выразил то-то и то-то, создал нечто, чего до него никогда не было, и знаю, в меру моих способностей, что это надо передать так-то и так-то, могу ли я отказаться от этого ярчайшего, реальнейшего образа и видения, могу ли я идти на какие бы то ни было уступки и компромиссы в угоду слабосильному ученику?— Никогда.
Это означало бы не уважать ни себя, ни ученика. Мне не раз намекали педагоги, слышавшие мои занятия, что это своего рода донкихотство,— все равно, мол, никогда «не получится» то, чего я хочу, ученику (данному) это не под силу. «Милые коммерсанты», — отвечал я им,—«вы хотите 100-процентных прибылей, а я буду рад-радехонек, если получится 10%» (Здесь нет никакого противоречия с вышесказанным: я ни в коем случае не могу снизить своих требований, хотя прекрасно знаю, что результаты бывают совершенно различные.).
Таков неизбежно «оптимистический скептицизм» опытного педагога. Смысл и плодотворность этого рода занятий состоит, как понятно всякому, в том, что ученику дается очень яркая, высокая и трудная цель (в связи с его возможностями и представлением), которая определяет направление и интенсивность работы — единственный залог развития и роста. И я хорошо знаю, что эти 10% дают иногда гораздо более богатые всходы, чем 100% «хрестоматийного глянца», который, вопреки Маяковскому и мне, грешному, до сих пор еще кое-кем ценится превыше всего (Нередко интенсивность и требовательность моих занятий уступают место более спокойному модусу; это бывает особенно со старыми, уже испытанными учениками, а иногда вследствие переутомления от огромной нагрузки.).
{26}
* * *
Итак, чем ниже музыкально-художественный уровень, то есть данные интеллекта, воображения, слуха (!), темперамента и т. д., а также чисто технические способности ученика, тем большую, тем более сложную проблему представляет для него и его педагога так называемая «работа над художественным образом», то есть тем труднее добиться от него художественно удовлетворительного, заинтересовывающего, волнующего и захватывающего исполнения, даже если он владеет хорошей техникой исполнения, дающего пищу и уму и сердцу.
А ведь если этого нет, то вообще исполнять — для кого-то — не стоит; вот тут, кстати, источник вздохов Антона Рубинштейна: «все умеют играть» — читайте между строк: все умеют играть, а мало кто умеет исполнять. Я не говорю о пианистах, подобных Рахманинову.
Даже я, грешный, при первом знакомстве схватываю сущность любого произведения, и разница между этим первым «схватыванием» и исполнением в результате выучивания вещи заключается только в том, что (выражаясь по-старинному) «дух облекается плотью», — все, что предопределено представлением, чувством, внутренним слухом, пониманием (эстетически-интеллектуальным), становится исполнением, становится фортепьянной игрой. Я не хочу этим сказать, что работа над произведением ничего не прибавляет к первоначальному его восприятию и замыслу,—отнюдь нет!! Отношение между этими двумя явлениями такое же, как между законом и его проведением в жизнь, между волевым решением и его реальным осуществлением. Я хочу только сказать, что если нет «закона», если нет в о л и, то нет и реальности, нет воплощения. Здесь узловой пункт, на этот центр должен воздействовать педагог, руководитель, воспитатель; понятно, что в случаях, когда ученик полон этой творческой воли, роль педагога сводится только к роли советчика и старшего коллеги. Иногда даже рекомендуется полное невмешательство, дружеский нейтралитет.
{27} Вывод из всех моих соображений напрашивается сам собой: достигнуть успехов в работе над «художественным образом» можно лишь непрерывно развивая ученика музыкально, интеллектуально, артистически, а следовательно и пианистически, иначе воплощения-то не будет! А это значит: развивать его слуховые данные, широко знакомить его с музыкальной литературой, заставлять его подолгу вживаться в одного автора (ученик, который знает пять сонат Бетховена, не тот, который знает двадцать пять сонат, здесь количество переходит в качество), заставлять его для развития воображения и слуха выучивать вещи наизусть только по нотам, не прибегая к роялю; с детства научить его разбираться в форме, тематическом материале, гармонической и полифонической структуре исполняемого произведения (мое неукоснительное требование: если талантливый ученик лет в 9—10 может хорошо сыграть сонату Моцарта или Бетховена, он должен суметь рассказать, словами рассказать многое существенное, что в этой сонате происходит с точки зрения музыкально-теоретического анализа); возбуждать—если это нужно, то есть не заложено в самом ученике — всячески его профессиональное честолюбие: равняться на лучших; развивать его фантазию удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями с явлениями природы и жизни, особенно душевной, эмоциональной жизни, дополнять и толковать музыкальную речь произведения (но не дай бог впасть в пошлое «иллюстрирование»), всемерно развивать в нем любовь к другим искусствам, особенно к поэзии и живописи, а главное — дать ему почувствовать (и чем раньше, тем лучше) этическое достоинство художника, его обязанности, его ответственность и его права.
***
Прочитав до сих пор эту главу, читатель, пожалуй, скажет: «Что же, ничего конкретного о работе над образом он так и не сказал». Отвечу на это: «Приходите в класс, посидите в нем месяц-другой, и вы получите такую порцию конкретного, что вам ее хватит надолго».
{28} Чтобы придать этим запискам желательную конкретность, я должен был бы снабдить их бесчисленными нотными примерами, развернутыми описаниями того, как проходила работа с учеником или с разными учениками над тем или иным произведением (ведь бывает, что мы сидим с учеником 1½ —2 часа над одной страницей текста; это происходит обычно в начале моих занятий с учеником), но тогда эта глава разрослась бы до размеров толстенного тома. Я даже не могу привести здесь и малой доли тех советов, которые даю ученику для изучения произведения и овладения им: эти советы, понятно, предшествуют созданию «художественного образа». Но два-три совета приведу.
Я предлагаю ученику изучать фортепьянное произведение, его нотную запись, как дирижер изучает партитуру — не только в целом (это прежде всего, иначе не получится целостного впечатления, цельного образа), но и в деталях, разлагая сочинение на его составные части — гармоническую структуру, полифоническую, отдельно просмотреть главное — например, мелодическую линию, «второстепенное» — например, аккомпанемент, особенно внимательно остановиться на решающих «поворотах» сочинения, например (если это соната), на переходе ко второй теме (побочной) или к репризе, или к коде, в общем — на основных вехах формальной структуры и т. д.
При такой работе ученику открываются удивительные вещи, нераспознанные сразу красоты, которыми изобилуют произведения великих композиторов. Кроме того, он начинает понимать, что сочинение, прекрасное в целом, прекрасно в каждой своей детали, что каждая «подробность» имеет смысл, логику, выразительность, ибо она является органической частицей целого. Такую работу я рекомендую проводить гораздо усерднее, чем общепризнанную работу отдельно левой и правой рукой, которую допускаю в некоторых особых случаях,—она нужна так же, как нужны «запасные выходы» в здании на случай пожара или других неприятностей (Конечно, бывают ученики, которым я усиленно рекомендую работу каждой рукой отдельно — «запасный выход» надо использовать,—но наряду с выполнением указанной работы.).
{29} Если произведение уже изучено, усвоено, выучено наизусть, в общем, как говорится на ученическом жаргоне: «выходит» или «получается», то в чем же будет состоять та особенная работа, которая может придать исполнению настоящую художественную ценность; что сделать, чтобы это исполнение было затрагивающим, волнующим, интересным, доходчивым. (Напоминаю в третий или четвертый раз, что одним это дается сразу, другие же должны добиваться этого в меру сил и возможностей.) Знаю, мне ответят: это дело таланта, одни это могут, другие нет,— вот и все. Пока я педагог, я буду затыкать уши, чтобы не слышать этого голоса, «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман».
Итак, что же нужно исполнителю, чтобы «глаголом жечь сердца людей», ну, если не жечь, то хотя бы разогреть, расшевелить немного?..
Одни говорят: терпение и труд; другие — страдания и лишения; третьи — самопожертвование и многое, многое еще. Все это верно, все это входит неизбежно в биографию человека, которому есть о чем повествовать другим, но я сейчас не хочу заглядывать так далеко, не хочу заниматься «психологией».
Наше дело маленькое (и очень большое в то же время) — играть так нашу изумительную, чудесную фортепьянную литературу, чтобы она нравилась слушателю, чтобы она трогала, чтобы она доставляла радость, чтобы она заставляла сильнее любить жизнь, сильнее чувствовать, сильнее желать, глубже понимать...
Конечно, всякий знает, что педагогика, ставящая себе такие цели, перестает быть только педагогикой, но становится воспитанием. А ведь она не всегда бывает такой, даже у выдающихся педагогов. Как ни изумителен, неподражаем был Годовский, он занимался с некоторыми учениками (особенно с частными, которые платили ему тем больше денег, чем меньше у них было таланта) абсолютно формально, чтобы не сказать формалистично.
Урок часто ограничивался тем, что Годовский рисовал в тексте несколько динамических и агогических знаков, расставлял две-три аппликатуры, делал несколько замечаний, похожих на рецепты, и задавал следующий урок. Его неизменное бесстрастие и холодная деловитость {30} были при этом непоколебимы. Никакого желания заглянуть поглубже в душу ученика, переделать его (расшевелить его скучные потроха), поставить перед ним какие-нибудь трудные художественные и эмоциональные задачи — ничего этого и в помине не было. Он не проявлял ни радости, ни огорчения, ни гнева, ни одобрения, только временами, когда ученик играл слишком уж неинтересно или неумно, отпускал ироническое замечание или не лишенную яда шутку.
Но авторитет и престиж его были так велики, что и такой урок ученик воспринимал как нечто значительное и драгоценное. Не was grеаt to-day (он был велик сегодня!)—воскликнул восторженный американец после того, как Годовский проставлял ему две аппликатуры и провожал с милой шуткой до дверей прихожей.
Правда, на уроках в Meisterschule, где присутствовало много народу (8—9 человек «играющих», то есть настоящих Meisterschüle’ров и человек 20 Hospitanten, вольнослушателей, имевших только право присутствовать в классе, но не игравших) и где были настоящие талантливые люди, он был совсем другой. Но старания «раскрепостить атомную энергию» в ученике, или чего-нибудь подобного, я в нем никогда не замечал; очевидно, он втайне — и тут нельзя ему отказать в известной мудрости — не очень-то верил во всемогущество педагогики.
При всем моем бесконечном уважении к Годовскому, великому мастеру, думаю, что преподавать так, как он это иногда делал, сейчас в нашей стране невозможно (имею в виду, конечно, крупного педагога-музыканта, того, кому «дано знать») (Да простит мне мой несравненный покойный учитель, что я критикую; критикую не я—наше время критикует.).
Я думаю, что задача укрепить и развить талантливость ученика, а не только научить «хорошо играть», то есть сделать его более умным, более чутким, более честным, более справедливым, более стойким (продолжать не буду!) — есть реальная, если и не вполне осуществимая, то диктуемая законом нашего времени и самого искусства в любое время диалектически оправданная задача.
{31}
* * *
В сущности я все это уже сказал, когда говорил о «10% прибыли», которые меня устраивают, но мне хотелось высказаться яснее. Возвращаясь к поставленному вопросу: как заставить и можно ли заставить ученика, «играющего хорошо» (Кавычки означают, что он играет не очень хорошо.), играть, как художник, то есть заразительно, «доходчиво», «необыкновенно» (в смысле отличия от среднего стандарта) и т. д.— я отвечу: да, можно, до некоторой степени можно, временами можно от него добиться исключительных результатов; вспомним великолепное рассуждение Станиславского об артистах, которые бывают гениальны по «двунадесятым праздникам»,—ведь лучше по двунадесятым, чем никогда! Средство? Воздействие не только интеллектуальное, но и эмоциональное!
Талант есть страсть плюс интеллект. Главная ошибка большинства «методистов от искусства» состоит в том, что они понимают только интеллектуальную, вернее, рассудочную сторону художественного «действия», и стараются на нее только влиять своими умозрительными советами и рассуждениями, забывая совершенно о другой стороне—этот неудобный «икс» они просто сбрасывают со счетов, не зная, что с ним делать. Потому так пуста всякая методика (по крайней мере, такой она была до сих пор), потому-то она неизбежно вызывает ироническую улыбку у действительно знающих, у людей активного художественного труда.
Одним из моих главных требований для достижения художественной красоты исполнения является требование простоты и естественности выражения. Эти два словечка, столь знакомые и понятные с виду, я должен был расшифровать, ибо они сложны и многозначительны; но это заняло бы опять несколько страниц, поэтому умолкаю, в надежде, что читатель сам их разовьет и почувствует их огромное решающее значение, когда они применяются на деле.
Вся работа, протекающая у меня в классе, есть посильная работа над музыкой и ее воплощением в {32} фортепьянной игре, другими словами — над «художественным образом» и фортепьянной техникой. Никуда не годится тот педагог, будь он хоть семи пядей во лбу, который удовлетворяется рассказами об «образе», о «содержании», о «настроении», об «идее», о «поэзии» и не добивается конкретнейшего, материального воплощения своих высказываний и внушений в звуке, фразе, нюансировке, совершенной фортепьянной технике. Также никуда не годится педагог, который видит ясно одну лишь фортепьянную игру, фортепьянную «технику», а о музыке, ее смысле и ее закономерностях имеет лишь смутное представление.
Чтобы дать все-таки конкретный пример нашей работы в классе над «художественным образом» плюс музыкой, плюс фортепьянной техникой, опишу подробно занятия с учеником, играющим сонату Бетховена cis-moll Quasi una phantasia op. 27. Одной странички бетховенского текста вполне достаточно, чтобы читатель составил себе ясное представление о том, как протекает подобная работа над любым фортепьянным сочинением.
Итак, ученик играет так называемую Лунную сонату.
Особенно сложные задачи ставит обычно вторая часть, Allegretto Dеs-dur, и понятно почему: первая часть — выражение глубочайшей скорби и третья — отчаяния (disperato)—более ясны и определенны, более сильны в своей потрясающей выразительности, чем зыбкое, «скромное», утонченное и одновременно страшно простое, почти невесомое Allegretto. «Утешительное» настроение (в духе Consolation) второй части у недостаточно чутких учеников легко переходит в увеселительное scherzando, в корне противоречащее смыслу произведения. Виной этому слишком сухое staccato, а также слишком быстрый темп:

{33} Я слышал десятки, если не сотни раз такую трактовку. В таких случаях я обычно напоминаю ученику крылатое словцо Листа об этом Allegretto: «une fleur entre deux abîmes» («цветок между двумя безднами») и стараюсь ему доказать, что аллегория эта неслучайна (Ведь можно было сказать: улыбка среди потоков слез или что-нибудь подобное.), что она удивительно точно передает не только дух, но и форму сочинения, ибо первые такты мелодии:

напоминают поневоле раскрывающуюся чашечку цветка, а последующие (см. нота. пр. на стр. 32) — свисающие на стебле листья,
Прошу помнить, что я никогда не «иллюстрирую» музыку, то есть в данном случае я не говорю, что эта музыка есть цветок,—я говорю, что она может вызвать духовное, зрительное впечатление цветка, символизировать его, подсказать воображению образ цветка.
Всякая музыка есть только данная музыка, А=А, в силу того, что музыка — законченная речь, ясное высказывание, что она имеет определенный имманентный смысл, и поэтому для ее восприятия и понимания не нуждается ни в каких дополнительных словесных или изобразительных толкованиях и пояснениях.
Для ее понимания существует, как известно, целый ряд дисциплин: теория музыки, учение о гармонии, о контрапункте, о строении музыки (анализ форм)—дисциплины, вечно развивающиеся и разветвляющиеся, как всякий вид познания при наличии нового познаваемого. Но ведь у нас в мозгу работает некий «фотоэлемент» (думаю, что всякий знает об этом чудо-аппарате), умеющий переводить явления одного мира восприятий в другой.
Ведь синусоида, начерченная {34} на пленке, звучит! Неужели человеческий дух должен быть беднее и тупее им же созданного аппарата?! Вот почему для людей, одаренных творческим воображением, вся музыка целиком в одно и то же время и программна (так называемая чистая, беспрограммная музыка тоже!), и не нуждается ни в какой программе, ибо высказывает на своем языке до конца все свое содержание. Таковы «антиномии» в нашем искусстве. Вернемся к уроку. Бывало, фраза Листа—une fleur entre deux abîmes — внушала мне размышления о роли цветка в искусстве. Я приводил ученикам известные примеры из архитектуры, скульптуры и живописи. Я показывал музыкальные фразы и мотивы, в которых образ цветка в соответствии с характером музыки угадывался так же, как в бетховенском Allegretto. Ведь цветок живет и в музыке, как в других искусствах, ибо не только «переживание цветка», его запах, его поэтические чарующие свойства, но самая форма его, структура, цветок, как видение, как явление не может не найти своего воплощения в искусстве звука, ибо в нем находит воплощение и выражение все без исключения, что может испытать, пережить, продумать и прочувствовать человек.
Многим кажется парадоксом и вызывает даже презрительную усмешку, когда я, как музыкант, формулирую мое отношение к познанию—все познаваемое музыкально (Конечно, только для людей с «музыкальным слухом», остальных этот вопрос не касается.).
Мне возражали: разве можно сказать, что периодическая таблица Менделеева «музыкальна»? Конечно, периодическая таблица—химический закон, а соната Бетховена — музыка, воплощение музыкальных законов, А=А. Но разве не понятно, что периодическая таблица как открытие, как великий подвиг человеческого ума, как метод познания природы (с которой художники бывают иногда более тесно связаны, чем ученые, исследующие ее), далеко выходит за строгие границы химии, и постигший ее музыкант, если он обладает способностью к ассоциативным связям, к мышлению широкими аналогиями (не поддаваясь соблазну {35} легкомысленных дилетантских уподоблений,— тот же грех, что и «иллюстрирование»), такой музыкант не раз вспомнит о ней, углубляясь в бесконечные закономерности своего искусства (так бывало и со мной, когда мне было лет 16-17).
Но это еще не все! Власть музыки над человеческими умами (ее «вездесущность») была бы необъяснима, если бы не коренилась в самой природе человека. Ведь все, что мы делаем или думаем, безразлично, будет ли это самое пустячное действие или самое значительное, покупка ли картошки на рынке или изучение философии — все окрашено цветами некоего подсознательного эмоционального спектра, все без исключения обладает эмоциональными (подсознательными) обертонами, подчас, может быть, и незаметными для «действующего лица», но неизменно присутствующими и легко устанавливаемыми, когда на эти действия направлен глаз психолога.
Этого эмоционального признака (назовем его условно подсознательным состоянием духа) не лишены и самые рассудочные, самые с виду неэмоциональные действия, поступки и мысли. Тем более богато эмоциональным содержанием для мало-мальски мыслящего музыканта всякое познание — философия, морально-политический комплекс, чистая наука, естествознание и т. д., и т. п.
Не случайно же все крупные музыканты, композиторы и исполнители всегда отличались большим духовным кругозором, проявляли живейший интерес ко всем вопросам духовной жизни человечества. Правда, многие великие музыканты были настолько одержимы своим искусством, что почти не имели возможности (да и времени!) приобрести глубокие познания в других областях духовной жизни, но потенциальные данные для такого познания в них всегда были заложены.
Вспоминаю здесь замечательное высказывание Рахманинова: я на 85% музыкант, во мне только 15% человека (к этим словам мы еще вернемся впоследствии). То, что музыкант приобретает в познании, высказывается им в творчестве или исполнительстве. И поэтому я вправе высказать парадоксальную мысль: все познаваемое музыкально (конечно, для музыканта).
Или, точнее (и скучнее) — всякое познание есть в то же время переживание, следовательно, как всякое {36} переживание, оно становится уделом музыки, неизбежно входит в ее орбиту. Отсутствие подобных переживаний, а тем более всяких вообще переживаний, порождает бездушную формалистическую музыку и пустое, неинтересное исполнение. Все «нерастворимое», несказуемое, неизобразимое, что постоянно живет в душе человека, все «подсознательное» (часто это бывает «сверхсознательным») и есть царство музыки. Здесь ее истоки.
Вот почему можно говорить о философском содержании многих сочинений, особенно Баха, Бетховена и других (напоминаю хотя бы разговор Шопена с Делакруа о возможности выражения философских мыслей в музыке) .
* * *
Подобные беседы бывали у меня не раз с учениками в связи с попытками как можно глубже вникнуть в содержание произведения и с возникающим естественно стремлением исследовать границы выразительности музыки, все доступное ей.
Но если бы я ограничивался этими «приятными разговорами», возникшими в связи с известным музыкальным произведением и с определенными недостатками в игре учеников, то место мое было бы, пожалуй, на собраниях «Свободной эстетики» (Так называлась до революции некая ассоциация, посвящавшая свои собрания философским словопрениям об искусстве.), но не в 29-м классе Московской консерватории, где я преподаю. После таких или подобных разговоров начинается кропотливая работа над сочинением и преодолением его технических «трудностей»—вплоть до достижения желаемого результата.
Нечего и говорить, что чем ученик менее развит, тем больше бывает всяких разговоров, разъяснений, тем тщательнее и настойчивее и пианистическая работа. Бывали ученики, которым я говорил два-три слова об этом Allegretto. Но был случай — и я его твердо помню — когда я с учеником потратил три битых часа на изучение описанной выше странички бетховенского текста.
{37} (И все-таки мы успели только войти в переднюю, снять калоши, повесить пальто и поставить зонтик на место). Думаю, что этого достаточно, чтобы читатель имел представление о том, как протекает работа над «художественным образом» и разрешением пианистической задачи в лаборатории, именуемой «классом профессора Нейгауза».
В заключение скажу: тот, кто бывает до глубины души своей потрясен музыкой и работает, как одержимый, на своем инструменте, тот, кто страстно любит музыку и инструмент, тот овладеет виртуозной техникой, тот сумеет передать художественный образ произведения, и он будет исполнителем.
{38}
ГЛАВА II
КОЕ-ЧТО О РИТМЕ
Am Anfang war der Rhytmus»
H. v. Bulow.
Музыка есть звуковой процесс; именно как процесс, а не миг и не застывшее состояние, она протекает во времени. Отсюда простое логическое заключение: эти две категории—звук и время — являются основными и в деле овладения музыкой, исполнительского овладения, решающими, определяющими все остальное первоосновами.
О ритме (необходимой для искусства периодизации неограниченного времени) писалось очень много (и плохого, и хорошего), и я не намерен здесь углубляться в дебри этого сложного вопроса. Хочу только высказать кое-что о ритме в музыке как существеннейшем ее элементе.
Ритм музыкального произведения часто и не без основания сравнивают с пульсом живого организма. Не с качанием маятника, не с тиканием часов или стучанием метронома (все это метр, а не ритм), а с такими явлениями, как пульс, дыхание, волны моря, колыхание ржаного поля и т. п. (Понятие ритм я употребляю здесь в широком смысле, т. е. как обозначение равномерной расчлененности времени, метр я рассматриваю здесь как частный случай ритма—механическую равномерность.)
В музыке ритм и метр более всего становятся тождественными (но никогда до конца) в маршах, как шаг солдат предельно приближается к механическому, точному отстукиванию метра (равных {39} долей времени) (Также в пьесах характера perpetuum mobile, в токкатах и других.).
Пульс здорового человека бьется ровно но ускоряется или замедляется в связи с переживаниями (физическими или психическими) (Ритм = метру — приведение к нелепости: абсолютно метрический пульс мог бы быть только у мертвеца.). То же самое в музыке.
Но так же, как всякому здоровому организму свойственна ритмическая равномерность его жизненных отправлений, приближенная к метрической, так и при исполнении музыкального произведения ритм в общем должен больше приближаться к метру, чем к аритмии, больше походить на здоровый пульс, чем на запись сейсмографа во время землетрясения.
Одно из требований «здорового» ритма состоит в том, чтобы сумма ускорений и замедлений, вообще ритмических изменений в произведении, равнялась некоей постоянной, чтобы среднее арифметическое ритма (то есть время, нужное для исполнения произведения, деленное на единицу отсчета, например, четверть) было тоже постоянным и равным основной метрической длительности.
Интересен ритмический анализ записи поэмы Скрябина оp. 32 в исполнении автора: несмотря на очень большие темповые изменения — rubato — среднее арифметическое — длительность четверти—остается в точности равной указанному первоначально метроному. Мне часто приходится говорить ученикам, когда встречается место, требующее исполнения «rubato»: rubare значит по-итальянски «красть»,—если вы украдете время и не вернете его вскоре, то будете вором; если вы сперва ускорите темп, то впоследствии замедлите его; оставайтесь честным человеком—восстановите равновесие и гармонию (Кстати, rubato почти всегда означает вначале ускорение, passionato (в речитативах особенно) очень часто вначале требует замедления с последующим ускорением.).
Должен сознаться, что музыку (исполнение), лишенную ритмического стержня — логики времени и развития во времени — я воспринимаю только как музыкальный шум, музыкальная речь для меня исковеркана до неузнаваемости, просто утеряна. Нанизывание {40} несогласованных «мигов», судорожность движения напоминает судорожность, «катастрофичность» записи сейсмографа, а не величавые волны спокойного, колеблемого ветром моря.
Из двух зол — метричности и аритмичности исполнения — я предпочитаю первое. Но настоящее живое, прочувствованное художественное исполнение, конечно, одинаково далеко от того и другого. У некоторых исполнителей постоянные неоправданные замедления и ускорения, rubato в кавычках, вызывают впечатление еще большего однообразия и скуки, чем слишком метрическое исполнение, хотя исполнитель и стремится явно к разнообразию, к «интересному» исполнению. Тут время (ритм) мстит за совершаемые против него преступления, оно «периодизует» неритмичность, судорогу; судорога становится явлением хроническим, постоянным, «упорядоченным» — это судорога в квадрате.
Но как прекрасно настоящее rubato y больших художников! Здесь подлинное царство диалектики: чем больше пианист чувствует ритмическую структуру, тем свободнее, логичнее он временами уклоняется от нее и тем сильнее дает почувствовать ее господствующее, организующее начало.
Вспомните игру Рахманинова, Корто и некоторых других. Я думаю, что в ритме, как и во всем искусстве в целом, должна господствовать гармония, согласие, соподчинение и соотношение, высшее соответствие всех частей. Но что же такое гармония? Это прежде всего чувство целого. Гармоничен Парфенон, гармоничен Коломенский храм Вознесения, гармоничен чудовищно фантастичный Василий Блаженный, гармоничен «нелепый» Палаццо Дожей в Венеции, дисгармоничен дом № 14/16 на улице Чкалова, в котором я живу.
Очень трудно говорить о ритмической гармонии, хотя чрезвычайно легко непосредственно воспринять ее, она действует неотразимо. Когда она осуществлена в исполнении, ее ощущает буквально всякий.
Когда я слушаю Рихтера, очень часто моя рука начинает непроизвольно дирижировать: ритмическая стихия в его игре так сильна, ритм так логичен, организован, строг и свободен, настолько вытекает из целостной концепции произведения, что невозможно устоять против {41} искушения участвовать в нем жестом, хотя это участие и немного смешно и напоминает фаустовское «Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben». Строгость, согласованность, дисциплина, гармония, уверенность и властность—это и есть настоящая свобода! У такого, как Рихтер, два-три уклонения от ритма действуют сильнее, они выразительнее, осмысленнее, чем сотни «ритмических вольностей» у пианиста, не обладающего этой гармоничностью, этим чувством целого.
Служенье муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво.
Эти чудесные слова относятся также к ритму.
***
Расскажу немного о том, как протекает работа над ритмом (организацией времени) у нас в классе.
Плохо ли это, хорошо ли — не знаю, но я не могу не дирижировать (как если бы предо мной был оркестр), когда хочу ученику внушить должный ритм, темп, уклонения от него—ritard., accel., rubato и т. д.
Простым жестом — взмахом руки — можно иногда гораздо больше объяснить и показать, чем словами. Да это и не противоречит самой природе музыки, в которой всегда подспудно чувствуется движение, жест («работа мышц»), хореографическое начало. Я уже выше говорил, что понятие «п и а н и с т» включает для меня понятие «д и р и ж е р».
Дирижер этот, правда, скрытый, но, тем не менее, он — двигатель всего. Я настоятельно рекомендую ученикам при изучении произведения и для овладения важнейшей его стороной, ритмической структурой, то есть организацией временного процесса, поступать совершенно так же, как поступает дирижер с партитурой: поставить ноты на пюпитр и продирижировать вещь от начала до конца — так, как будто играет кто-то другой, воображаемый пианист, а дирижирующий внушает ему свою волю — свои темпы, прежде всего, плюс, конечно, все детали исполнения.
Этот прием, особенно необходимый для учеников, не обладающих достаточной способностью «организовать время», {42} рационален еще и потому, что он является прекрасным способом «разделения труда», облегчающим процесс овладения произведением.
Не осознав до конца темп и ритм сочинения как основы основ его (Вспомним остроумное (и умное) изречение Бюлова: библия музыканта начинается словами: «Вначале был ритм» («Am Anfang war der Rhytmus»), которые я и поставил эпиграфом к этой главе.), ученик часто—вследствие ли технических затруднений или по каким-нибудь другим причинам — меняет темп без всяких для этого музыкальных оснований (то есть он играет то, что «выходит», а не то, что он хочет и мыслит, и прежде всего — не то, чего хочет автор).
Даже такой огромный виртуоз, как Петри в вальсе из «Фауста» Гуно — Листа (да и в некоторых других сочинениях) играл октавные места вдруг медленнее, чем другие, хотя это вовсе не было вызвано музыкальной необходимостью, а только тем обстоятельством, что его октавная техника была слабее всей остальной, в чем он сам признавался. В этом случае он был строг к себе как пианист — надо, чтобы все вышло!— но недостаточно строг как музыкант и художник.
Короче говоря, я рекомендую организацию времени выделить из всего процесса изучения произведения, обособить ее, для того, чтобы легче и увереннее прийти с самим собой и с автором к полному согласию насчет ритма, темпа и всех их уклонений и изменений. Нечего и говорить, что предпосылкой такой работы является умение ученика слышать музыку внутренним слухом, не слыша ее физически, конкретно. Поэтому лучше проделывать этот опыт с музыкой уже знакомой, то есть разобранной на инструменте и хотя бы слегка подработанной.
Очень ясно сказывается «чувство времени» у разных пианистов, например, при чтении с листа в четыре руки. Только пианист, если дело не идет гладко, замедлит, остановится, поправится, повторит, музыкант же, чувствующий процесс, музыкальное Pávta pei (всё течет) скорее пропустит какую-нибудь деталь, чего-нибудь не доиграет (или не выиграет), но ни за что не {43} остановится не выскочит из ритма, как говорится — не собьется со счета.
Надо, впрочем, сказать, что навык имеет здесь огромное значение; хорошее чтение с листа — дело наживное, требующее не только таланта, но и упражнения и опыта. Решает здесь, конечно, интерес, любовь к музыке.
* * *
Нельзя не упомянуть о некоторых распространенных («типических») недочетах в области ритма и метра, заставляющих полагать, что есть более трудные и более легкие ритмы и метры.
Конечно, правильнее назвать все приводимые дальше ошибки метрическими, но, так как понятие метр входит как частный случай в понятие ритм, то можно, пожалуй, им пользоваться — в угоду общепринятому музыкальному жаргону.
1. Всем педагогам, да и многим дирижерам прекрасно известно, как трудно иногда бывает исполнителю точ-

Даже такой замечательный пианист, как Корто, играл последний номер Крейслерианы совсем откровенно на 2/4а не на 6/8. Может быть, это было умышленно? Может быть, Корто считал, что Шуман неправильно записал свою музыкальную мысль? Я лично не допускаю, чтобы можно было превращать трехдольный размер в двухдольный.
(В моей практике был памятный случай. Я играл с довольно слабым оркестром пятый концерт Бетховена. Фаготист никак не мог

Тогда я ему несколько раз спел на этих нотах Клем-перер, Клем-перер и Амс-тердам, с очень энергичным акцентом на первом слоге (широко известный дирижерский прием), и дело наладилось Конечно, я это сыграл также на рояле. Большую пользу для овладения этим ритмом музыканты могут также извлечь из названий различных мест рижского побережья Дзин-тари, Бол-дури, Ду-булты и т д.).
Желающим услышать этот ритм в идеальном исполнении, советую прослушать запись седьмой симфонии Бетховена под управлением Тосканини.
Если эта ритмическая фигура, особенно трудная в быстром темпе, никак не удается ученику, советую опять-таки прибегнуть к методу преувеличения (на этот раз ритмическому — агогическому, а не динамическому), остановиться побольше на первой доле, как бы сделать

{45} умышленно превращая шестнадцатую (восьмую) а форшлаг (опять преувеличение).
Да не подумает читатель, что я занимаюсь крохоборчеством; клянусь, что подобные упражнения мне приходилось проделывать с некоторыми учениками, и с положительным результатом.
Я нарочно так подробно остановился на этой маленькой ритмической детали. Указанный здесь способ преодоления трудности может быть применен к любой попутно возникающей ритмической проблеме (например, в первой части четвертой симфонии Чайковского).
 1Кстати акцент на первой восьмой здесь больше агогический, чем динамический (знак , но не ).
1Кстати акцент на первой восьмой здесь больше агогический, чем динамический (знак , но не ).
с «Клемперером», я и здесь иногда прибегаю к помощи слов и заставляю петь: ми-лая, но не мила-я, или ду-рочка, но не дуро-чка. (Должен сказать, что {46} второе «вспомогательное слово» обладает особенно сильным педагогическим воздействием).
2. К более примитивным метрическим ошибкам принадлежит практикуемое иногда учениками превращение

в трехдольник).
Лет 25 тому назад я слышал, как некий студент Московской консерватории играл траурный марш из сонаты b-moll Шопена в точности так:

{47} не замечая того, что он превращает величественное погребальное шествие в унылый вальс . (Для полноты картины следовало бы еще переделать левую руку следующим образом:
 ).
).
«Трехдольный соблазн» одолевает иногда учеников при исполнении Largo из сонаты h-moll Шопена (первая тема): вместо «марша для богов», вместо Аполлона Мусагета, шествующего впереди муз, мерещится скучненькая девица, выглядывающая из окна на скучненькую улицу и напевающая скучненький романсик. (Если преувеличиваю, то очень немного: бывают случаи, когда ритм решает все!) О «средствах оздоровления» говорить нечего — они слишком очевидны.
3. Еще один пример распространенной неточности, имеющий собственно к ритму косвенное отношение.
Как известно, малоразвитые ученики прибегают очень часто при усилении звука к ускорению темпа, при ослаблении его — к замедлению. Понятия crescendo и accellerando, diminuendo и ritardando ими отождествляются. Необходимо добиваться полного разграничения этих понятий и соответствующих действий! Crescendo—звук надвигается, приближается, растет, при diminuendo — звук удаляется, уменьшается, убывает.
В реальной музыке бывает столько же случаев «cresc. ma non acceler.», сколько и обратных: «cresc. ed accellerando». В большинстве случаев композиторами это точно указывается, но иногда только подразумевается, а так как смысл этих обоих случаев совершенно разный, то и надо особенно следить, чтобы не впасть тут в ошибку.
Естественно, что столь же часты случаи, когда изменение силы не должно сопровождаться никаким изменением темпа, и наоборот. Понятия morendo, smorzando etc. во многих случаях противоположны понятию rit. или rall., однако ученики любят их смешивать.
Обо всем этом я напоминаю именно здесь, в разделе {48} о ритме, потому что, чем глубже у играющего осознание временной структуры — «текучей архитектуры» — сочинения, тем реже он будет впадать в подобные ошибки.
4. Изменения темпа подчинены определенным закономерностям, хорошо известным хорошим дирижерам и часто неосознанным учениками. Например, всякое постепенное изменение темпа (rit., accell.), а также динамики (cresc., dim.), как правило (исключения здесь редки), не может начинаться с самого начала фразы (или такта), а непременно немного позже и лучше на слабой доле такта.
Несоблюдение этого правила превращает rit. в meno mosso, a accell. в più mosso, постепенность (росо а росо) заменяется внезапностью (subito).
Особенно трудно бывает избежать этой порочной внезапности, когда rit. или accell. распространяется на очень небольшой отрезок музыки (и времени). Я положил много труда за время моей педагогической работы, чтобы заставить некоторых учеников сыграть выразительно правильно такие короткие фразы, как, например, речитатив в конце первой баллады (g-moll) Шопена:

Этот трагический вопль, предшествующий окончательной катастрофе («крушению»), звучит почти комично, если играть его presto, а не accell. (я уже второй раз вспоминаю этот печальный случай). Фактически на этом коротком отрезке надо «успеть» сделать rit., accell., più accell.
Полагаю, не надо доказывать, что постепенность и внезапность имеют противоположное смысловое и эмоциональное значение, а поэтому смешивать их — значит допускать серьезную художественную погрешность.
{49}
5. Ферматы тоже требуют внимания к себе они часто толкуются неправильно Легче всего бывает установить длительности ферматы после riten., продолжая мысленно замедление на выдержанных под ферматой звуках, то есть, не умножая указаний длительности (и не отсчитывая единиц времени, например, четвертей, в основном темпе произведения, предшествовавшем замедлению), фермата, таким образом, является логическим завершением приводящего к ней rit. и piú rit. (ancora piú rit. геометрическая прогрессия), доводится до последнего предела звучания данного аккорда или ноты.
Это только один тип фермат. Ферматы, наступающие сразу, без предварительного замедления или ускорения, следует отсчитывать в основном нормальном темпе и только, смотря по надобности, удваивать выписанную под ферматой длительность, утраивать или даже учетверять ее. Кстати, очень важно различать, в каком месте (композиционно, структурно) произведения находится фермата: важный ли это «водораздел» или менее важный, то есть совпадает ли она с основными разделами формы или второстепенными.
Пример: в седьмой сонате Бетховена D-dur ор. 10 № 3 в первой части я рекомендую только удваивать первые две ферматы — до связующей партии, фермату же в конце разработки — доминантовый квинт-секстаккорд перед репризой выдержать 4 такта — в 4 раза дольше, чем написано, хотя автор во всех случаях нотирует под ферматой одинаковую длительность. Это подсказывается формально структурными соображениями Ферматы в четвертом такте последней части той же сонаты лучше всего исполнять так:

{50} (Как видите, этот случай противоречит правилу, указанному выше,—о фермате после ritardando).
Рекомендую желающим самим подыскать ряд подобных, а также иных фермат, и в каждом данном случае точно установить их продолжительность.
Не только ферматы, но и перерывы между частями многочастного произведения далеко не безразличны с точки зрения «музыкально-временной логики».
Каждый педагог, видавший виды, помнит, как иногда ученик, выступающий публично, то ли от волнения, то ли от деловитости, начинает, например, вторую часть (мрачное Adagio) сонаты, когда первая — веселое Allegro — еще как бы не успела отзвучать. Разные или противоположные настроения буквально «сшибаются лбами» от такой спешки.
Или, наоборот, играющий в подобном же случае впадает в тяжелое и длительное раздумье: перерыв между частями превращается в антракт — можно покурить или побеседовать с соседом.
Мой совет ученикам: тишину, перерывы, остановки, паузы (!) надо слышать, это тоже музыка! «Слушание музыки» ни на секунду не должно прекращаться! Тогда все будет убедительно и верно. Полезно также перерывы эти мысленно продирижировать.
6. Мне приходится часто повторять ученикам известную истину: исполнение только тогда может быть хорошим, художественным, когда все бесконечно разнообразные исполнительские средства мы согласуем полностью с сочинением, его смыслом, содержанием, прежде всего с его формальной структурой — архитектоникой, с самой композицией, с тем реальным организованным звуковым материалом, который мы должны «исполнительски обработать».
Об одном очень эгоцентричном исполнителе мне как-то сказали: «Он вносит много своего в сочинение». Совершенно верно, и уносит много авторского»,—сказал я. Как бы ни было верно утверждение Ферручио Бузони, что «всякое исполнение уже есть транскрипция», но транскрипция (как и перевод) может быть предельно близкой к оригиналу, «хорошей», или предельно удаленной от него, «плохой». Один из самых ходовых лозунгов в нашем классе гласит: да здравствует индивидуальность, долой индивидуализм!
{51} Самые порочные уклонения от авторского текста изамысла коренятся в «переосмысливании» (вернее, недоосмысливании) основного содержания произведения и в искажении его временной структуры (процесса). Ошибки исполнителя-музыканта в организации времени равносильны ошибкам зодчего в разрешении пространственных задач архитектурного построения. Всякому ясно, что эти ошибки принадлежат к числу самых крупных.
7. Есть дирижеры и пианисты, которым трудно установить правильный основной темп сочинения в самом начале. Неопределенность или ошибочность первоначально взятого темпа иногда кладет свой отпечаток на все произведение, иногда же темп выравнивается, входит в надлежащее русло, но цельность исполнения все равно уже утеряна.
С этим злом бороться трудно, но не невозможно. «Презренный метроном» тут может оказать некоторую помощь. Хорошо во время работы поэкспериментировать — установить путем неоднократных отклонений и вариантов первоначального темпа его пределы от самого медленного возможного до самого быстрого. Перед началом исполнения хорошо мысленно сопоставить первоначальный темп с каким-нибудь местом в дальнейшем развитии сочинения. Особенно важно (и я это часто советую ученикам) перед началом какого-нибудь широкого Adagio или Largo — а почему-то ошибки и просчеты здесь встречаются особенно часто — мысленно пропеть это начало в темпе, осознанном как наиболее подходящий и верный, — для того, чтобы перед началом исполнения уже почувствовать себя в нужной ритмической среде. Доля случайности и приблизительности в установлении первоначального темпа этим способом значительно ограничивается.
Но нечего скрывать, что главная причина этой темповой неопределенности лежит, грубо говоря, в недостаточной «артистичности» исполнителя, в недостаточной его чуткости к настроению, замыслу, эмоциональному содержанию музыки. А посему учитель в таких случаях, как и во всех «серьезных» случаях вообще, должен опять и опять прибегнуть к «панацее»: воздействовать на душевные качества ученика, будить его {52} воображение, впечатлительность, заставлять его чувствовать, мыслить и переживать искусство как самое реальное, самое несомненное ens entium жизни.
8. Полное овладение полиритмией — дело столь же сложное, как и полное овладение полифонией. Здесь — время, там — звук, — трудности аналогичные. Я мог бы привести огромный список отдельных мест, которые в отношении полиритмии представляют изрядные трудности для учащихся. Ограничусь некоторыми примерами и приведу несколько советов, которые считаю полезными.
Ясно, что только простейшие случаи полиритмии допускают «арифметический» подход к ним, например, 2 на 3 (совпадение дуолей и триолей). Общий знаменатель дробей 1/2 и 1/3 — 6.
Нетрудно точно высчитать (кому это не дается сразу), когда нужно взять ноту. Но уже при следующей задаче: сыграть правильно 3 на 4 и добиться точной длительности 1/3 и 1/4 арифметический способ не годится: не станете же вы, прибегая к общему знаменателю 12, высчитывать, что каждая нота квартоли попадает на числа отсчета: 1, 4, 7, 10, а триоли на числа: 1, 5, 9. Это неудобно, громоздко и глупо.
(Я вспоминаю только один случай, где такой отсчет, ради курьеза, можно с полным правом произвести: это первая тема второй части второго концерта Рахманинова:

Общий знаменатель 12 в триолях восьмыми поможет малосообразительному ученику преодолеть эту ритмическую задачу.).
Полная непригодность «арифметического способа» становится сразу очевидной в случаях, когда нужно одновременно ровно сыграть (уложить в одну единицу времени) 11 и 7, 5 и 9, 17 и 4 и т. д., а такие случаи ведь очень часты, особенно у Скрябина. Даже столь обычное у Лядова и Скрябина совпадение триолей и квинтолей уже не допускает арифметического высчитывания общего знаменателя. Если ученику с трудом даются даже такие простые примеры полиритмии, то я {53} ему обычно советую играть поочередно правой и левой (или по два раза, или по нескольку раз) данную фигуру, например, из этюда Скрябина ор. 8 № 4:

соблюдая при этом математически точную длительность четверти, а также распределения внутри ее в одном случае триоли, в другом квинтоли. И так во всех подобных случаях.
Знаю по опыту, что 90% учеников играет в разработке сонаты Шопена b-moll (первая часть) не так, как написано:

то есть в правой руке четыре четверти, а в левой — шесть четвертей, но попросту так:

Так «удобнее», ритм правой руки точно совпадает с ритмом левой (6/4 и 6/4), не приходится думать о «трудном согласовании» четырех четвертей и шести, все идет «гладко»— и авторский текст исковеркан, а ритм {54} искажен. По опыту знаю, что указанный мною выше способ изучения этого места — верное средство для ритмически точного и правильного его воспроизведения.
Только здесь я рекомендую играть два такта левой руки, затем два такта правой руки, и так много раз подряд, мысленно дирижируя при этом alla brеve — 2/2. Даже самый ритмически неуклюжий ученик таким способом преодолеет эту трудность.
Если полиритмическая фигура исполняется одной рукой (что гораздо реже бывает), то рекомендую тоже проигрывать каждый голос указанным способом отдельно (здесь происходит полное слияние полифонических трудностей и полиритмических) (Ясно, что первый указанный мною способ — арифметический, пригодный только для самых простых случаев полиритмии, является рассудочным, аналитическим, второй же—разумным, синтетическим.)
например, дуэт в правой руке ноктюрна Шопена Es-dur op. 55.
9. Часто ритмически несложные места искажаются пианистами только вследствие их большой технической («акробатической») трудности. Таково, например, следующее место из Mephisto-Valse Листа:

{55} Достаточно услышать, «заметить» эту неточность, чтобы найти средства для ее устранения. Одним из них, но не наилучшим, является следующий вариант:

Возникает же эта неточность, понятно, вследствие трудности двух почти одновременных «скачков»: правой — слева направо (вверх), левой справа налево (вниз).
10. Мне приходилось сотни и сотни раз констатировать у учеников ритмическую неточность, состоящую в том, что в медленной широкой мелодии или теме (особенно у Баха) попадающиеся в ней более мелкие метрические деления (например, восьмушки или шестнадцатые на общем фоне четвертей или половинных) играются внезапно немного скорее (поспешнее), чем все остальное. Сколько раз приходилось слышать и поправлять такое исполнение:

{56} Эти милые ускорения на восьмушках и шестнадцатых в медленных темпах напортили мне много крови за долгие годы моего преподавания.
Причина этой распространенной ошибки (конечно, среди учащихся среднего уровня) коренится, прежде всего, в неумении слушать пение рояля в более быстром движении; во-вторых, в том, что при виде «длинных» нот у играющего возникает «условный рефлекс» —медленно, при виде же «коротких» нот — условный рефлекс — быстро, которому он безотчетно поддается.
Я в таких случаях настаиваю на том, чтобы именно мелкие деления играть особенно выдержанно, как будто с трудом расставаясь с каждым звуком; рекомендуемое мною противоядие — это вот какое исполнение:

Кроме того, я усиленно рекомендую слушать хороших певцов, скрипачей, виолончелистов, в совершенстве владеющих кантиленой и умеющих как раз из «мелких» нот в мелодии извлечь всю их пленительную певучесть и поэтому скорее склонных к замедлению их, чем к ускорению (Вспомните исполнение А. В. Неждановой Вокализа Рахманинова.).
Весь этот пункт я написал главным образом потому, что хотел показать, как неразрывно связан звук с ритмом, и как ошибка в сущности звуковая приводит к ошибке ритмической. Опять и опять: всё едино!
11. Многие ритмические недочеты возникают у играющих по существу вследствие недопонимания духа композитора, его стиля; художественный образ произведения, как говорится, не выявлен, а поэтому страдает и ритмическая его специфика. Так, однажды одна моя {57} ученица сыграла следующее место из двенадцатой рапсодии Листа:

вдруг представился народный венгерский рапсод Лист в баховском парике и костюме лейпцигского органиста XVIII века. Та же ученица играла прелюдию cis-moll из первого тома Wohltemperiertes Clavier с такими элегическими затяжками и изнеженной нюансировкой, что вместо лица Баха я увидел перед собой провинциальную дамочку, разыгрывающую душещипательный романс.
Привожу этот пример (их много хранится в моей памяти), чтобы показать, как недопонимание «духа композитора» и «стиля эпохи» прежде всего вредно отражается на главных элементах музыки: звуке и ритме.
12. Когда недостаточно продумано и прочувствовано большое циклическое произведение как целое, у играющего неизбежно появляются темповые и ритмические погрешности.
В моей педагогической практике в этом смысле особенно видное место занимают две популярнейшие бетховенские сонаты: Аппассионата ор. 57 и Аврора ор. 53. Почти как правило, первая часть Аппассионаты играется слишком возбужденно и быстро по отношению к финалу, и, как правило, финал (рондо) Авроры играется слишком быстро по отношению к первой части.
Получается некое уподобление (в смысле {58} настроения и «тонуса») (Конечно, не самой музыки, которая в крайних частях совершенно различна, но в исполнительской ее передаче.) крайних частей; между тем общая схема обеих сонат вовсе не А — В — А, но А — В — С. Ведь первая часть Аппассионаты, при всей ее страстности, прежде всего величава и грандиозна, финал же — вихрь страсти, огненный поток, ураган, смерч, а над ним — страстная патетическая декламация.
В Авроре рондо — Allegretto moderato — «розово-перстая заря»; постепенно всходит солнце, роса исчезает, сияет лучезарный день...
Разве можно эту музыку играть с тем деловито-производственным оживлением, с которым мне так часто преподносили ее игролюбивые юноши и девушки!? Тем более, что автором точно указано: Allegretto moderato, то есть почти Andante, но, боже упаси, не Allegro, тем более Allegro vivace. Зато заключительное Presto надо играть Prestissimo possible, so schnell wie möglich und noch schneller (пользуясь терминологией Шумана), иначе не получится народный праздник, не выйдет вакхический пляс!
А некоторые ученики, назло Бетховену и вопреки его указаниям, играют Allegretto настолько же быстрее, чем нужно, насколько медленнее, чем нужно, они играют финал Prestissimo. В итоге — сверхгениальный и поэтичный финал приобретает сходство с этюдом.
В таких пьесах, как, например, первое скерцо (h-moll) или фантазия (f-moll) Шопена, мне часто приходилось указывать на то, что троекратное проведение главной партии теряет свой смысл, если играть его по схеме А—А—А. Кто чувствует и понимает целое, тот, несомненно, даст схему А—A1—А2. Еще лучше изобразить ее так: А → A1 → А2 особенно в первом скерцо. В Фантазии я лично представляю себе графи-
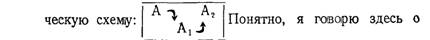
схеме исполнительской, то есть эмоционально-выразительной в соответствии с композиторской схемой.
{59}
13. Я знал в моей жизни прекрасных пианистов-виртуозов, обладавших чудесными руками, но не обладавших тем, что мы называем чувством целого, и поэтому не умевших сыграть ни одной крупной вещи (сонаты Бетховена или Шопена, ни одного концерта) удовлетворительно с точки зрения формы. Любая крупная вещь распадалась на ряд более или менее очаровательных моментов, тогда как мелочи, например вальсы, этюды, прелюды, ноктюрны (особенно же мелочи композиторов не первого ранга, как Сен-Санс или Мошковский и т. п.) звучали ослепительно и не оставляли желать лучшего (Типичным пианистом этого стиля был знаменитый в свое время Вл. Пахман.).
Грубо говоря, чем умнее пианист, тем лучше он справляется с крупной формой, чем глупее — тем хуже. «Длинное мышление» (горизонтальное) — в первом случае, «короткое» (вертикальное) — во втором. Вот почему я так восхищаюсь ритмом в исполнении С. Рихтера: ясно чувствуется, что все произведение — будь оно даже гигантских размеров — лежит перед ним, как огромный пейзаж, видимый сразу целиком и во всех деталях с орлиного полета, с необычайной высоты и с невероятной ясностью.
Должен уж сказать раз навсегда, что такой целостности, органичности, такого музыкально-художественного кругозора я не встречал ни у одного из известных мне пианистов, а я слышал всех «великих»: Гофмана, Бузони, Годовского, Кареньо, Розенталя, д’Альбера, Зауера, Есипову, Сапельникова, Метнера и множество других (не говоря о пианистах более молодого поколения), не слышал, к несчастью, только двух, которых любил бы, вероятно, больше всех: Рахманинова и Скрябина (Знаю только по пластинкам).
Это я написал не ради восхваления С. Рихтера (есть пианисты, которых я люблю почти не меньше его), но ради того, чтобы заострить внимание на великой исполнительской проблеме, которая называется Время-Ритм — с большой буквы, где единицей {60} измерения ритма музыки являются не такты, фразы, периоды, части, а все произведение в целом, где музыкальное произведение и его ритм являются почти тождеством.
Есть одно апокрифическое письмо некоего знакомого Моцарта, где он рассказывает, что ответил Моцарт на вопрос, как он, собственно, сочиняет. Приведу лишь главное. Моцарт говорит, что иногда, сочиняя в уме симфонию, он разгорается все более и более, и наконец доходит до такого состояния, когда ему чудится, что он слышит всю симфонию от начала до конца сразу, одновременно, в один миг! (Она лежит перед ним, как яблоко на ладони) Он еще добавляет, что эти минуты — самые счастливые в его жизни, за которые он готов ежедневно благодарить создателя.
Это высказывание Моцарта я прочел впервые в возрасте 12—13 лет в старой толстой немецкой книге, где собраны были всякие анекдоты о великих музыкантах и многие их высказывания.
Еще тогда слова Моцарта произвели на меня неизгладимое впечатление, и каково же было мое удивление и удовлетворение, когда я неожиданно лет 20—25 тому назад прочел в сборнике «De musica» глубокие и пространные рассуждения И. Глебова (Б. Асафьева) именно об этом апокрифическом, нигде не найденном и неудостоверенном письме!
И Глебову, и мне было ясно, что такое высказывание «выдумать» нельзя, что в основе его лежит истина, моцартовская истина, не противоречащая тому образу Моцарта, который создался у нас на основе его творчества и жизни, но подтверждающая его, в высшей степени с ним гармонирующая. Для всякого, мало-мальски разбирающегося в психологии творчества, то, о чем здесь говорит Моцарт, есть пример наивысшей способности человеческого духа, той способности, о которой и говорить нельзя словами, можно только, склонив голову, восхищаться и боготворить. (Не покажусь ли смешным, если признаюсь, что для меня простые обыденные «бытовые» слова Моцарта говорят о том же, о чем говорит «Пророк» Пушкина?).
{61} По поводу апокрифического письма Моцарта во мне, как всегда, «теснится дум избыток», тут-то и хочется мне писать о музыкальном времени, о ритме, о творчестве и т д. но это завело бы меня слишком далеко.
Я привел апокрифическое письмо Моцарта, так как оно может помочь пианисту в главном деле — в охвате произведения в целом и организации временного процесса.
14. Можно было бы на этом кончить, но хочется прибавить еще несколько мелких, чисто учительских соображений и советов насчет ритма.
У некоторых педагогов весьма в ходу мнение, что многие ровные пассажи в пьесах следует упорно учить со всякими ритмическими изменениями. Например, если пассаж идет ровными шестнадцатыми, то играть его следующими и тому подобными способами:

Я допускаю этот прием только в работе над упражнениями (в том числе извлеченными из трудных мест в пьесах) — при разучивании же музыкальных произведений этот прием допустим лишь в отдельных случаях. В самом деле, зачем учить пятый прелюд D-dur из первого тома Wohltemperiertes Clavier с «точками» и всякими ритмическими выкрутасами, когда главная цель здесь — достигнуть возможной ровности и гладкости, соблюдая точно фигуру каждой четверти, которой точки и метрические задержки будут только мешать. Если же нужно тренироваться на остро ритмических фигурах вроде:

то откройте второй том, найдите шестнадцатый прелюд g-moll и зубрите его, пока не выйдет. Не могу себе представить ничего нецелесообразнее, чем играть прелюдию f-moll из первого тома так:
{62}

в то время, когда надо достигнуть прямо противоположного, именно того, что написал Бах.
Напоминаю мой постоянный совет: по возможности держать курс прямо на цель, двигаться к ней, как движется «Стрела» из Москвы в Ленинград по прямой линии, еще лучше — как летит самолет по компасу. (Правда, необходимо, чтобы паровоз и машинист, самолет и летчик были в полном порядке) Всякие же «способы», различные приемы и варианты я очень даже рекомендую там, где играющий имеет дело не с художественно-музыкальной материей, но с ее молекулами, атомами, то есть с упражнениями (классический пример: первое упражнение из 1-й тетради «Упражнений Листа», изданных Винтербергером). Но не для детей! Только для взрослых! Это полезная аналитическая технически-ремесленная работа, а от нее никто не может отмахнуться.
Если не вполне еще зрелый пианист встречает в новой пьесе незнакомые ему трудности, в которых он увязает, то он только докажет свой ум и изобретательность, если из данных трудных мест составит себе полезные упражнения и будет их играть до тех пор, пока незнакомое не станет знакомым, неудобное — удобным, {63} трудное — легким.
Я придумывал и для себя, я для своих учеников много упражнений на основе встречающихся в художественной музыке технических задач (приведу некоторые из них в главе о технике). Важно одно только: помнить, что после временного дробления живой музыкальной материи на «молекулы и атомы», они, эти частицы, после соответствующей обработки должны снова стать живыми членами музыкального организма.
Не тайна, что умеющий хорошо работать, артистически одаренный пианист способен превратить обыкновенный этюд в художественное виртуозное произведение; не умеющий работать (то есть, правильно мыслить) превращает художественное произведение в этюд.
15. Говорить о полной взаимосвязи между звуком и ритмом почти что излишне. Синкопа, имеющая такое огромное ритмическое значение, сыгранная слабее, чем не синкопа, появляющаяся до нее, после нее или одновременно в другом голосе, перестает быть синкопой, то есть теряет и ритмическую, и динамическую свою характеристику.
Как ни странно, но об этом приходится иногда говорить даже с очень подвинутыми и хорошими учениками. Конечно, и у них, как и у более слабых, происходит это потому, что вследствие какой-нибудь технической еще непреодоленной трудности, они играют не совсем то, что надо, а больше то, что «выходит». Вот пример: восемь из десяти учеников, игравших у меня сонату d-moll (№ 17) Бетховена, в заключительной партии первой части (перед разработкой) играли в левой руке:

{64}
Мне иногда так надоедало говорить и говорить о синкопе, что я предлагал ученикам раз навсегда запомнить, что синкопа, гражданка Синкопа, есть определенное лицо, где бы она ни появлялась, с определенным выражением, определенным характером и значением, которые нельзя, не разрешается путать с кем бы то ни было другим.
(Так же в области динамики: нельзя путать Марию Павловну (тр) с Марией Федоровной (mf), Петю (р) с Петром Петровичем (рр), Федю (f) с Федором Федоровичем (ff) и т. д., и т д. Эти инфантильные шуточки, представьте себе, иногда очень полезны для взрослых.).
16. Особенно ясной становится связь между звуком и ритмом в случаях rubato. Невозможно определить степень ритмической свободы данной фразы, не найдя правильной ее нюансировки. Звук и ритм действуют рука об руку, помогают друг другу и только совместно разрешают задачу художественно выразительного исполнения. Повторяю: я говорю вещи настолько общеизвестные, что как будто бы и писать о них неловко, и, однако, сколько раз я убеждался в классе, что ученик разрешил только часть исполнительской задачи, что целое хромает (или наоборот); вот почему так настойчиво надо напоминать о необходимой согласованности всех элементов исполнения и ежедневно добиваться этого на практике. Опять и опять все едино.
У очень талантливых людей эта целостность получается, как говорится, «сама собой», менее одаренные могут чрезвычайно много сделать путем познания, волевого напряжения, постоянства устремлений.. Читайте книги Станиславского, там много и прекрасно об этом говорится.
И не забывайте никогда, что библия музыканта начинается словами:
в н а ч а л е б ы л р и т м.
{65}
ГЛАВА III
О ЗВУКЕ
Музыка — искусство звука. Она не дает видимых образов, не говорит словами и понятиями. Она говорит только звуками. Но говорит так же ясно и понятно, как говорят слова, понятия и зримые образы. Ее структура так же закономерна, как структура художественной словесной речи, как композиция картины, архитектурного построения. Теория музыки, учение о гармонии, контрапункте и анализ формы занимаются раскрытием этих закономерностей, закономерностей, создаваемых великими композиторами в согласии с природой, историей и развитием человечества.
Исполнители не анализируют, не разлагают музыку, они ее воссоздают в ее органическом единстве, в целостности и конкретности ее материального звучания. Из этих простых, известнейших положений пианист должен сделать все нужные, напрашивающиеся сами собой выводы,— и очень часто он их не делает.
Раз музыка есть звук, то главной заботой, первой и важнейшей обязанностью любого исполнителя является работа над звуком. Казалось бы, ничего более очевидного нет. И, однако, очень часто забота о технике в узком смысле, то есть беглости бравуре, вытесняет или ставит на второй план у учеников важнейшую заботу о звуке.
Ошибки педагогов и пианистов в отношении восприятия и воспроизведения звука на фортепьяно можно, грубо говоря, разделить на два противоположных «направления»: первое состоит в недооценке звука, второе — в переоценке его.
Первое более распространено. Играющий не задумывается достаточно над {66} необыкновенным динамическим богатством и звуковым разнообразием фортепьяно, не исследует его, внимание его направлено главным образом на «технику» (в узком смысле), о которой я говорил выше (беглость, ровность, «бравура», блеск и треск), слух его недостаточно развит, не хватает воображения, он не умеет себя слушать (и музыку, конечно, тоже). В общем—он больше homo faber, нежели homo sapiens, a художник должен быть и тем и другим (с некоторым преобладанием последнего).
В итоге получается музыкальная ткань, похожая на серое солдатское сукно. Таким ученикам я не перестаю напоминать слова Антона Рубинштейна о фортепьяно: «Вы думаете это один инструмент? Это сто инструментов!» Карл Черни, «сухой и. методичный гений», мучивший целые поколения пианистов неиссякаемым потоком этюдов и упражнений, установил, что на фортепьяно возможно передать сто динамических градаций, помещающихся между, пределами, которые я называю: еще не звук и уже не звук.
Удивительно, что такие две противоположные индивидуальности, как Рубинштейн и Черни остановились на цифре 100! Cela donne à penser (об этом стоит подумать).
Вот вкратце первая ошибка — недооценка звука. Другая ошибка—переоценка звука. Она бывает у тех, кто слишком уж любуется звуком, слишком смакует его, кто в музыке слышит прежде всего чувственную звуковую красоту, вернее, «красивость» — и не охватывает ее целиком, одним словом, кто за деревьями леса не видит.
Таким пианистам — а в числе их есть и педагоги, и учащиеся, и «готовые» пианисты—приходится говорить так: «красота звука» есть понятие не чувственно-статическое, а диалектическое: наилучший звук (следовательно, самый «красивый») тот, который наилучшим образом выражает данное содержание. Может случиться, что звук или ряд звуков вне контекста, так сказать, в отрыве от содержания, может показаться кому-нибудь «некрасивым», даже «неприятным» звуком (вспомним, хотя бы, засурдиненные трубы, хрипение контрафагота в нижнем регистре («А тот хрипун, удавленник-фагот» (Грибоедов). Эти слова Прокофьев сделал эпиграфом к своему «Скерцо для четырех фаготов» ор. 12.), резкость кларнета in Es, лязгание разбитого старого рояля и т. д. и т. п.).
Но если эти звуки, исключая, конечно, старый рояль, применяет с определенной целью хороший композитор, умеющий инструментовать, то они будут в контексте именно должными звуками, самыми выразительными и нужными. Недаром Римский-Корсаков говорил, что все звуки оркестра хороши и красивы, надо только уметь пользоваться ими и их сочетаниями. Если бы адепты красивого звука как самоцели были правы, то было бы непонятно, почему мы предпочитаем певца с физически «худшим» голосом певцу с «лучшим» голосом, если первый—артист, а второй—чурбан. Было бы непонятно, почему хороший пианист играет на плохом рояле так хорошо, а плохой пианист на хорошем рояле так плохо; почему хороший дирижер может с плохим оркестром произвести неизмеримо большее впечатление, чем плохой дирижер с хорошим оркестром (предлагаю читателю мысленно продолжать эти примеры).
К этому же вопросу — о роли звука в фортепьянном произведении — относится один случай из жизни Листа. Когда Лист впервые услышал Гензельта, обладавшего необычайным «бархатным» звуком, он сказал: «ah, j’aurais pu aussi me donner ces pattes de velours!» (я тоже мог себе позволить эти бархатные лапки!)
Для Листа с его гигантским творчески-исполнительским кругозором «бархатное туше» было только деталью в арсенале его технических средств, тогда как для Гензельта оно было главной целью. Все это пишется для того, чтобы еще и еще раз подчеркнуть, что звук есть первое и важнейшее средство (наряду с ритмом) среди всех прочих средств, которыми должен обладать пианист, но средство, а не цель.
Как часто приходилось мне слышать от учителей фортепьяно, что «научить хорошему звуку труднее всего: почти все зависит от самого ученика». Меня интересует не трудность задачи, а важность, необходимость ее возможно полного разрешения. Конечно, работа над звуком есть самая трудная работа, так как тесно связана со слуховыми и — будем откровенны — душевными качествами ученика. Чем грубее слух, тем тупее звук. Развивая слух (а для этого, как известно, есть много {68} способов), мы непосредственно действуем на звук; работая на инструменте над звуком, добиваясь неустанно его улучшения, мы влияем на слух и совершенствуем его.
Коротко и ясно: овладение звуком есть первая и важнейшая задача среди других фортепьянных технических задач, которые должен разрешать пианист, ибо звук есть сама материя музыки; облагораживая и совершенствуя его, мы подымаем самую музыку на большую высоту.
В моих занятиях с учениками, скажу без преувеличения, 3/4 работы—это работа над звуком. Можно сказать, что последовательность, причинная («иерархическая») связь звеньев работы, естественно, располагается таким образом: первое — «художественный образ» (то есть смысл, содержание, выражение, то, «о чем речь идет»); второе — звук во времени (Точнее было бы сказать: работа над «время-звуком», ибо ритм и звук неотделимы друг от друга.) —овеществление, материализация «образа» и, наконец, третье — техника в целом, как совокупность средств, нужных для разрешения художественной задачи, игра на рояле «как таковая», то есть владение своим мышечно-двигательным аппаратом и механизмом инструмента.
Такова общая схема моих занятий. Я повторяюсь, но делаю это сознательно. Repetitio est mater persuadendi (повторение — мать убеждения). На практике, конечно, эта схема постоянно колеблется, «извивается» в зависимости от требований и нужд момента, конкретного случая, но подспудно, иногда в замаскированном виде, она присутствует всегда, как иерархическое организующее начало.
Для достижения так называемого хорошего или прекрасного звука (я впоследствии еще подробнее попытаюсь расшифровать это довольно поверхностное определение) требуется особенно усидчивая, долгосрочная, постоянная и упорная работа на инструменте.
Если Маяковский в «Разговоре с фининспектором» говорит, что с поэзией надо пуд соли съесть, чтобы стать поэтом (стихотворцем), то я скажу: с фортепьяно надо тонну соли съесть, и понятно, почему: стихотворение можно вынашивать в {69} голове, гуляя за городом или трясясь в автобусе (Рихард Штраус иногда вынашивал свои оперы, играя в «скат» (карточная игра).), а фортепьянной игрой (не музыкой вообще) можно заниматься только на фортепьяно; но фортепьяно — это все-таки механическая коробка, гениальная, изумительная коробка, на которой можно выразить все, что угодно, н о коробка, которая для полного «очеловечения» ее требует куда больших усилий, чем прекрасное, живое, гибкое, на все способное, беспредельно выразительное, самое человечное и самое чудесное создание человека — человеческое слово.
* * *
Так как в этой главе речь идет не о звуке «вообще», а о звуке, извлекаемом рукой пианиста на фортепьяно, то я не могу не привести тех простейших положений, которые пианист должен знать, как всякий грамотный человек знает таблицу умножения или синтаксис.
Всякое явление в этом мире имеет свои начало и конец, так же и фортепьянный звук. Обычные обозначения звука от двух «р» (рр), изредка трех (ррр) или четырех (рррр) до f, ff реже fff, совсем редко ffff (главным образом у Чайковского) совершенно не соответствуют той реальной звуковой (динамической) шкале, которую может воспроизвести фортепьяно.
Для исследования этой действительной реальной динамической шкалы я предлагаю ученику точно добиться первого рождения звука (ррррр...), тишайшего звука, непосредственно следующего после того, что еще не звук (некоторый 0, нуль, получаемый в результате слишком медленного нажатия клавиши — молоток поднимается, но не ударяет струну); постепенно увеличивая силу удара—F и высоту поднятия руки — h (Символы: F (сила), m (масса), v (скорость), h (высота) почерпнуты мною из физики и механики. Они очень облегчают правильное понимание и применение физических возможностей на фортепьяно, рассматриваемом как механизм.), мы доходим до верхнего звукового предела (ffff...), после которого начинается не звук, а стук, так как механическое (рычаговое) устройство {70} фортепьяно не допускает чрезмерной скорости v, при чрезмерной массе т., особенно же сочетания этих двух «чрезмерностей» (Не буду здесь распространяться о чисто механических причинах этого явления, любой хороший мастер-настройщик может об этом рассказать не хуже меня, а, может быть, и лучше.).
Это «исследование» можно произвести или на одном звуке («атоме» музыкальной материи), или на двух-трех или четырехзвучном аккорде («молекуле»). Этот простейший опыт важен тем, что он дает точное познание звуковых пределов фортепьяно. Опуская (надавливая) клавишу слишком медленно и тихо, я получаю ноль—это еще не звук; если опустить руку на клавишу слишком быстро и крепко (недозволенные «чрезмерные» v и h), получается стук, это уже не звук.
Между этими пределами лежат всевозможные градации звука. «Еще не звук» и «уже не звук» — вот что важно исследовать и испытать тому, кто занимается фортепьянной игрой. Как любой рабочий знает пределы производительности и мощности своего станка, так и пианист, «работающий на фортепьяно», должен знать свой инструмент, свой станок.
Мне могут сказать: «какие сухие и скучные рассуждения! Пусть это приблизительно и верно, но какое это имеет отношение к игре больших пианистов-виртуозов, доставляющих такое непосредственное наслаждение»? Я согласен: очень крупные таланты редко задумываются над такими вопросами, они просто «дело делают», они гораздо более способны «создавать законы», чем исследовать их, но, с другой стороны, мало даровитые или совсем недаровитые люди вовсе не задумываются над такими вещами, однако это сходство с талантами ( к тому же весьма поверхностное) не говорит в их пользу и не приносит им пользы. «Холодный ум и горячее сердце» — вот мой педагогический лозунг, а холодный ум не побрезгует и этой крупицей точного знания, добытого и проверенного опытом.
Почти все мои технические соображения, советы, упражнения возникали в результате дедукции. Например, описанная процедура («первое рождение звука» и т. д.) . мне пришла в голову, когда я играл пьесы Скрябина или Дебюсси, требующие местами полнейшего таяния, почти {71} полного исчезновения звука (но все-таки звука). Упражнение, которое я изредка рекомендую как одинаково «полезное» и для слуха, и для осязания клавиатуры:

Его смысл состоит в том, что каждый последующий звук берется с той силой звучания, которая получилась в результате потухания предыдущего звука, а не его первичного возникновения— «удара» (отвратительное слово!). Это упражнение, являющееся протестом против «ударности» фортепьяно (ведь на фортепьяно надо уметь, прежде всего, петь, не только «ударять» его), пришло мне в голову, когда я пытался добиться на рояле возможно более полного подобия человеческому голосу (филировка звука) в гениальном речитативе первой части d-moll-ной сонаты Бетховена (ор. 31, № 2):

Мой совет: играть прекрасные мелодические пассажи (например, у Шопена) в сильно замедленном темпе; я условно называю это замедленной киносъемкой (Это всем известно: когда вертят очень быстро ручку аппарата и получается огромное количество кадров на экране вы можете увидеть бег лошади в карьере — в темпе Adagio или Largo.).
Этот совет возник в результате любования красотой, мелодичностью — и поэтому выразительностью — пассажа, желанием «рассмотреть» его вблизи, как можно рассмотреть прекрасную картину, рассматривать ее вплотную или даже через увеличительное стекло, для того, чтобы проникнуть хоть немного в таинственную согласованность, гармонию и точность отдельных мазков кисти великого художника. Увеличению объекта в {72} пространстве точно соответствует замедление процесса во времени.
Почти все детали моей «методики» добыты таким дедуктивным способом.
Через мои руки прошли за 44 года педагогической работы (а неофициально больше) сотни и сотни учащихся, представляющих все степени одаренности— от музыкально почти дефективных (когда-то я и такими не гнушался: надо все испытать) вплоть до гениальных — со всеми промежуточными звеньями. Жизненный опыт, столкновение с богатством и разнообразием действительности, природы, привел меня к методическим выводам, несколько отличным от обычной «хрестоматийной» методики.
Надо до конца понять, что, с одной стороны, обучение музыке и музыкальной грамоте — а тут фортепьяно является лучшим, незаменимым, если не единственным средством — есть общекультурное дело, что изучение музыки так же обязательно для культурного человека, как изучение языка, науки об обществе, математики, истории, естественных наук и т. д., и т. д. (если бы это зависело от меня, я бы ввел обязательное обучение музыке посредством фортепьяно в средней школе).
Даже музыкально-дефективные, то есть абсолютно лишенные слуха, а таких не так уж много — население нашей планеты по преимуществу «музыкально» — могут получить теоретические понятия о музыке, которые непременно пригодятся им в их духовной жизни. Музыка ведь такой же продукт человеческой мысли, как и все, созданное человеком, здесь властвуют те же законы. Как и в любой области духовной жизни, диалектика искусства, значит и музыки, есть продолжение и развитие диалектики природы.
С другой стороны, музыкальное воспитание охватывает также тех исключительно одаренных, призванных, которым суждено быть производителями музыки, творцами и исполнителями.
Ясно, что между всеобщим внедрением музыкальной грамоты, как одним из звеньев культуры, и воспитанием крупных талантов-единиц точно такая же разница, какая наблюдается в «общественной роли» фортепьяно: с одной стороны, самого всенародного, массового инструмента, которым пользуются {73} десятки, если не сотни миллионов людей (ведь фортепьяно так же необходимо любому музыканту и любителю, как необходимы каждому человеку язык, слово, речь), с другой—самого трудного, индивидуального инструмента под руками больших пианистов — а таковые исчисляются десятками — в сопоставлении со многими миллионами, пользующимися им...
Кто же такой пианист, большой пианист? Не могу не напомнить здесь простые и прекрасные слова А. Блока: «Кто такой поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно, он пишет стихами потому, что он поэт, потому, что он приводит в гармонию слова и звуки...» Перефразируя эту мысль, можно сказать: кто такой пианист? Он пианист потому, что он обладает техникой? Нет, конечно, он обладает техникой потому, что он пианист, потому что он в звуках раскрывает смысл, поэтическое содержание музыки.
Вот для чего нужна техника, адекватная силе, высоте и ясности представляемого духовного образа, вот для чего большие пианисты до конца своих дней трудятся над ней и постоянно ставят себе новые цели, разрешают новые задачи.
Потому именно большие люди всегда труженики; потому-то многие из них говорили: гений — это трудолюбие. Пушкин говорил: прозе нужны прежде всего мысли. Пианисту, играющему перед аудиторией, нужно прежде всего содержание. А для того, чтобы содержание было выявлено, нужна техника и техника.
Это старо, как само искусство. Но молодежь часто этого не знает и ошибается, стараясь овладеть искусством «с другого конца». Оратор, у которого «красота слога» преобладает над глубиной, правдивостью и страстностью мысли,— не очень хороший оратор.
Об этом должен помнить концертирующий пианист — ведь он тоже оратор и пропагандист. Для пианистов, помешанных на «виртуозности прежде всего», нет ничего полезнее, чем послушать иногда, как играют свои произведения большие композиторы, которые не занимаются специально «фортепьянной техникой» и тем не менее великолепно передают свою музыку. Причины этого ясны, и не стоит на этом останавливаться.
Итак, у меня есть тоже методика, если методикой {74} можно назвать нечто, остающееся по существу всегда верным самому себе и всегда меняющееся и развивающееся, согласно общим законам жизни, — жизни внутри меня и вне меня. Методика — это дедуктивно, а также экспериментально достигнутое познание, источник его— определенная воля, неуклонное стремление к известной цели, определяемой характером и идейным миросозерцанием художника. Хрестоматийная методика, дающая преимущественно рецептуру, так называемые твердые правила, пусть даже верные и проверенные, будет всегда только примитивной, первоначальной, упрощенной методикой, нуждающейся поминутно при столкновении с реальной жизнью в развитии, додумывании, уточнении, оживлении, одним словом — в диалектическом преобразовании.
Практика педагогической работы (имеется в виду хороший педагог-исполнитель), в которой беспрерывно меняются и бесконечно разнообразны способы воздействия на ученика при неуклонном сохранении направленности к цели, полностью подтверждает сказанное.
* * *
После этого небольшого экскурса в область общей методики возвращаюсь к частному вопросу — вопросу о звуке и его извлечении на фортепьяно.
Мы, педагоги, невольно и неминуемо постоянно пользуемся различными метафорами для определения разных способов звукоизвлечения на фортепьяно. Мы говорим о «срастании» пальцев с клавиатурой, о «прорастании» пальца (выражение Рахманинова), как будто клавиатура представляет упругую материю, в которую можно произвольно «погружаться», и т д. Все эти весьма приблизительные определения все-таки, несомненно, полезны, оплодотворяют воображение ученика и в связи с живым показом действуют и на его слух, и на двигательно-осязательный аппарат, так называемое «туше».
Одним из моих излюбленных советов является следующий — взять ноту или несколько нот одновременно с известной силой и держать их до тех пор, пока ухо совершенно не перестанет улавливать какое-либо колебание струны, то есть когда окончательно потухает звук.
Только тот, {75} кто слышит ясно протяженность фортепьянного звука (колебания струны) со всеми изменениями силы, тот, во-первых, сможет оценить всю красоту, все благородство фортепьянного звука (ибо эта «протяженность», в сущности, гораздо красивее первичного «удара») (Конечно, все на своем месте: фортепьяно так же приспособлено для всяческой «токкатности», даже «ксилофонности», как и для передачи задушевнейшей кантилены.); во-вторых, сможет овладеть необходимым разнообразием звука, нужным вовсе не только для полифонической игры, но и для ясной передачи гармонии, соотношения между мелодией и аккомпанементом и т. д., а главное—для создания звуковой перспективы, которая так же реальна в музыке для уха, как в живописи для глаза.
Ни для кого не тайна, что зрительная перспектива и слуховая совершенно тождественны, разница их только в том, что они создаются и воспринимаются двумя физически разными органами: глазом и ухом. Как часто игра большого мастера напоминает картину с глубоким фоном, с различными планами: фигуры на первом плане почти «выскакивают из рамы», тогда как на последнем — едва синеют горы или облака! Вспомните хотя бы Перуджино, Рафаэля, Клод Лоррена, Леонардо, наших великих художников, и пусть они повлияют на вашу игру, на ваш звук (Один очень понимающий человек назвал однажды мою игру «стереоскопической» и доставил мне этой оценкой искреннее удовлетворение, не зря, значит, я трудился.).
По крайней мере два раза в неделю я напоминаю ученикам (ибо нужда заставляет!) приведенное выше изречение Антона Рубинштейна о рояле: вы думаете — это один инструмент? Это сто инструментов! Конечно, вряд ли найдется смельчак, который захочет «догнать и перегнать» великого Антона, но принять к сведению его высказывания он должен.
В книге Ф. Бузони «Über die Einheit der Musik» есть 11/2 странички, посвященные роялю, под названием: «Маn achte das Clavier» (уважайте фортепьяно). Предельно лаконично и стилистически совершенно здесь дана такая ясная и верная характеристика рояля, что я с трудом удерживаюсь от желания привести ее целиком.
Ограничусь несколькими выдержками. Указав на очевидные {76} недочеты рояля: непродолжительность звука и твердое неумолимое деление на полутоны, он говорит о его преимуществах: исключительном динамическом диапазоне от крайнего pianissimo до величайшего fortissimo, об огромном звуковом объеме — от самых низких звуков до самых высоких, о ровности тембра во всех регистрах, об его способности подражать другим инструментам (труба может только трубить, флейта — звучать только как флейта, скрипка — только как скрипка и т. д., рояль же под руками мастера может изображать почти любой инструмент) ; в заключение он напоминает о совершенно волшебном, одному лишь роялю свойственном средстве выражения: о педали.
В дополнение к этому описанию я часто говорю ученикам: рояль является лучшим актером среди инструментов, так как может исполнять самые разнообразные роли.
Некоторая отвлеченность его звука по сравнению со звуками других инструментов, чувственно гораздо более «конкретных» и выразительных, как, прежде всего, человеческий голос, валторна, тромбон, скрипка, виолончель и т. д., даже сама эта «отвлеченность», «умопостигаемость», если хотите, есть в то же время его несравненное высокое качество, его неоспоримая собственность, — он самый интеллектуальный из всех инструментов, и потому охватывает самые широкие горизонты, необъятные музыкальные просторы. Ведь на нем, кроме всей неизмеримой по количеству, неописуемой по красоте музыки, созданной «лично для него», можно исполнять все, что называется музыкой, от мелодии пастушеской свирели до гигантских симфонических и оперных построений.
Характеристика фортепьяно (для чего я воспользовался прекрасной страничкой Бузони) была необходима, чтобы сделать некоторые выводы относительно фортепьянного звука. В соответствии со сказанным о том, что рояль— наилучший актер между инструментами (Мне хочется назвать его «интеринструментальным»—прошу прощения за неуклюжее слово.), я вынужден в моих занятиях постоянно напоминать об оркестре, внушать представление об оркестровых {77} звучностях, не могу иначе!
Хотя я и пианист, оркестр мне представляется первым сольным инструментом (Конечно, только под управлением большого музыканта-дирижера. Персимфанс, например, никогда не был «сольным инструментом».), а рояль — вторым по рангу и значению. Думаю, что это не обидно ни для рояля, ни для пианистов.
Именно потому, что фортепьяно, как мне кажется, самый интеллектуальный инструмент и не обладает чувственной «плотью» других инструментов, потому-то для полного раскрытия всех его богатейших возможностей дозволено и нужно, чтобы в воображении играющего жили более чувственные и конкретные звуковые образы, все реальные многообразные тембры и краски, воплощенные в звуке человеческого голоса и всех на свете инструментов. Но главная причина, почему все это совершенно необходимо пианисту знать и чувствовать и почему пианист, не понимающий этого, будет однобоким, чтобы не сказать хуже,—главная причина просто та, что пианист один-одинешенек, на одном инструменте, не нуждаясь ни в чьей помощи, дает абсолютно цельный образ, создает нечто полное и совершенное—фортепьянное произведение, что вся музыка в его руках, и только в его руках, что он одновременно и повелитель и слуга, «и царь и раб, и червь и бог».
В разговорах с учениками я часто прибегаю к простейшей метафоре, совершенно понятной и для детского сада, но полезной и аспирантам и даже готовым пианистам.
Я говорю: пианист и фортепьяно — это одновременно: 1) дирижер (голова, сердце, слух); 2) оркестранты (обе руки с десятью пальцами и обе ноги для обеих педалей) и 3) инструментарий (один-единственный рояль, или, выражаясь по-рубинштейновски, — сто инструментов, то есть столько же, сколько бывает в симфоническом оркестре) .
Все это крайне просто и все известно, и, честное слово, я бы не говорил этих трюизмов, если бы... да, если бы каждый день не убеждался, что не только многие ученики, но и многие готовые пианисты этого не знают.
Боюсь, что частые мои напоминания об оркестре, {78} дирижере и т. д. могут быть ложно истолкованы, и потому попытаюсь объясниться.
Я вовсе не требую от ученика-пианиста, чтобы он на фортепьяно подражал оркестру, все время думая о нем и считая рояль как бы слабой копией другого, «л у ч ш е г о» звучания. Во-первых, рояль имеет свою индивидуальную звуковую красоту, свое «я», которое не спутаешь ни с чем на свете. Во-вторых, надо знать и любить это индивидуальное, особенное «я» рояля, чтобы до конца постигнуть и овладеть им. Кто слышал когда-нибудь, как некоторые дирижеры или певцы обращаются с фортепьяно (не зная его), тот будет знать раз и навсегда, как не следует играть на нем.
Надеюсь, что кажущаяся противоречивость моя будет истолкована правильно, что каждый поймет, в чем диалектика явления и почему я говорю, почти «не переводя дыхания», о рояле как подобии оркестра и рояле «как таковом».
Только требуя от рояля невозможного, достигаешь на нем всего возможного. Для психолога это значит, что представление, воображение, желание опережают реально возможное. Глухой Бетховен создал неслыханные фортепьянные звучности и предопределил развитие рояля на много десятков лет вперед. Творческий дух композитора предписывает роялю законы, которым он постепенно повинуется. Такова история развития инструмента. Обратных случаев я не знаю.
Я не буду повторять всего, что так хорошо и давно известно: что полифония—лучшее средство для достижения разнообразия звука, что певучие, мелодические пьесы необходимы, чтобы научиться «петь» на рояле (Хотя гораздо правильнее будет сказать: нужно уметь петь на фортепьяно, чтобы сыграть певучую мелодическую пьесу. Так же с полифонией.) и т. д., и т. д., что нужно развивать «силу пальцев», крепкий «удар», чтобы с должной ясностью и четкостью исполнясь быстрые пассажи, чтобы уметь справиться с «токкатной» фортепьянной литературой.
В двигательном отношении спутниками «хорошего» звука будут всегда: полнейшая гибкость (но отнюдь не {79} расслабленность!) (La souplesse avant tout (гибкость прежде всего), как говорили и Шопен, и Лист, и говорят до сих пор все знающие люди.), «свободный вес», то есть рука, свободная от плеча и спины до кончиков пальцев (вся точность-то в них сосредоточена), прикасающихся к клавишам, уверенная целесообразная регулировка этого веса от еле заметного летучего прикосновения в быстрых легчайших звуках (Хорошее французское выражение: jeu perlé.) до огромного напора с участием, в случае надобности, всего тела для достижения предельной мощности звука — вся эта механика совсем несложное дело для того, кто хорошо слышит, имеет ясный замысел, способен осознать данную ему природой гибкость и свободу своего тела и умеет много и упорно заниматься на рояле.
Я часто говорю ученикам (полусерьезно-полушутливо), что влезть в переполненный троллейбус гораздо более трудная двигательная проблема, чем устроиться на рояле. Кстати, неудивительно и совершенно законно, что я подчас «залетаю» в другую главу, в данном случае в главу о технике: все явления, объединяемые понятием «фортепьянное исполнение», неразрывно связаны друг с другом, поэтому, говоря о звуке, невозможно не говорить о его извлечении, то есть «технике», говоря о технике, нельзя не говорить о звуке, так же как нельзя говорить о педали в отрыве от звука, или о всех этих компонентах фортепьянной игры вместе в отрыве от их организующего начала: музыкального замысла.
Каждый пианист-мастер обладает своей индивидуальной звуковой палитрой. Я это чувствую до того сильно, что мне кажется иногда, будто Большой зал нашей консерватории в зависимости от игры того или иного пианиста (например, Рихтера, Софроницкого, Гилельса) даже освещен по-другому, даже меняет свой архитектурный облик. Я знаю, что это фантазия, но фантазия, удивительно напоминающая действительность.
Нет звука «вообще», как нет толкования «вообще», выразительности «вообще», ничего, «вообще». По этому поводу отсылаю к прекрасным страницам Станиславского, где он говорит о выражении «вообще», как о величайшей беде.
{80} Кто-то спросил Антона Рубинштейна, может ли он объяснить и чем объяснить то чрезвычайное впечатление, которое его игра производит на слушателей. Он ответил приблизительно следующее: вероятно, это происходит отчасти от очень большой силы (мощности) звука, а главным образом от того, что я много труда потратил, чтобы добиться пения на рояле. Золотые слова! Они должны были бы быть выгравированы на мраморе в каждом фортепьянном классе училищ и консерваторий.
Здесь я возвращусь (как ванька-встанька) к сказанному раньше: так как первооснова всей слышимой музыки есть пение и так как фортепьянная литература изобилует певучестью, то главной и первой заботой всякого пианиста должна быть: выработка глубокого, полного, способного к любым нюансам, «богатого» звука со всеми его бесчисленными градациями по вертикали и по горизонтали.
Опытному пианисту ничего не стоит одновременно дать 3-4 различных динамических оттенка, примерно: f mp тем более использовать pp p по горизонтали все возможности фортепьянного звука.
Порочное представление о фортепьяно, порожденное не менее порочным направлением разных адептов «moderne Sachlichkeit» («современной предметности»), как об исключительно только «ударном» инструменте, опровергается всей историей фортепьянной литературы и пригодно лишь для небольшого количества сочинений этих «предметных», «деловитых» композиторов.
В сущности, «работа над звуком» — выражение столь же неточное, как «работа над художественным образом».
Мы слишком находимся в плену наших неточных слов и выражений, слишком верим им. О любом очень хорошем пианисте всегда говорится: какой у него прекрасный звук! как у него звучит! и т. д.
То, что на нас действует как прекрасный звук, есть на самом деле нечто гораздо большее, это выразительность исполнения, то есть организация звука в процессе исполнения произведения. Я уверен, что о мало музыкальном человеке никогда нельзя сказать, что у него прекрасно звучит, даже если он {81} знает сотни приемов звукоизвлечения и «превзошел» всю науку о «работе над звуком».
В лучшем случае у него будет хорошо звучать только местами, но не в целом. У действительно творческого пианиста-художника «хороший звук» есть сложнейший процесс сочетаний и соотношений звуков разной силы, разной длительности etc. в целом.
Все это лишний раз доказывает то, что я говорил только что: звук есть одно из средств выражения у пианиста (как краска, цвет и свет у художника), самое главное средство, но средство, и больше ничего.
Ясно, что хороший пианист с плохим звуком contradictio in adjecto — явление невозможное. Работать над звуком можно реально, только работая над произведением, над музыкой и ее элементами. И эта работа, в свою очередь, неотделима от работы над техникой вообще.
Различие, разнообразие звуковой картины у разных (крупных) исполнителей бесконечно в связи с различием их индивидуальностей, совершенно так же, как различны краски, цвет и свет у больших художников: сравните, например, Тициана и Ван-Дейка, Веласкеса и Греко, Врубеля и Серова и т. д. И параллельно вспомните звуковую картину Бузони и Гофмана, Петри и Корто, Рихтера и Гилельса, Софроницкого и Оборина и т. д.
Чем ниже художественный уровень исполнителя, чем меньше у него своего, индивидуального, тем однообразнее и тем более схожа с другими подобными исполнителями будет даваемая им звуковая картина. Поучительным примером в этом смысле является вышесредний ученический вечер, где очень трудно отличить одного ученика от другого, хотя (бы все и играли «очень хорошо».
Простая логика требует признания того, что всякая игра на фортепьяно, поскольку целью ее является звукоизвлечение, «производство звука», есть неминуемо работа над звуком, вернее, со звуком, безразлично, играется ли упражнение или художественное произведение. Играть «плохим» звуком гаммы так же противопоказано, как играть плохим звуком ноктюрны Шопена. Когда большой пианист работает над техническими проблемами, то поражает, прежде всего, не только быстрота, точность, сила etc., но и качество звука.
{82}
* * *
Я полагаю, что у каждого пианиста работа над звуком, если уже он задается специально этой целью, протекает по-разному, в зависимости от его индивидуальных свойств. Трудно предположить, например, чтобы Шопен, звуковой «потолок» которого, по свидетельству современников, был приблизительно mezzo forte (mf), работал так, как Рахманинов, у которого звуковой «потолок» был несравненно выше (пять или шесть forte). Но не забудем при этом, что, по свидетельству тех же современников, Шопен обладал в пределах от крайнего pianissimo до упомянутого mf таким разнообразием звука, то есть нюансировки, такой богатой палитрой, какой и в помине не было у пианистов, обладавших гораздо большей абсолютной силой. Это надо особенно подчеркнуть, это именно важнее всего.
Я мог бы ограничиться изложенными в этой главе соображениями о звуке и работе над ним.
Приведу только несколько советов, которые приходится давать ученикам, когда со звуком у них обстоит неладно.
1. Как я уже говорил, необходимая предпосылка хорошего звука — полная свобода и непринужденность предплечья, кисти и руки от плеча до кончиков пальцев, которые должны быть всегда начеку, как солдаты на фронте (ведь решающим для звука является прикосновение кончика пальца к клавише, все остальное: рука, кисть, предплечье, плечевой пояс, спина — это «тыл», который должен быть хорошо организован—«все для фронта!»—если уж дозволено продолжить военную метафору).
2. На самой еще первоначальной ступени пианистического развития я предлагаю следующие простейшие упражнения для приобретения разнообразия звука, нужного для игры вообще, и особенно для исполнения полифонической музыки:

{83} Потом проделать то же на четырехзвучных и пятизвучных аккордах; достаточно проработать это в трех-четырех тональностях.
Полезны также следующие первоначальные упражнения:

Их следует проработать в нескольких тональностях в медленном, умеренном и быстром темпе, попеременно играя один голос staccato, другой legato.
Если в полифонической музыке ученику не удастся достаточно выпукло (пластично) воспроизвести многоголосную ткань, полезно прибегнуть к методу «преувеличения», например, следующее трудное место из фуги Баха es-mol (I т., №8) играть динамически так:

(для ясности выписываю два верхних голоса на отдельных строчках). Для малоопытного ученика трудность представляет здесь скрещивание голосов.
4. Одна из очень распространенных ошибок у учеников (даже подвинутых), на которую часто приходится обращать внимание, это динамическое сближение мелодии и аккомпанемента, недостаток «воздушной прослойки» между первым и вторым планом или между разными планами, что одинаково неприятно как для зрения в картине, так и для слуха в музыкальном произведении. Здесь преувеличение динамического расстояния между мелодией и аккомпанементом также может многое объяснить и уточнить ученику. Этой погрешностью страдают многие {84} дирижеры, позволяющие слишком громко играть духовым, особенно медным, в местах, где они являются только носителями гармонии.
5. Очень часто приходится повторять старую истину, что когда написано в нотах crescendo, то нужно (в этом месте) играть piano, когда написано dimin. — нужно играть forte. Точное понимание и воспроизведение постепенности (перспективы) динамических оттенков—существеннейшее условие создания правильного звукового образа. Между тем, у многих пианистов и дирижеров длительное crescendo мгновенно переходит в откровенное forte; этим ослабляется задуманная композитором кульминация: горная вершина превращается в плоскогорье. Обычно для наглядности я напоминаю ученикам разницу между арифметической и геометрической прогрессией; так же в случаях исполнения ritenuto и accellerando.
6. О знаменитом пианисте Таузиге известно, что он любил после концерта, придя домой, проиграть всю исполненную им программу очень тихо и нескоро. Пример, достойный подражания! Тихо — это значит: крайне сконцентрировано, внимательно, добросовестно, точно, тщательно, красивым, нежным звуком; чудесная диета, не только для пальцев, но и для слуха, мгновенное исправление неизбежно возникающих при темпераментном концертном исполнении некоторых неточностей и случайностей!
7. Приходится часто повторять, что так как фортепьяно не обладает продолжительностью звука, свойственной другим инструментам, то нюансировка не только мелодической линии, но и пассажей, должна быть, как правило, более богата и гибка (преувеличена по сравнению с другими инструментами), чтобы ясно передать интонацию (повышения и понижения) исполняемой музыки (Сравните превосходные указания Г. Бюлова к Adagio из сонаты ор. 106 Бетховена (место с тридцать вторыми в правой руке) или ко второй части ор. 111 (четвертая вариация с тридцать вторыми).).
Конечно, исключением являются такие случаи, когда требуется совершенно ровная, лишенная нюансировки, звучность, например, мертвенная однообразная {85} звучность органной фуги e-moll в переложении Бузони (в приложении к первой части Wohltemperiertes Clavier) или, как бывает часто, длительное, большое ровное f и т. д.
8. То, что у очень одаренных учеников достигается интуитивно (конечно, в связи с упорной работой): полная согласованность работы пальцев и руки, вообще двигательного аппарата, с требованиями слуха, звуковым замыслом, — в большей мере поддается осознанию и развитию также у гораздо менее одаренных пианистов.
Два примера этой согласованности: каждый опытный пианист знает, что для достижения «нежного», «теплого», «проникновенного» звука необходимо нажимать клавиши очень интенсивно, «глубоко», но при этом держать пальцы как можно ближе к клавишам и соблюдать h, близкую к minimum’y, то есть равную высоте клавиши перед нажатием пальца.
Наоборот, для достижения большого, открытого, широко льющегося звука (вспомните итальянского тенора вроде Карузо или Джильи) необходимо использовать всю амплитуду размаха пальца и руки (при полнейшем гибком legato). Это только два маленьких примера, их можно бесконечно умножить; важно знать, практически знать, что анатомическое устройство человеческой руки и с точки зрения пианиста идеально разумное, удобное, целесообразное, дает богатейшие возможности для извлечения из фортепьяно самых разнообразных звуков.
Это устройство руки находится, разумеется, в полнейшем соответствии с устройством фортепьянного механизма. Симбиоз между рукой и клавиатурой у хороших пианистов полнейший! Но что это не всегда бывает — мы тоже великолепно знаем, и не только у учеников, но и у зрелых пианистов.
Иногда при большом длительном f или ff иной пианист кипятится и пыхтит и как бы не замечает, что вместо усиления звука происходит обратное — ослабление его, а подчас простое стучание. Это напоминает человека, у которого слабеет голос и который старается говорить как можно громче, но вместо этого начинает хрипеть. У пианиста это происходит именно из-за несогласованности между звуковым требованием и двигательным процессом — процессом, обычно в таких случаях несвободным, {86} напряженным и заторможенным.
Впрочем, никогда не надо забывать, что физическая (двигательная) свобода на фортепьяно немыслима без свободы музыкальной, то есть духовной. У пианиста, который не может передать музыкальную выразительность без истерики или судорожности, и технический аппарат будет неизбежно судорожным и истеричным, то есть несовершенным, а главные компоненты музыки — время (ритм) и звук — будут извращены и исковерканы. Старинная латинская поговорка — mens sana in corpore sano (здоровый дух в здоровом теле) — сохраняет всю свою силу и для пианиста. Об этих простых истинах приходится часто говорить в классе, и потому я о них напоминаю здесь.
9. Вопросы звука в произведениях, требующих употребления педали (то есть почти всегда), нельзя рассматривать в отрыве от вопросов педализации, как нельзя установить правильную педаль в отрыве от звука, от качества звука. Я уже говорил об этом. Полезно, конечно, любую вещь иногда проигрывать без педали (чтобы легче было проследить точность, отчетливость и ясность каждого звука), но еще «полезнее» будет учить произведение с правильной педалью, так как только при ее содействии можно добиться нужного звукового результата. Но об этом подробнее в разделе о педали.
10. Одна из самых благодарных, но и трудных для пианиста задач — создание звуковой «многоплановости». Я уже говорил об этом выше, когда сравнивал музыкальное произведение с картиной. Всякая полифония уже есть «многоплановость». Надо суметь сыграть выразительно и независимо тему и спутника и другие сопровождающие голоса.
Основная тенденция полифонии (Urform полифонии): движение голосов в противоположных направлениях; самый чистый пример, осуществимый полностью только в двухголосии,— прелюдия Баха Fis-dur из второго тома (такты 53 и 55), такты перед концом фуги As-dur (II т.). Укажу также на «зеркальное» направление звуков и движения пальцев в тактах 9, 10, 11, 12 из d-moll-ной прелюдии (II т.) или во второй теме второй части четвертой сонаты Прокофьева (опускаю сопровождающие шестнадцатые)
{87}

То же находим в заключительной партии прокофьевской третьей сонаты. Эта тенденция — тенденция противопоставления, зеркальности — осуществима в полифонии, превышающей двухголосие, только средствами различной нюансировки, то есть динамической многоплановости, соответствующей точно полифонической ткани и ее смыслу.
Еще более необходима эта многоплановость в транскрипциях оркестровых произведений (например, в знаменитой заключительной сцене «Тристана» — «Смерть Изольды» в обработке Листа), но также в любом фортепьянном произведении, будь это фантазия Шопена или соната Бетховена, или фантазия Шумана etc., etc. (предлагаю желающим самим выбрать самые яркие примеры).
Примеры «многоплановости» мы, прежде всего, находим в любом полифоническом произведении, начиная от инвенций и фуг Баха, Генделя и кончая фугами Глазунова, Танеева, Регера, Шимановского, Шостаковича.
Но, конечно, примеров «многоплановости» множество в музыке самых различных стилей. Приведу несколько типичных случаев.
а) Этюд Шопена es-moll (шестой) ор. 10. Первый план — мелодия, второй план — бас, длинные, длящиеся целый такт или полтакта нижние ноты, третий план — движение шестнадцатыми в среднем голосе. При несоблюдении этой естественной трехплановости, которая сейчас же переходит в четырехголосие, то есть требует уже четырех планов, все произведение, как бы «выразительно» ни пытались его играть, становится туманным и {88} неясным (Типичный пример «трехплановости»—органные хоральные прелюдии Баха Es-dur и G-dur в транскрипции Бузони.).
Мне много раз приходилось это объяснять в классе; очень часто шестнадцатые среднего голоса игрались слишком громко в сравнении с басом (см. пункт 11), музыка теряла опору, становилась «безногой».
Здесь очень кстати вспомнить Антона Рубинштейна, называвшего оба пятых пальца «кондукторами», ведущими музыку. Граница звучания (нижняя и верхняя) для музыки то же, что рама для картины; малейшая неясность (особенно часто встречающаяся на нижней границе, в басу) ведет к расплывчатости и бесформенности; музыкальное произведение становится (как я иногда говорю ученикам) или «всадником без головы», если гармония и бас пожирают мелодию, или «безногим калекой», если бас слишком слаб, или «пузатым уродом», если гармония пожирает и бас, и мелодию (к сожалению, последнее приходится нередко слышать в оркестре).
Как ни примитивно и общеизвестно то, что я пишу здесь, а повторять это в классе приходится часто. Очевидно, между знанием и выполнением задачи — порядочная дистанция (теория и практика, план и воплощение, познание и действие) .
б) Шопен, ноктюрн c-moll, реприза первой темы (agitato). Весьма нелегкое для ясного, пластичного исполнения место, вследствие очень полного, многозвучного гармонического сопровождения («середина»), октавных басов и мелодии, ведомой одним пятым пальцем и долженствующей доминировать над всем остальным. Если тут возникает опасность появления «всадника без головы», то я рекомендую прибегать к упомянутому способу «преувеличения»: пытаться играть мелодию очень f , сопровождение — р, а басы тр (приблизительно).
Аналогичную трудность представляет весь конец Полонеза-фантазии ор. 61 Шопена (после унисонного пассажа в правой и левой и до конца) (Предельно ясно и выразительно исполняет это место Рихтер и не только благодаря огромному музыкальному таланту, но и огромным, мощным рукам. Маленькие руки всегда в таких местах должны стараться «хитрить».).
{89}в) Скрябин, четвертая соната—весь конец (ff). Ta же трудность. Несмотря на огромное f при семи- восьмизвучном аккордовом гармоническом сопровождении и полных басах в октаву, мелодия, выполняемая одним пятым пальцем, должна господствовать :

От бедного мизинца много требуется! Отсюда вывод: всемерно укрепляй мизинец, преврати его в самую крепкую колонну под сводом твоей руки! (Однако о пальцах поговорим в разделе о технике).
г) Гораздо легче для исполнения такие случаи многоплановости, как, примерно, вторая тема Des-dur в скерцо № 3 Шопена (cis-moll), не только вследствие крайнего противопоставления регистров, но и вследствие того, что разные звучности следуют одна за другой, а не даются одновременно (горизонталь вместо вертикали).
Аналогичный пример — этюд Дебюсси «Противоположение звучностей» (из второй тетради). Но и здесь, хотя выполнение легче, следует тончайшим слухом определить и воспроизвести пальцами степень различия и качества звучностей, а это требует хорошего воспитания и слуха, и туше.
д) В современной музыке — у Скрябина, Рахманинова, Дебюсси, Равеля, Прокофьева, Регера, Шимановского и других можно найти множество особо ярких примеров звуковой «многоплановости». Рекомендую желающим самим заняться нахождением таких мест и пьес и изучением их с целью усовершенствования своей звуковой техники. Поле деятельности необозримое! Ясно, что если играющий музыкально понимает, то есть слышит эту многоплановость, то он обязательно найдет средства для ее передачи, если же он еще слишком увязает в технических недоделках и не умеет мысленно прослушать музыку, то учитель должен ему помочь.
11. Очень и очень часто приходится напоминать ученикам, что длинные ноты (целые, половинные, ноты, {90} длящиеся по нескольку тактов) должны быть, как правило, взяты сильнее, чем сопровождающие их ноты более мелких длительностей (восьмые, шестнадцатые, тридцать вторые etc.),— опять-таки из-за основного «дефекта» фортепьяно: затухания звука (на органе это правило само собою отпадает).
Меня подчас удивляло, что даже очень талантливые ученики не всегда обнаруживали достаточно требовательный слух в этом отношении и недостаточно пластично передавали музыкальную ткань. Невоспитанность слуха сказывается часто также в перегрузке звука на басовых нотах («громыхание») в f. Особенно неприятно это громыхание у Шопена, который совершенно не допускает грубых, грохочущих басов (у Листа, наоборот, часто слышатся литавры и тарелки в басах, но это вовсе не значит, что по роялю надо бить и стучать).
12. Очень распространенный недочет, пагубно отражающийся на качестве звука и встречающийся у учеников с небольшими или маленькими руками (особенно у женщин), это — преобладание (динамическое) в октавах и аккордах первого пальца над пятым (в правой руке), что особенно недопустимо в случаях, когда октавы являются удвоенной мелодией (например, конец третьей баллады Шопена) и в тысяче подобных мест:

В этих случаях я рекомендую ученику тщательно учить каждый голос отдельно, а кроме того, поиграть великолепные упражнения для двойных нот (начиная с хроматических секунд, так как и они встречаются в {91} фортепьянной литературе, например, у Равеля и Шимановского, и кончая октавами), упражнения, которые приводит Годовский в примечаниях к gis-moll'номy терцовому этюду из ор. 25 Шопена в своей обработке для левой руки. Главный смысл этих упражнений состоит в том, что они здесь рассматриваются как упражнения полифонические, двухголосные, это не только двойные ноты, но и два голоса, которые надо уметь сыграть по-разному. Приведу эти упражнения, так как этюды Шопена в обработке Годовского очень трудно достать.
Возьму для примера хроматические малые терции (точно такие же упражнения, естественно, рекомендуются для октав, секст — вообще, как я уже говорил, для любых двойных нот):

{92}

(сверху вниз glissando, как везде):
з)

(это упражнение, как и везде,— вверх и вниз на две или три октавы, сперва не быстро, потом presto possibile).
{93}
Если играть по этой системе упражнения для октав, то §§ «д» и «е» будут выглядеть так:

(играть и хроматически, и по трезвучиям, и по септаккордам, см. упражнения Листа в двенадцати тетрадях). Смысл остановки на первой октаве состоит в том, чтобы рука, играя в дальнейшем только один звук октавы, сохраняла растяжение на октаву, а не сжималась «нечаянно» в кулак.
Обращаю внимание на то, что эти упражнения я мог бы привести, быть может, с гораздо большим основанием в разделе о технике, но я нарочно привожу их здесь, так как технические упражнения — это упражнения для звука. Этим я еще раз хочу подчеркнуть, что всякая работа над звуком есть работа над техникой, и всякая работа над техникой есть работа над звуком.
13. В тесной связи с упомянутым в предыдущем пункте недочетом стоит та, весьма распространенная у учеников с небольшими руками небрежность, с которой они в октавах и аккордах опускают незанятые в данном аккорде пальцы (или, если в октаве, то иногда и все три средние пальца, второй, третий и четвертый) на попадающие под эти пальцы клавиши. Как только при этом «приеме» ученик начинает играть f или ff, то пальцы, в piano слегка прикасавшиеся к клавишам, начинают просто по ним ударять — «издавать звуки», эти милые пальчики мы в классе называем сочувствующими».
{94}Понятно, что для исправления этого недочета нужно прежде всего заставить ученика хорошо услышать получающуюся при этом какофонию, а затем просто посоветовать держать незанятые в данном созвучии пальцы повыше, смотреть, чтобы они невзначай не прикоснулись к клавишам, а кисть держать пониже (что для маленьких рук бывает затруднительно, но тем не менее необходимо) для того, чтобы пальцы «смотрели вверх, а не вниз».
Интересно отметить, как у настоящих виртуозов, например у Гилельса, незанятые пальцы всегда сохраняют должное расстояние от клавишей (никогда не прикасаются к ним). Этим и достигается та точность и чистота звука, которая так неотразимо действует на слушателя.
Обращаю внимание: и здесь техническая проблема есть в то же время звуковая проблема.
14. Я уже говорил о том, что пианист не может обладать красивым певучим звуком, если слух его не улавливает всей доступной фортепьяно протяженности звука вплоть до его последнего потухания (f > ррр...).
Но при этом не надо забывать, какой поразительной яркости, какого блеска достигает исполнение таких пианистов, например, как Горовиц, которые очень экономно употребляют педаль, часто пользуются приемом non legato и вообще умеют «молоточковые» ударные свойства фортепьяно выставить в самом выгодном свете (конечно, это не имеет ничего общего с «сухостью» или «стучанием»).
Вывод ясен: развивать в своем аппарате и те и другие свойства, тем более, что фортепьянная литература этого настойчиво требует.
Повторяю: и средний пианист, и крупный пианист, если только они умеют работать, будут обладать своей индивидуальной звучностью, сообразной их психическому, техническому и физическому складу, и никогда не будут походить на вместилище «универсальных» звуковых приемов, на склад всех возможных технических совершенств.
Таких явлений, к счастью, не бывает. Об универсальности и в этом исполнительском плане можно говорить в том смысле, как говорится об универсальности вообще, то есть в аспекте всей истории музыки. Надо {95} согласиться с тем, что именно высочайшие достижения исполнительского искусства (например, игра Моцарта или Баха, Антона Рубинштейна или Рахманинова, Паганини или Листа) приходят и уходят, уходят навсегда. Но горевать не приходится; на их место рождаются новые. Жизнь искусства в этом смысле совершенно подобна самой природе.
Я говорю трюизмы, но говорю нарочито. Забвение этих простых истин приводит к ложным мнениям, к ложным притязаниям, с которыми приходится встречаться на каждом шагу.
* * *
Я мог бы привести еще массу материала по поводу работы над звуком, материала, который ежедневно и непосредственно появляется во время работы с учениками. Я почти уверен, что забыл рассказать кое-что очень важное и, может быть, напрасно останавливался на второстепенном. Из боязни слишком надоесть и себе и предполагаемому читателю, думаю поставить здесь точку. К тому же я не собираюсь эти записки превращать в учебник фортепьянной игры.
А кончить эти записки о звуке мне хочется словами, которые иногда говорю моим ученикам: звук должен быть закутан в тишину, звук должен п о к о и т ь с я в тишине, как драгоценный камень в бархатной шкатулке.
{96}
ГЛАВА IV
О РАБОТЕ НАД ТЕХНИКОЙ
ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
В этой главе я попытаюсь высказать некоторые соображения не о том, что надо делать, а как надо делать то, что называется художественной фортепьянной игрой. Это и есть вопрос техники. Повторяю еще раз: чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и то, как это сделать. Цель сама уже указывает средства для ее достижения. В этом разгадка техники действительно великих пианистов — они воплощают слова Микеланджело: la man che ubedisce all intelletto (рука, повинующаяся интеллекту). Вот почему я настаиваю на том, чтобы музыкальное развитие предшествовало техническому или по крайней мере шло с ним непрерывно, рука об руку.
Технику нельзя создавать на пустом месте, как не может быть создана форма, лишенная всякого содержания. Такая «форма» равна нулю, она фактически не существует. Самое простое, лаконичное и здравое определение художественной техники я нашел у А. Блока. «Для того, чтобы создавать произведения искусства, — говорит он, — надо уметь это делать» (Из речи «О назначении поэта». 1921 г.).
В этом сходство между хорошим инженером, воздухоплавателем, художником, врачом, ученым: все они «умеют это делать». Чкалов так же умеет перелетать через Северный полюс, как Шостакович написать симфонию. Об этом-то умении, умении художественно играть на рояле я и хочу поговорить.
Я уже выше говорил, что исполнение состоит, грубо говоря, из трех элементов: во-первых, {97} исполняемого (музыки), во-вторых, исполнителя, в-третьих, инструмента. Мы временно отрешимся от первого звена (исполняемого) и сосредоточим внимание на остальных двух: пианисте и фортепьяно. Кое-что принципиальное о том и другом я не мог не высказать уже в предыдущих главах, но более пространно буду говорить здесь. Вот несколько простых тезисов:
1. Для достижения техники, позволяющей исполнять всю фортепьянную литературу, необходимо использовать все имеющиеся у человека природные анатомические двигательные возможности, начиная от еле заметного движения последнего сустава пальца, всего пальца, руки, предплечья, плечевого пояса, вплоть до участия спины, в общем, всей верхней части туловища, начиная от одной точки опоры — кончиков пальцев на клавиатуре, и кончая другой точкой опоры — на стуле. Это как будто трюизм. Однако могу доказать, что очень многие пианисты не пользуются всеми возможностями, заложенными в нашем теле.
Ноги тоже работают, так как нажимают педали. Зрелый пианист знает хорошо, какие «силовые установки», скрытые в его теле, включать в работу и когда, и какие выключать и почему. Незрелый — или стреляет из пушек по воробьям, или выходит с детским револьвером против батареи.
2. Играть на рояле — легко. Я имею в виду физический процесс, но не вершины пианизма как искусства. Ясно, что очень хорошо играть на фортепьяно так же трудно, как делать любое дело очень хорошо, например, рвать зубы или мостить улицу.
Достаточно двух простых доказательств, что играть легко: первое — клавиши движутся чрезвычайно легко; достаточно немного более веса спичечной коробки, чтобы заставить струну зазвучать, для пальца это усилие ничтожное; второе—подняв руку не выше, чем на 20—25 сантиметров над клавиатурой и опустив с этой высоты (h) палец (или несколько пальцев) на клавишу (или клавиши) совершенно свободным весом, «чистой тяжестью» руки без всякого нажима (давления), но и без всякого торможения «come corpo morto cadde» («как падает мертвое тело»—Данте), вы получите звук максимальной силы, достигнете динамического потолка {98} фортепьянного звучания.
Зная, как легко играть, то есть как легко извлечь самый тихий и самый громкий звук, установить нижний и верхний пределы реальной фортепьянной динамики, можно тоже сразу сказать, что является самым трудны и в фортепьянной игре (опять-таки только с точки зрения физического процесса): самое трудное — играть очень долго, очень громко и очень быстро (Предлагаю каждому сейчас, же мысленно составить себе перечень мест из фортепьянной литературы (также этюдов), доказывающих справедливость моего утверждения.).
Между этими двумя пределами (я уже говорил, что люблю установить «начала и концы» любого явления) лежит, в сущности, вся фортепьянная техника, рассматриваемая как физический двигательный процесс.
3. Обращаю внимание на следующее упражнение (можно и h вместо his}:

Я мог бы к этому ничего не прибавлять и предоставить каждому предаться размышлениям об этой маленькой, всем известной, гениальной по своей «дальнобойности» фортепьянной формуле. Все-таки несколько слов сказать надо.
Эти пять нот: ми, фа-диез, соль-диез, ля-диез, си-диез — содержание первого урока фортепьянной игры Шопена. Может быть, не первого с данным учеником по времени, но первого в систематическом отношении.
С течением времени (далеко не сразу) я пришел к заключению, что с этих-то пяти нот и надо начинать всю методику и эвристику фортепьянной игры, изучения фортепьяно, что это и есть краеугольный камень, «колумбово яйцо», пшеничное зерно, дающее тысячный урожай.
Одна эта маленькая формула поистине «томов премногих тяжелей» (имею в виду «томы» Штейнгаузена, Брайтгаупта, Мальвины Брэ, Яэлл и других). Что же так привлекает меня в этой формуле?
{99} Шопен, как известно, ставил руку ученика на эти пять нот, представляющих самое удобное, самое естественное, самое непринужденное положение руки и пальцев на клавиатуре, так как более короткие пальцы — первый и пятый — попадают на белые клавиши, расположенные ниже, а более длинные пальцы — второй, третий и четвертый — на черные клавиши, находящиеся выше. Ничего более естественного, «природного», нельзя найти на клавиатуре, чем именно это положение.
Каждому понятно, насколько менее удобно и естественно положение пяти пальцев на одних белых нотах: до, ре, ми, фа, соль.
Он заставлял играть эти пять нот подряд не legato, (это могло бы у неопытного начинающего вызвать некоторое напряжение, зажатость), но легко portamento, с участием кисти, так, чтобы чувствовать в каждом суставе полную гибкость и свободу.
Этот простой прием заставляет играющего сразу подружиться с инструментом, почувствовать, что фортепьяно и клавиатура не чуждая, опасная или даже враждебная машина, а существо близкое, родное и понятное, при ласковом и свободном обращении с ним идущее навстречу человеку, жаждущее сближения с человеческой рукой, как цветок жаждет сближения с пчелой и не прочь отдать ей всю свою пыльцу. А вместо этого — сколько сотен и тысяч достойных сожаления новичков в продолжении скольких лет по указанию педагога при первом прикосновении к клавиатуре старались превратить свою живую руку с нервами, мышцами, гибкими суставами и пульсирующей кровью в кусок дерева с загнутыми крючками и извлекать этими крючками обидные для слуха звуковые сочетания вроде:

(то же зеркально в левой руке).
Поистине, нет лучшего средства воспитания слуха, {100} как приучать ребенка с самого начала к таким прелестным созвучиям, как:

Отсюда до формализма прямая дорожка, но наши уважаемые предки об этом, очевидно, не догадывались! А раздосадованный рояль скалит на бедного неофита свои кариозные зубы и издает лающие звуки!
Как мы знаем от Микули, Шопен предлагал ученикам сперва играть гаммы со многими черными клавишами (самая удобная для начала в правой руке гамма Н-dur, в левой соответственно Dеs-dur), и затем лишь, постепенно убавляя количество черных клавиш, дойти до самой трудной гаммы—на одних белых — C-dur. Так рассуждает настоящий реалист, практик, знающий свое дело не понаслышке, а изнутри, по существу.
И, несмотря на то, что гениальный композитор, пианист и учитель Шопен жил так давно, после него (не говоря о том, что было до него) были написаны сотни и тысячи упражнений, этюдов и инструктивных пьес в излюбленном до мажоре с явным пренебрежением к другим, многодиезным и бемольным тональностям.
Кроме как излишней любовью к слоновой кости и неуважением к черному дереву, трудно объяснить эту однобокость. Не думайте, что я так наивен и не принимаю во внимание логики квинтового круга, в начале которого стоит С и в соответствии с которым построена наша клавиатура; я только подчеркиваю, что теория фортепьянной игры, имеющая дело и с нашей рукой, ее физиологией, имеет свою специфику, отличную от теории музыки. Шопен, как учитель фортепьянной игры, был диалектиком, а авторы «инструктивных» сочинений — схематиками, чтобы не сказать схоластиками.
4. Фортепьяно—механизм (к тому же сложный и тонкий), и работа человека на нем в известном смысле «механическая», хотя бы потому, что надо привести свой организм в согласие с механикой. При извлечении звука из фортепьяно энергия руки (пальцев, предплечья, {101} всей руки и т. д.) переходит в энергию звука. Энергия удара, получаемого клавишей, определяется силой — F — нашего воздействия на руку и высотой — h — поднятия руки перед опусканием на клавиши. В зависимости от величины F и h рука в момент удара имеет различную скорость—v. Именно эта величина (v) и масса (m) ударяющего тела (пальца, предплечья, всей руки и т. д.) определяют энергию, получаемую клавишей.
Многие мои ученики так хорошо усвоили практическое значение этих величин, что мне стоит иногда сделать краткое замечание: v слишком велико! — как ученик снижает скорость падения руки на рояль, и звук делается полнее и мягче. Или приходится заметить: F слишком мало, и ученик сразу понимает, что не дал достаточно глубокого и компактного звука, так как он ошибочно отнял у своей руки часть ее естественного веса, так сказать, приостановил падение этого веса до того, как рука коснулась клавиатуры (Против одного пианиста, прекрасного музыканта и мастера, я имею одно лишь возражение: h и v преувеличены!).
Но я уже выше (в главе о звуке) говорил об этом. Думаю, что практическое значение «символов» m, v, h и F настолько просто и ясно, что здесь не стоит об этом больше распространяться; впрочем, мне придется еще не раз к ним вернуться.
Меня могут спросить: а для чего вся эта математика в соединении с музыкой, ведь все это можно выразить не так сухо и рассудочно? Вот мой ответ: я уже выше говорил, что чем лучше пианист знает ( Раз навсегда прошу помнить, что под словом знание, познание у художника я всегда подразумеваю активную силу: понимать плюс действовать. Или еще проще: правильно действовать на основе правильного мышления) те три слагаемые, о которых говорилось, то есть, во-первых, музыку, во-вторых, себя самого и, в-третьих, фортепьяно, тем больше гарантий, что он будет мастером, а не дилетантом. И чем больше он сумеет привести свои знания к точным формулировкам, имеющим силу закона, хотя бы и отдаленно приближенным к математическим, тем прочнее, глубже и плодотворнее будет его знание. Кто с этим сразу же не согласится, тому помочь нечем.
{102} И пусть не беспокоятся те, кто так дорожит «тайной» искусства; тайна искусства, непознанная, остается во всей своей силе, во всем объеме, совершенно так же, как в жизни. Только не надо видеть «непознаваемое» там, где здравый смысл, «перед которым мы так грешны», прекрасно все может понять. А что принципиально непознаваемого вообще нет, это сейчас всякий ребенок знает.
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 3351; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
