ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ 108 страница
Среди романистов Еж был ярчайшим выразителем идеологии «непримиримых», к которым на первых порах принадлежали также М. Балуцкий, Я. Лям, Ю. Нажимский и др.
В творчестве «непримиримых» — из-за их неприятия действительности — раньше, чем у позитивистов, наметилось верное понимание разлагающего действия буржуазных отношений на человеческую личность. Именно среди «непримиримых» возникло самое мощное после 1863 г. сатирическое направление, содействовавшее утверждению реализма. Его основоположник Ян Лям (1838—1886) жил в Галиции, уродливый быт которой послужил мишенью прославивших его имя фельетонов и сатирических повестей. К его лучшим произведениям принадлежат «Высший свет Козлищ» (1869), «Головы для позолоты» (1873) и «Удивительные карьеры» (1880).
Позитивисты видели важнейшую задачу в разоблачении шляхетско-феодальных пережитков, клерикализма и т. п., что вполне отвечало духу критического реализма. Литература, реализовавшая эту часть позитивистской программы, складывалась на почве отображения текущей жизни и стремилась к познанию ее новейших явлений. Ей было свойственно художественное новаторство — нахождение новых средств выражения изменившегося образа мыслей и чувств. Главное течение в развитии польского реализма 60—70-х годов оказалось идейно зависимым от позитивизма. Под его знаменами вступали в литературу крупнейшие польские реалисты XIX в. — Ожешко, Сенкевич, Прус.
|
|
|
В атмосфере тех надежд, какие возлагала в 60—70-е годы на промышленный переворот почти вся прогрессивная польская интеллигенция, ее критическая мысль, естественно, ограничивалась сферой патриархальных пережитков и очень неглубоко постигала природу новых, складывающихся общественных отношений. Более того, наивная вера в «наш век» — в век цивилизации — нередко приводила писателей, близких позитивистскому течению (а к нему в начале 70-х годов присоединилось и большинство «непримиримых»), к тенденциозному приукрашиванию героя деловой эпохи. Идеализировались не только люди труда, идущие в ногу с веком (ремесленники, врачи, инженеры), но и предприимчивые помещики, и капиталисты, и даже магнаты, проявлявшие активность на общественном поприще. Утилитарная эстетика привела к развитию так называемой тенденциозной литературы — рассказов, повестей, романов, пьес и даже стихов «с тезисом», носивших иллюстративный, дидактический характер. К этого рода литературе относятся ранние повести и романы Ожешко, Балуцкого; сборник рассказов Свентоховского «За жизнь» (1879) и другие произведения.
Влияние позитивистской тенденциозности сказывалось в романах заметнее, чем в новеллистике. Поэтому на первом этапе своего утверждения реализм в Польше успешнее развивался в малых жанрах. Рассказ был той формой, в которой наиболее интенсивно происходил поворот литературы к отображению жизни низов. Даже в творчестве Ожешко, писавшей в основном повести и романы, переход к зрелому реалистическому мастерству очевиднее всего проявился в жанре рассказа («Из разных сфер», 1880—1882). Большое место в развитии польского реализма занимала также повесть.
|
|
|
Духу утилитарной эстетики, возводившей в норму непосредственное выражение идей и их иллюстрацию в образах, наиболее полно отвечали очерковые и полурепортажные жанры. Талантливым мастером острого публицистического слова был Свентоховский. На протяжении всей жизни для различных газет и журналов писал свои знаменитые «Хроники» Прус. В разных периодических изданиях освещал «текущие вопросы» Сенкевич. Лям прославил свое имя фельетонами «Львовской хроники».
Только крушение позитивистских идеалов создало предпосылку для решительного преодоления утилитарной эстетики, а следовательно — для качественного сдвига в развитии реализма. Такой момент наступил в начале 80-х годов, когда обострение классовых противоречий и рост народного протеста заставили многих писателей усомниться в своих идеалах и буржуазный оптимизм сменился неверием в социально-исцелительные возможности промышленного и научного прогресса.
|
|
|
478
Стремясь выйти из тупика, в который грозила завести литературу тенденциозность польских позитивистов, критика обращается к опыту французской литературы, прежде всего — к Золя. Однако доктрина автора «Ругон-Маккаров» в целом не встретила поддержки. Лишь позднее, в середине 80-х годов, из нее были восприняты положения о необходимости изучения «документов» жизни, их «научного» анализа и «абсолютной объективности», не считающейся ни с какими нравственно-воспитательными требованиями.
Развитие реалистического метода знаменуется в 80-е годы отказом от упрощенных приемов тенденциозной литературы. Принцип преломления действительности сквозь призму видения самих героев стал решительно вытеснять назойливый авторский комментарий с неотъемлемыми от него нравоучениями. Возросла тяга к объективному изображению людей и к правдоподобию образов, под которым в то время нередко подразумевали типичность. Наивная схема деления персонажей на положительных и отрицательных была отброшена. Польские реалисты, повторяя опыт Диккенса, Гоголя, тщательно описывали обстановку, которая связывала образ героя множеством нитей с материальными условиями быта, определявшими мысли, чувства, переживания и вообще весь склад его характера. Полнота бытовой детализации — также показательная черта реалистического стиля той эпохи. В это время получают распространение широкие, эпические обобщения, подготовленные реалистической новеллистикой предыдущего этапа. Ее достижения синтезировались в повестях и романах, причем сатира все резче выступала в социально-бытовом романе, ставшем в реалистической прозе той поры самым представительным жанром. Его развитию польская литература больше всего обязана Ожешко и Прусу.
|
|
|
Элиза Ожешко (1841—1910) родилась в семье богатого и образованного помещика. Воспитанная на чтении польских просветителей, французских энциклопедистов и английских позитивистов (Г. Бокль, Г. Спенсер и Д. С. Милль), она вошла в литературу как поборница демократизма, гуманности и технического прогресса. Уже в ее первом произведении — в рассказе о смерти влюбленной крестьянской пары «В голодные годы» (1866) — прозвучал обращенный к писателям призыв спуститься к социальным низам. Но захватившее Ожешко движение позитивистов надолго ограничило ее писательские интересы светскими салонами и конторами делового мира.
Ранние сочинения Ожешко — это ярчайшие образцы тенденциозной позитивистской прозы, проникнутой резонерством и назидательностью. Молодая писательница с жаром бичевала порочность традиционного воспитания («Дневник Вацлавы», 1867), хозяйственную неприспособленность и праздность шляхты, ускорявшие ее разорение («Эли Маковер», 1875; «Семья Брохвичей», 1876). Мишенью ее гневных нападок были тупость провинциального мещанства («В клетке», 1869), сословная спесь и моральная неразборчивость аристократии («Помпалиньские», 1876) и т. д. Как в публицистике, так и во многих повестях и романах она отстаивала идеи эмансипации женщин («Марта», 1873, и др.). Писательница интересовалась положением евреев в Польше и кроме ряда рассказов написала на эту тему роман «Меир Езофович» (1878), получивший, как и «Марта», общеевропейскую известность.
Разлад между позитивистской верой в благотворность буржуазных преобразований и действительными впечатлениями писательницы от жизни, который обострился в конце 70-х годов, привел к творческому перелому, когда она от восхваления благ буржуазной цивилизации перешла к ее критике. На распространение социалистических идей Ожешко откликнулась целым циклом романов («Призраки», 1880, и др.). Отвергая социалистические идеи, она вместе с тем с уважением отзывалась о самопожертвовании нового поколения бунтарей, мечтавших об общественном переустройстве. Обострение классовой борьбы вновь приковало внимание Ожешко к жизни низов, и прежде всего белорусских крестьян, трагедию которых она раскрыла в своих знаменитых повестях «Низины» (1884), «Дзюрдзи» (1885) и «Хам» (1886). С изменением отношения к действительности иной стала и поэтика Ожешко: из ее прозы исчезают схематизм, иллюстративность и морализаторство, повышается объективность показа героев, пластичность рисунка, психологическая глубина и тонкость обрисовки характеров.
Все эти изменения ярко проявились в романе «Над Неманом» (1887), который стал синтезом высших творческих достижений писательницы и одним из лучших творений польского критического реализма. Возвышенность мысли и драматизм сюжета, колоритные типы выродившейся аристократии, прижимистых помещиков и трудолюбивых земледельцев, многостороннее и детальное изображение хозяйственного уклада, поместного и деревенского быта, красочные жанровые сценки и чарующий белорусский пейзаж — все это, насыщая роман поэтической задушевностью, придает ему и
479
эпический размах. В этом наиболее толстовском из своих произведений Ожешко охватила всю послереформенную польскую жизнь на принеманских землях.
Подъем патриотических настроений в польском обществе перечеркнул прежнюю позитивистскую реакцию на события 1863 г., и Ожешко, чуткая к переменам в общественном сознании, отдала первую дань памяти повстанцев, с которыми ее связывали в дни минувшей борьбы и тревожные надежды деятельной участницы этого движения, и горе поражения. Отношение к традициям повстанцев 1863 г. романистка делает теперь мерилом нравственной и гражданской ценности человека. «Над Неманом» заканчивается примирением враждующих сторон на основе верности традициям шляхетского освободительного движения.
Осуждение городской культуры, нравственно растлевающей людей, калечащей их души и жизни, и осуждение буржуазных отношений пронизывает почти все позднейшие романы Ожешко. Лучшим из последних ее произведений признан сборник рассказов «Gloria victis» (1910). Вспоминая о героизме повстанцев 1863 г., она связывает патриотический идеал с борьбой за свободу народа и социальную справедливость.
Главной заслугой Ожешко перед польской литературой была разработка жанра социально-бытового романа. Ее творчество способствовало развитию связей польской литературы с французской, чешской, русской, украинской, белорусской и другими литературами. В годы расцвета своего реалистического таланта Ожешко поддерживала контакт с Салтыковым-Щедриным и, пожалуй, не меньше Пруса содействовала внедрению в отечественное искусство открытий Л. Толстого. Созданные ею картины «из разных сфер» белорусской жизни, в особенности крестьянской, стали позднее, в начале XX в., для белорусских писателей своеобразной школой реалистического мастерства.

Элиза Ожешко
Фотография
В идейно-творческой эволюции Ожешко особенно заметно пересечение двух линий польского литературного развития — пути, по которому шли «непримиримые», и пути, пройденного позитивистами, преодолевшими свою ограниченность. На стыке этих путей и рождались наиболее значительные произведения польского критического реализма, в том числе созданные Сенкевичем и Прусом.
Генрик Сенкевич (1846—1916), еще при жизни завоевавший широкую известность, и по настоящее время является в мире, пожалуй, самым знаменитым из польских классиков. Выходец из обедневшей шляхетской семьи, Сенкевич, получив университетское образование, избрал профессию журналиста. Он также начинал свой творческий путь приверженцем «молодых». Его отходу от позитивизма способствовали личные наблюдения над проявлениями развитого капитализма, какие он вынес из своей поездки в 1876—1879 гг. по Англии, США, Франции и Италии и отразил в «Письмах из путешествия» (1876—1878). Позитивистский оптимизм быстро сменился у Сенкевича глубоким неверием в буржуазную цивилизацию. Это и побудило его воскресить ту идею «поддержания духа», проникнутую культом любви к родному краю, которая, казалось, окончательно померкла вместе с закатом романтической поэзии «непримиримых». Польский патриотизм становится определяющим пафосом всех его произведений и вместе с тем основным мерилом человеческой и общественной ценности его героев. Какой бы темы ни касался писатель: русификации и онемечивания польских школ («Из дневника познанского учителя», 1879), трагедии деревенских детей (рассказы «Янко-музыкант», 1879; «Ангел»,
480
1880), эмиграции крестьян («За хлебом», 1880), скитаний на чужбине польского повстанца («Фонарщик на маяке», 1881), глумления прусской военщины над польским мужиком («Бартек-победитель», 1882), или печальной участи индейцев в Америке («Сахем», 1883), — всюду у него звучит протест поляка, скорбящего об угнетенном отечестве.
Новеллистике Сенкевича присущи красочность и многогранность показа героев, характеры которых почти всегда правдиво раскрываются в конфликтных столкновениях, рисуются живо и с большим чувством меры в переходах от лирических интонаций рассказа к иронии и сарказму, от юмора к трагедийности.
Окончательный разрыв Сенкевича с позитивизмом ознаменовала его историческая трилогия, первая часть которой (роман «Огнем и мечом», 1884) посвящена борьбе шляхетской Речи Посполитой с восставшей Украиной времен Хмельницкого, вторая («Потоп», 1886) — освободительной борьбе поляков со шведской интервенцией 1655—1656 гг. и третья («Пан Володыевский», 1888) — с турецким нашествием в 1672—1673 гг.
Фабульное построение трилогии близко к романам Дюма-отца в сочетании с эпической (былинной) обрисовкой героев, достигаемой путем преломления событий сквозь призму восприятия польских рыцарей. Такой способ стилизации повествования, придавшей ему исключительную увлекательность, усилил, однако, националистическую тенденцию автора в освещении захватнической войны польских панов против Украины. Стремясь «поддержать дух» соотечественников, романист во многом идеализирует родную старину, изображая события XVII в. исключительно в духе представлений шляхты о самой себе и окружающем ее мире, поэтому трилогия изобилует историческими искажениями, соответствовавшими, однако, мироощущению главных действующих лиц. В увлекательном, ярком повествовании Сенкевич воспевает патриотическую доблесть рыцарства, наделяя своих героев поистине богатырской силой и мужеством. Использовав открытия многих зарубежных романистов, автор трилогии синтезировал в ней все важнейшие достижения национальной исторической прозы и тем поднял польский исторический роман вальтер-скоттовского типа на высшую ступень.
К лучшим образцам польской классики относится также «Без догмата» (1890) Сенкевича. Этот роман знаменует собою высшее достижение польского критического реализма в жанре психологического романа. С центре внимания писателя — складывающийся тип декадентской интеллигенции, запечатленный им в образе представителя родовитой шляхты Плошовского. Ставя «диагноз больной души» нового поколения, Сенкевич обнаруживает причину ее недуга в безверии людей, отошедших от традиционных представлений о жизни, сознающих необходимость трудиться на благо своего народа, но в то же время питающих неодолимое отвращение к буржуазному делячеству и оттого не находящих применения своим способностям, страдающих избытком рефлексии, парализующей их волю. В романе, написанном в форме дневника героя, Сенкевич, развивая традиции польской психологической повести (кстати, небогатой) на основе инонационального опыта, в особенности Лермонтова («Герой нашего времени») и П. Бурже («Ученик»), создал произведение, вошедшее в мировую литературу как еще одно звено в эволюции образа молодого человека XIX в. Правда, в самой Польше этот роман оценивался весьма сдержанно, но Л. Толстой, Чехов и Горький причисляли «Без догмата» к лучшим достижениям европейской прозы своего времени.
Если у польских читателей наибольшим успехом пользовалась трилогия, то за пределами страны таким произведением Сенкевича стало «Камо грядеши?» (1896), удостоенное в 1905 г. Нобелевской премии. Этот роман из истории гонений на христиан при Нероне писался с явной целью апологии католицизма. Однако в различных уголках земного шара он завоевывал себе читателей прежде всего колоритным изображением быта и нравов языческого Рима, а также сильным эмоциональным зарядом протеста против нероновского деспотизма.
Наиболее реалистическим произведением из исторических романов Сенкевича являются, несомненно, «Крестоносцы» (1900) — эпопея из истории борьбы поляков с Тевтонским орденом на рубеже XIV и XV вв. Роман, по яркости уступающий предыдущим, был, однако, явно нацелен на возбуждение всенародного сопротивления немецкой экспансии; не имевший особого успеха при жизни писателя, он приобрел большое идейно-воспитательное значение в годы гитлеровской агрессии.
Из польских прозаиков того времени Сенкевич, пожалуй, более других способствовал развитию литературного языка и искусства пластической лепки образов. Для развития жанра исторического романа чрезвычайно продуктивным оказался разработанный им принцип отбора архаической лексики и синтаксических конструкций.
Болеслав Прус (1847—1912; настоящее имя — Александр Гловацкий) справедливо признан
481
крупнейшим польским прозаиком рассматриваемого периода. Сын обедневшего шляхтича, он еще гимназистом принял участие в польском восстании 1863 г. и ненадолго попал в тюрьму. Затем он поступил на физико-математический факультет в Варшаве, но не закончил его — приходилось думать о хлебе насущном, искать работу. Литературную деятельность Прус начал с юмористических рассказов и публицистических статей.
Прус был не так знаменит, как Сенкевич, и при жизни в зарубежной славе уступал даже Крашевскому и Ожешко. Однако в деле утверждения реализма в отечественной литературе ему принадлежит самая большая заслуга. Прус начал свою деятельность умеренным позитивисвом, твердо убежденным, что нормальное развитие нового, буржуазного уклада при необходимых коренных общественных реформах может привести к победе принципов всеобщего равенства и социальной справедливости. Во имя этих идеалов он боролся всю жизнь и пером публициста, и словом художника. Публицистика в его творчестве занимала еще большее место, чем у Сенкевича, и тоже была школой писательского мастерства. Начав с развлекательных юмористических рассказов, Прус перешел затем к острозлободневной социальной «новелле с тезисом» («Деревня и город», 1875, и др.). Вскоре он отказался от назидательной позитивистской тенденциозности и стал заботиться — особенно в пору расцвета своей новеллистики в 1878—1884 гг. — об объективности художественных обобщений, которые черпал из наблюдений над реальной жизнью простых людей, обманутых в надеждах на лучшее будущее, социально униженных и оскорбляемых в своем человеческом достоинстве. В тематическом аспекте творчество Пруса соприкасается с традициями Достоевского, хотя присущий польскому писателю юмор и нотки лирической задушевности, пронизывающие его тончайший социально-психологический анализ, скорее роднят эмоциональную атмосферу его новелл с позднейшими чеховскими рассказами. У Пруса можно найти немало превосходных сельских зарисовок, а также впечатляющих крестьянских и помещичьих типов. Но главным объектом его произведений был все же капиталистический город. Прусу принадлежит в польской литературе первая попытка показать стачку фабричных рабочих («Возвратная волна», 1880). Широко введя в литературу представителей городской бедноты, Прус, по словам Сенкевича, «раскрыл нам души этих людей, запечатлел их быт, долю и недолю, их обычаи, он первый отразил их образ мышления, их язык». Еще больше, чем Сенкевич, волновала Пруса судьба детей, а стилизация картин в духе представлений ребенка об окружавшем его мире стала, как у Диккенса, едва ли не самой характерной особенностью его писательского почерка («Сиротская доля», 1876; «Приключения Стася», 1879; «Анелька», 1880; «Грехи детства», 1883, и др.).
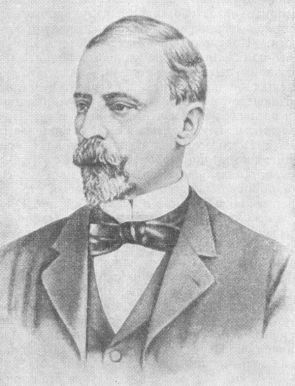
Генрик Сенкевич
Фотография
Разочарование Пруса в позитивизме, заметное в новеллах, еще сильнее ощущается в его повестях и романах. В повести «Форпост» (1885) автор показывает, что в капитализирующейся Польше шляхетская усадьба, перестав быть оплотом патриотизма, капитулирует перед немецкими колонистами, что в новой обстановке только мужик способен сопротивляться насильственной германизации отечества.
Дата добавления: 2021-04-07; просмотров: 64; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
