Конец ознакомительного фрагмента.
Александр Васильевич Назаренко
Древняя Русь и славяне
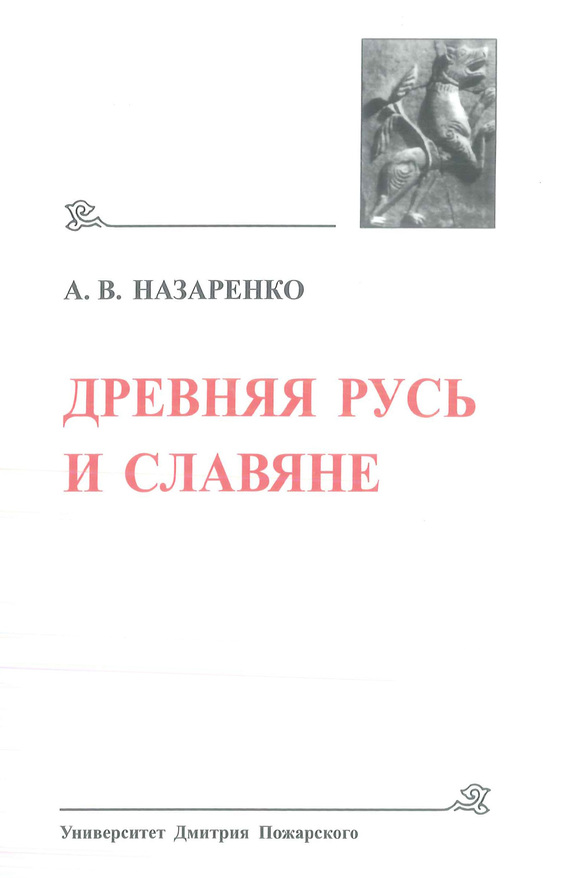
Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24137986&lfrom=329574480
«Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год) / Ин‑т всеобщей истории. / Назаренко А. В.– М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009.»: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке; Москва; 2009
ISBN 978‑5‑91244‑009‑0
Аннотация
Сборник, издаваемый к 60‑летию историка и филолога Александра Васильевича Назаренко, посвящен преимущественно истории Древней Руси. В нем собраны работы ученого главным образом последних лет, переиздаваемые в исправленном или сильно расширенном виде, а также новые статьи. Затронуты проблемы политического строя Руси XI–XII вв. (династические порядки и междукняжеские отношения, политическая история отдельных княжеств), истории церкви (становление и развитие епархиальной структуры Киевской митрополии, брачное право, феномен паломничества), государственной идеологии, историографии, топонимии (названия «Великороссия», «Малороссия», «Новороссия») и этимологии как древнерусского времени (название Киева), так и более раннего (скифский этноним «сколоты»). Этот корпус дополняют несколько работ по истории и историографии славян.
Александр Назаренко
Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год)
|
|
|
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Подготовлено к печати и издано Русским Фондом Содействия Образованию и Науке, 2009 год, в рамках проекта Университета Дмитрия Пожарского
Редакционная коллегия серии:
доктор исторических наук Е. А. Мельникова (ответственный редактор),
кандидат исторических наук Г В. Глазырина,
доктор исторических наук Т. Н. Джаксон,
доктор исторических наук И. Г Коновалова,
кандидат филологических наук В. И. Матузова,
доктор исторических наук А. В. Назаренко,
доктор исторических наук А. В. Подосинов,
доктор исторических наук Л. В. Столярова,
доктор исторических наук |И. С. Чичуров,|
член‑корреспондент РАН Я. Н. Щапов

Александр Васильевич Назаренко
Предисловие
Когда осенью 1974 г. автор этих строк впервые переступил порог академического Института истории СССР, незабвенный Владимир Терентьевич Пашуто, которому предстояло стать научным начальством новоприбывшего, осведомился о возрасте будущего сотрудника. Узнав, что «молодому ученому» 27 лет, он подавил вздох и утешил: «Ничего, я тоже поздно пришел в науку».
С тех пор минули эпические «ровно тридцать лет и три года». С признательностью принимая предложение коллег – теперь уже по Институту всеобщей истории Российской академии наук – отметить «закруглившуюся» дату неким флорилегием проделанного, юбиляр недолго колебался относительно содержания. В свое время, вынашивая грандиозную идею издания многотомного Свода древнейших источников по истории народов СССР, В. Т. Пашуто сплотил группу недавно покинувших университетские стены филологов (античников, византинистов, скандинавистов, славистов, германистов, арабистов) в Сектор истории древнейших государств на территории СССР, который mutatis mutandis жив, слава Богу, по сей день, хотя и много претерпел, επεί Τροίης ιερόν πτολίεθρον επράθετο, – о чем было бы говорить долго. При всем том Владимир Терентьевич мечтал, чтобы со временем из когорты «мобилизованных» филологов выросли источниковедчески искушенные (что без филологической основы немыслимо) историки Восточной Европы и прежде всего Древней Руси. Иными словами, его целью было восстановление некогда существовавшего в науке историко‑филологического единства, способного обеспечить тот самый комплексный подход к изучению Древней Руси, о котором сегодня так много говорится, но который покуда сводится чаще всего к эпизодическим собеседованиям разнопрофильных специалистов. На примере собственной судьбы в науке автор убедился, с какой поистине роковой неизбежностью совершалась эта перемена, как древнерусская история, поначалу в части международных связей Руси (которые, понятным образом, в первую очередь находили отражение на страницах иностранных источников), а потом и в целом, все более заполняла собой исследовательский горизонт.
|
|
|
|
|
|
Поэтому, ощущая горький привкус итоговости, неизбежно присущий любому, даже скромному, юбилею, мы сочли логичным собрать воедино ряд работ, посвященных прежде всего собственно Древней Руси, исключая ее внешние связи, несмотря на то что именно последние были предметом наших изысканий в течение долгих лет (впрочем, они в достаточной мере обобщены в другой книге[1]). Чистых исключений – два. Это небольшая статья об одном из аспектов деятельности просветителя славян святителя Мефодия и эссе об этимологии самоназвания скифов Σκολότοι (ΣκόλοτοιΊ). В оправдание скажем, что кирилло‑мефодиевская проблематика всегда (и справедливо) рассматривалась как общеславянское введение в русскую историю. Эту славяно‑русскую тему продолжает и статья о славянском язычестве. Что же касается этимологии – то лингвистический par excellence этюд об одной из восточноевропейских древностей перебрасывает тонкий мостик в филологическое прошлое автора, тем самым, в какой‑то мере символически, проставляя логические скобки и замыкая конец на начало, как то и положено по закону жизни. Кроме того, он хронологически и географически оттеняет две других тематически близких, но разножанровых работы: об этимологии названия Киев и о выдающемся русском этимологе – Олеге Николаевиче Трубачеве, великодушная поддержка которого (равно как и Федота Петровича Филина) сопровождала в далеком 1980 г. появление нашей первой языковедческой публикации. Присутствие в сборнике лингвистических и полулингвистических работ в наших глазах тем более оправдано, что реконструктивный метод сравнительно‑исторического языкознания во многом, как мы теперь понимаем, определил реконструктивизм автора этих строк и в качестве историка – за что его не раз корили коллеги, причем, что замечательно, как более «модернистски», так и более консервативно настроенные[2].
|
|
|
О прочих статьях особо не говорим. Правомерность их соединения под одной обложкой, думается, не должна вызвать сомнений даже у придирчивого читателя. Заметим только, что ни одна из них не является простым воспроизведением уже опубликованного. Все тексты просмотрены заново, исправлены и дополнены. В большинстве случаев речь идет о радикальной переработке, а иногда – о совершенно новой работе. Поскольку первоначально статьи вовсе не предназначались для сведе́ния в сборник, в них неизбежно встречаются некоторые повторы. Как правило, мы старались избегнуть их, пользуясь перекрестными ссылками, но последовательное их истребление стало бы делом хлопотным, да и могло бы повести в отдельных случаях к сбою в логическом строе изложения. Автор утешал себя школьной истиной, что повторение – мать учения.
В заключение, отчасти возвращаясь к сказанному в первых строках, припоминаем одно из любимых речений В. Т. Пашуто, с которым он не раз адресовался к молодым и, по молодости, порой не в меру задиристым коллегам: «Надо стоять на плечах, а не на костях своих предшественников». Возраст дает много возможностей убедиться в справедливости этих слов. Вот почему позволим себе – хочется верить, не совсем без права – закончить неформальным посвящением этой небольшой summa всем старшим коллегам, как ушедшим, так и здравствующим, без труда которых она была бы невозможна, и вообще поколению наших отцов и дедов, благодаря жизни и смерти которых мы живы.
И нить русской истории не рвется.
Москва, весна 2008 г.
I. Древнерусское династическое старейшинство по «ряду» Ярослава Мудрого и его типологические параллели – реальные и мнимые[3]
Главнейшей чертой, которая определяла династический строй во многих раннесредневековых государствах Европы, был взгляд на государство как на патримоний – семейное владение, подлежавшее передаче от отца ко всей совокупности его сыновей‑наследников. Если наследников было несколько, то возникало так называемое corpus fratrum – так или иначе организованное братское совладение тем, что можно было бы с известной степенью условности назвать «государством» (доходами, территорией, формами репрезентации и т. д.). Наиболее последовательно этот порядок, вытекающий из устройства архаического династически‑родового сознания, был реализован в государстве франков и на Руси, где приобрел самые развитые и дифференцированные формы[4].
Возможно, впрочем, что отчасти такое впечатление имеет причиной относительно благоприятное состояние источников по данной теме применительно именно к Древней Руси и особенно Франкской державе. Это, однако, не означает, что все этапы эволюции corpus fratrum на древнерусской почве в равной и должной мере обеспечены источниками и вполне ясны. Вот почему привлечение сравнительно‑исторического материала других династических традиций, пусть в целом и меньше освещенных источниками, чем древнерусская, может быть полезным историку‑русисту для прояснения как исторической сути дела, так и ситуации в историографии, в которую уже прочно вошли и даже до известной степени «канонизировались» некоторые не всегда основательные типологические наблюдения из области династического устройства Древней Руси.
В истории древнерусского княжеского дома раздел между сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого (1019–1054), предпринятый по завещанию последнего – так называемый «ряд» Ярослава – сыграл, как известно, эпохальную роль. Сообщение «Повести временных лет» об этом завещании неоднократно обсуждалось в науке[5]. И это понятно, поскольку уделы Ярославичей, их границы, послужили исходной точкой формирования будущей территориально‑политической структуры Руси – земель‑княжений XII в., а само завещание Ярослава Владимировича рассматривалось впоследствии (например, на известном Любечском съезде князей 1097 г.) как безусловное правовое основание существования этих земель в качестве отчин соответствующих ветвей княжеского семейства[6]. Одним из главных моментов, связанных с завещанием 1054 г., который привлекал внимание исследователей, был провозглашенный «рядом» сеньорат (или, по древнерусской терминологии, старейшинство) старшего из остававшихся к тому времени в живых Ярославичей – Изяслава.
Вот к чему сводится текст завещания, согласно «Повести», если опустить открывающее его общенравственное наставление блюсти братскую любовь: «В лето 6562. Преставися великыи князь Русьскыи Ярослав. И еще бо живущу ему наряди сыны своя, рек им: <…> Се же поручаю в собе место стол старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Кыев, сего послушайте, яко послушаете мене, да то вы будеть в мене место. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Вячеславу Смолинеск. И тако раздели им грады, заповедав им не преступати предела братия, ни сгонити, рек Изяславу: Аще кто хощеть обидети брата своего, то ты помагаи, его же обидять»[7].
Этот краткий летописный текст вызывает ряд взаимосвязанных вопросов. Прежде всего, насколько он достоверен? Не в отношении самого факта предсмертного раздела Ярославом своих владений между сыновьями, а именно в отношении установления старейшинства Изяслава? Далее, если «ряд» Ярослава и имел в виду сеньорат старшего из Ярославичей, становившегося киевским князем, то было ли такое установление новым? Иными словами, надо ли связывать рождение сеньората на Руси с завещанием Ярослава Мудрого? Наконец, в какой мере замысел Ярослава, если таковой имел место, осуществился, то есть каково реальное место «ряда» Ярослава в эволюции древнерусского старейшинства?
На все эти вопросы нельзя дать вполне определенного ответа, исходя только из древнерусских материалов, в то время как сравнительно‑исторические наблюдения позволяют прийти к достаточно обоснованным, на наш взгляд, заключениям. Оставляя пока в стороне последний, третий, из поставленных вопросов, обратимся к двум первым.
История развития corpus fratrum (в частности у франков) показывает, что рано или поздно в развитии государственности и самосознания государственной власти настает момент, когда традиционная практика родовых разделов вступает в противоречие с представлением о государстве как политическом единстве. При первоначальном архаичном братском совладении как раз это последнее и служило в глазах социальной верхушки проявлением государственного единства, которое, собственно, не имело другого выражения, кроме единства правящего рода, династии[8]. До поры все новые переделы внутри единого рода не приводили к разделу государства ввиду неустойчивости и временности самих возникавших политических структур, иногда настолько лоскутно пестрых, что они, совершенно очевидно, были не приспособлены, да и не предназначены для самостоятельного политического существования (таковы, например, разделы Франкской державы в 562 г. после смерти короля Хлотаря I или в 567/8 г. после кончины его сына короля Хариберта I[9]).
Но роковой порок corpus fratrum был заложен в самой его патримониальной природе. Возникавшая время от времени вследствие благоприятной династической конъюнктуры устойчивость того или иного удела не могла не приводить к столкновению между принципом родового совладения и идеей отчинности удела, которая была столь же неотъемлемой частью патримониального сознания, как и родовое совладение, являясь, в сущности, продлением последнего до уровня удела[10]. Это естественным образом вело к попыткам создания такого династического порядка (включая способ престолонаследия), который сочетал бы традицию родового совладения, то есть принцип непременного наделения всех братьев, с некоторой институционализацией единовластия. Подобного рода усовершенствованной формой corpus fratrum и у франков, и на Руси, и в других раннесредневековых государствах (о некоторых из них ниже пойдет речь) как раз и стал сеньорат.
Важно понять, что сеньорат не создавал понятия генеалогического старейшинства, которое, будучи семейно‑родовым по природе, всегда существовало в рамках corpus fratrum, а только придавал ему, старейшинству, те или иные общегосударственные политические прерогативы. При первоначальном родовом совладении старший из сыновей отнюдь не наследовал политической власти покойного отца, так что разделы между братьями не сопровождались установлением какой‑либо политической зависимости младших от генеалогически старейшего. Так, в неурядицах 60‑70‑х гг. VI в. по смерти короля Хариберта I потомки Хлотаря I (511–561) нередко прибегали к авторитетному суду короля Гунтрамна (561–592), который остался старшим в роду после Хариберта, но этот чисто родовой авторитет не был облечен в политико‑государственные формы, в какую‑либо верховную власть Гунтрамна над младшими братьями Сигибертом I (561–575) и Хильпериком I (561–584) или, впоследствии, над их потомством. Политически братья были совершенно независимы друг от друга, и это политическое равенство только подчеркивалось старательно выверенным равенством их уделов[11]. И даже раздел, предусмотренный пространным политическим завещанием Карла Великого – «Размежеванием королевств» («Divisio regnorum»), которое было издано в 806 г. в качестве отдельного капитулярия, имел в виду примерно равное наделение трех имевшихся на тот момент сыновей императора – Карла, Пипина и Людовика, ничего не говоря о каком бы то ни было верховенстве старшего, Карла, над младшими[12]. Это молчание тем более показательно, что, в отличие от упомянутых выше родовых разделов VI в., Карл единолично наследовал коренные франкские территории между Соммой и Луарой (так называемую «Франкию» – Francia), которые первоначально подвергались особому разделу между всеми наследниками[13]. Поэтому, возвращаясь к Руси, думаем, правы были те историки, которые считали, что никакой определенной государственно‑политической зависимости младших сыновей киевского князя Святослава Игоревича – Олега Древлянского и Владимира Новгородского – от своего старшего брата Ярополка Киевского (972–978) не было[14]. И тот факт, что старшему брату достался «старший», киевский, стол и в целом Русская земля в узком смысле слова[15] (как Карлу – коренная Франкия), еще никоим образом не свидетельствует в пользу сеньората Ярополка, как иногда думают, считая сеньорат на Руси исконным обычаем и тем ставя под сомнение политическое новаторство «ряда» Ярослава[16]. Более того, раздел Руси между Святославичами в 969 г., закрепившийся после внезапной гибели Святослава в 972 г., стоит в одном ряду вовсе не с разделом 1054 г., а с распределением уделов киевским князем Владимиром Святославичем (978‑1015) между своими подросшими сыновьями, о котором «Повесть временных лет» сообщает в конце статьи 6496 (988) г.[17] Ведь наделение Святославичей не было предсмертным завещанием их отца, а произошло в связи с планами Святослава перенести свой стольный град из Киева в Переяславец на Дунае, сохраняя, естественно, верховную власть над Русью[18].
Таким образом, сеньорат не тождествен генеалогическому старейшинству и, в отличие от последнего, требовал целенаправленной реформы традиционного родового совладения. Понятно, что подобная реформа, именно вследствие того, что меняла обычный династический порядок, должна была иметь какое‑то законодательное оформление, хотя и необязательно письменное, документальное. У франков таковым стало первое завещание императора Людовика Благочестивого (814–840) – «Устроение империи» («Ordinatio imperii») 817 г., согласно которому старший из сыновей Людовика, Лотарь (будущий император Лотарь I), наследовал не только императорский титул отца, но и львиную долю владений последнего, тогда как двум его братьям доставались относительно небольшие уделы: Пипину – Аквитания, Людовику – Бавария[19]; хотя младшие братья и титуловались королями, но должны были признать верховную власть Лотаря[20]. В Древней Руси на роль аналогичного этапа в эволюции династического строя может претендовать только «ряд» Ярослава и никоим образом какие‑то предшествующие династические решения – Святослава Игоревича (см. выше) или Владимира Святославича[21]. Кроме того, форма сеньората, предусмотренного «рядом» Ярослава, была столь умеренной и компромиссной[22], что трудно представить себе какую‑то более раннюю и, соответственно, более мягкую его стадию. Старейшинство Изяслава Ярославина прямо прокламируется, и несмотря на то что общерусские политические прерогативы киевского князя не описаны с полнотой, сравнимой с капитулярием Людовика Благочестивого, ясно, что они в том или ином объеме предусматривались, коль скоро Изяслав был призван служить гарантом устанавливаемого династического порядка – ведь именно ему «ряд» вменяет в обязанность «помагати, его же обидять». Тем самым, с точки зрения типологии corpus fratrum, содержание «ряда» Ярослава, как оно передано в «Повести временных лет», сомнений не вызывает, и это может служить косвенным свидетельством достоверности летописного рассказа против высказывающихся иногда предположений, что завещание Ярослава Мудрого в целом или отчасти является стилизацией более позднего времени[23], чуть ли не первой четверти XII в.[24]
Если сеньорат по «ряду» Ярослава представлял собой закономерную форму в эволюции княжеского родового совладения на Руси, то следовало бы ожидать, что типологические параллели ему будут обнаруживаться не только у франков, но и в других европейских династиях, построенных на corpus fratrum.
Действительно, в отечественной литературе вскользь уже указывалось на сходство «ряда» Ярослава с некоторыми династическими установлениями Древнечешского и Древнепольского государств, а именно с завещаниями чешского князя Бржетислава I (1034–1055) и польского князя Болеслава III (1102–1138)[25]. Так как распоряжения относительно династического строя и престолонаследия, предпринятые в этих завещаниях, имели в виду ту или иную форму сеньората, то уже поэтому они могут быть типологически сближены с завещанием Ярослава Владимировича. Не вдаваясь в детали, мы в свое время поддержали такую аналогию[26]. Сейчас видим, что она нуждается в существенных уточнениях. Рассмотрим теперь этот вопрос подробнее, начав с завещания Бржетислава I как хронологически наиболее близкого к «ряду» Ярослава.
Вот что читаем в «Чешской хронике» Козьмы Пражского (первая четверть XII в.) – единственном источнике, сообщающем об этом завещании: на смертном одре чешский князь обращается к представителям знати («terrae primates») с признанием, что, имея пятерых сыновей, «он считает вредным делить между ними Чешское княжество» и потому обязывает их (знать) присягнуть, «что верховное право и престол в княжестве будут всегда принадлежать старшему по рождению среди моих сыновей и внуков и что все его братья и те, кто происходят из рода государя, будут под его властью. Поверьте мне, если этим княжеством не будут управлять единовластно, то для вас, людей знатных, дело дойдет до погибели, а для народа – до больших бед»[27].
В отличие от «ряда» Ярослава, который даже в летописном пересказе сохраняет характер делового распоряжения и вполне узнаваемые черты завещательного формуляра[28], завещание Бржетислава в «Чешской хронике» сплошь состоит из литературных и исторических аллюзий (на библейское предание о Каине и Авеле и древнеримское – о Ромуле и Реме), а также прямых цитат (из Вергилия, Лукана, Овидия, «Псалтири»)[29], характерных для стиля Козьмы. Вряд ли приходится сомневаться, что завещание Бржетислава I, в настоящем его виде, является плодом литературного творчества самого Козьмы Пражского. Распознать существо династической реформы Бржетислава, если таковая действительно имела место, за риторической пеленой, наброшенной стилизованным изложением Козьмы, крайне трудно. И все же ясно, что в завещании имелась в виду какая‑то радикальная форма сеньората, коль скоро речь идет о «единовластии» «старшего».
Однако признать сам факт попытки Бржетислава I преобразовать династический строй Древнечешского государства в русле сеньората еще не значит признать, что сеньорат был завещанием Бржетислава учрежден. Можно было бы, конечно, не придавать большого значения заверениям Козьмы Пражского, писавшего много десятилетий спустя, что пражский князь середины XI в. отказывался от любых форм раздела, желая ввести «единовластие». Вместе с тем, ряд соображений заставляет отнестись к этим заверениям серьезно.
Козьма вкладывает в уста Бржетиславу в качестве аргумента ссылку на губительность памятных для чешской княжеской династии раздоров между братьями святым Вячеславом (Вацлавом) (убит в 929/35 г.) и Болеславом I (умер в 967/72 г.). Но отношения между этими последними, как они рисуются в памятниках свято‑вацлавского цикла, не отличаются от взаимоотношений пражского князя со своей родней во времена Козьмы, когда младшие князья располагали уделами – обычно в Моравии, реже собственно в Чехии – будучи под верховной властью старшего, занимавшего пражский стол[30]; точно так же, когда Вячеслав стал пражским князем вместо умершего отца, «оттоле Болеслав нача под ним ходити», хотя и имел собственный «град Болеславль» (который обычно идентифицируется со Старым Болеславом, центром присоединенной к Праге области племени пшован на правобережье Верхней Лабы‑Эльбы).
Эти слова древнейшего церковнославянского «Жития святого Вячеслава»[31], разумеется, могут быть и проекцией позднейших династических порядков на ситуацию 920‑х гг. (Вратислав I, отец Вячеслава и Болеслава I, умер в 921 г), но порядков, в свою очередь, вряд ли более поздних, чем сложившиеся к 70‑м гг. X столетия, когда, как считается, вероятнее всего, было создано «Житие»[32] (впрочем, существуют и более поздние датировки). В таком случае установление сеньората в Чехии пришлось бы, видимо, связывать с именем Болеслава I. Источникам известны только двое его сыновей – Болеслав II и некий Страхквас (Ztrahquasz), или Христиан[33], которого отец еще ребенком отдает в монастырь святого Эммерама в Регенсбурге – будто бы во искупление своей вины в убийстве брата[34]. Такой шаг был бы крайне опрометчивым, если бы у Болеслава II не было других братьев. Скорее всего отец видел в Страхквасе будущего пражского епископа, как Бржетислав I – в Яромире, что и подтверждается позднейшей попыткой поставить Страхкваса на кафедру вместо святого Адальберта‑Войтеха[35]. Если так, то молчание источников о младших братьях Болеслава II можно было бы рассматривать как косвенное свидетельство ярко выраженного сеньората пражского князя.
В самом деле, династическая история Пржемысловичей до Бржетислава I в хронике Козьмы изложена с большими пробелами, а иногда и просто неверно. Так, одиозные для княжеского рода кровавые междоусобия в предшествовавшем Бржетиславу I поколении сыновей Болеслава II (967/72‑999) приходится восстанавливать исключительно по иностранным источникам – прежде всего, по хронике их современника Титмара Мерзебургского. О конфликте Болеслава III (999 – около 1003) вскоре после 999 г. с младшими братьями Яромиром и Олдржихом Титмар сообщает в выражениях, которые заставляют предполагать, что последние располагали собственными уделами: «Между тем (речь идет о событиях 1002 г. – А. Н.) чешский герцог Болеслав, так как власть соправителя и преемника всегда подозрительна, оскопив брата Яромира, а младшего Олдржиха хотев было утопить в бане, изгнал их из страны вместе с матерью и стал править один, наподобие губительного василиска несказанно притесняя народ»[36]. Правда, характер взаимоотношений между пражским князем и его младшими братьями из процитированного сообщения не вполне понятен, тем более что слова «так как власть соправителя и преемника всегда подозрительна» являются цитатой из Лукана[37]. Эти взаимоотношения несколько проясняет другое сообщение саксонского хрониста, в котором Олдржих назван «вассалом» (satelles) Яромира, к тому времени (речь идет о 1012 г.) уже давно, с 1004 г., занимавшего пражский стол вместо изгнанного Болеслава III[38].
Таким образом, из совокупности приведенных данных, пусть и немногочисленных, с известной определенностью вырисовывается картина сеньората пражского князя над братьями, имеющими в своем распоряжении некоторые уделы. Такое раннее, по крайней мере с третьей четверти X в., возникновение сеньората в чешской княжеской династии на первый взгляд может показаться странным. Но следует иметь в виду, что как сеньорат в целом, так и его отдельные формы, будучи проявлениями династического сознания, не состояли в непосредственной связи с уровнем общественно‑экономического развития, а более зависели от конкретного династического опыта, династической конъюнктуры, а также, вполне вероятно, соответствующих образцов в соседних странах. Так, если верить Константину Багрянородному (умер в 959 г.), сеньорат существовал уже в Великоморавском государстве в конце IX в.[39]
Так что же, в таком случае, имело в виду завещание Бржетислава I? Если судить о планах завещателя по их последующему осуществлению (как мы делаем это в отношении некоторых установлений «ряда» Ярослава – например, в отношении так называемого «триумвирата» старших Ярославичей), то выходит, что чешский князь хотел установить именно полное единовластие своего старшего сына Спытигнева II (1055–1061) с отказом от какого бы то ни было наделения остальных. Заняв пражский стол, Спытигнев предпринял поход в Моравию, где находились столы его младших братьев Братислава, Конрада и Оттона (четвертый брат, Яромир, предназначался для церковной карьеры): моравские уделы были упразднены (см. карту на рис. 1), Вратислав бежал в Венгрию, а Конрада и Оттона Спытигнев привел в Прагу, назначив им придворные должности ловчего («preficiens venatoribus») и кравчего («super pistores atque cocos magister»)[40]. Эта необычная процедура, несомненно, призвана была служить манифестацией новизны порядков, вызванных к жизни завещанием Бржетислава I.
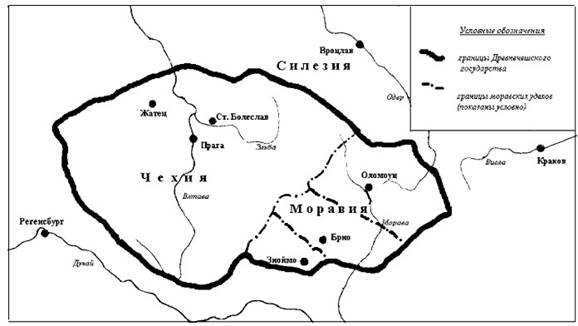
Рис. 1. Уделы младших сыновей Бржетислава I
Отметим еще одну деталь, которая, кажется, также указывает на то, что Бржетислав I стремился радикализовать сеньорат до единовластия. Спустя некоторое время после исполнения отцовского завещания Спытигнев предпочел заключить договор с Вратиславом, который вернулся из Венгрии и получил назад свои моравские владения[41]. Судя по тому, что Конрада и Оттона этот копромисс не коснулся, речь шла не об отказе от программы Бржетислава I и возобновлении прежних династических порядков, а скорее о признании Братислава престолонаследником. А вот когда пражский стол занял Вратислав II (1061–1092), он немедленно восстановил моравские уделы обоих младших братьев[42], что было воспринято как сигнал и Яромиром, который вернулся в Чехию «в надежде получить ту или иную долю наследства в отцовской державе»[43]. Поскольку духовная карьера была предписана Яромиру волею отца, а не старшего брата, то такое предъявление наследственных прав Яромиром может означать лишь одно: четвертый по старшинству среди Бржетиславичей считал, что с вокняжением Братислава порядок, завещанный их отцом и реализованный Спытигневом, отменен и снова действует традиционный сеньорат с учетом прав всех братьев по corpus fratrum[44].
Такая трактовка завещания Бржетислава I как неудавшейся попытки установить единовластие пражских князей с полной ликвидацией родовых уделов, по нашему мнению, в большей степени согласна и с теми пассажами о сеньорате, которые встречаются также и в других местах хроники Козьмы и обычно понимаются как реминисценции завещания 1055 г. Говоря о передаче пражского стола в 1100 г. по смерти Бржетислава II (1092–1100) его младшему брату Борживою II (1101–1107, 1117–1120), хронист считает такое престолонаследие противоречащим «справедливому порядку», существовавшему в Чехии[45], ибо «старшим по возрасту» («etate maior») на то время был брненский князь Олдржих, двоюродный брат Бржетислава II[46]. Выражение «maior natu», употребляемое Козьмой и в главе II, 13, где изложено завещание Бржетислава I, заставляет комментаторов усматривать здесь ссылку именно на это последнее[47], что явно противоречит заявлению, вложенному Козьмой в начале своей хроники в уста легендарному основателю династии Пржемыслу. Толкуя послам Любуши чудо с тремя ростками на своем вонзенном в землю посохе, из которых два засохли, а разросся только один, Пржемысл предрек: «Чему дивитесь? Знайте, что в нашем потомстве родится много правителей, но править будет всегда только один»; и если бы Любуша не поспешила предложить княжеский стол Пржемыслу, то «в вашей земле было бы столько правителей, сколько произвела бы природа принадлежащих к господствующему роду»[48]. Это явно программное vaticinium ex eventu, заостренное против родового совладения в его досеньоратной форме, не имело бы смысла, если бы сеньорат в династии Пржемысловичей установился только в середине XI в. Другое дело, что при этом никак невозможно согласиться с тем пониманием термина «старший по рождению» («maior natu»), которого придерживается Козьма, – как указания на чисто возрастное, а не генеалогическое старейшинство. Такое установление было бы абсолютно уникальным, трудно реализуемым практически и, главное, идущим совершенно вразрез с логикой родового совладения, не говоря уже о том, что оно было политически неразумно, так как не сглаживало, а усугубляло типичный для родового совладения конфликт между дядьями и племянниками (старшие племянники нередко оказывались старше младших дядей). Поэтому (не вникая в причины пристрастности Козьмы к Олдржиху Брненскому) думаем, что в духе традиционного, добржетиславовского, сеньората действовал не Олдржих, а как раз пражский князь Бржетислав II, когда не только заблаговременно десигнировал в качестве преемника своего следующего по старшинству брата Борживоя, но и добился в 1099 г. подтверждения этой десигнации со стороны германского императора Генриха IV[49].
Крутые меры, предпринятые Спытигневом II согласно завещанию отца, ничем не напоминают весьма умеренный сеньорат Изяслава Ярославина, каким он виделся Ярославу Мудрому. Возникает впечатление, что завещание Бржетислава I, если оно действительно имело целью единовластие Спытигнева II, типологически должно быть сопоставлено не с «рядом» Ярослава Владимировича, а скорее с волевыми десигнациями польского князя (в конце правления – короля) Болеслава I (992‑1025) и, кажется, киевского князя Владимира Святославича. Болеслав определенно отказался, а Владимир предположительно намерен был отказаться от традиционного раздела державы между всеми взрослыми сыновьями в пользу единовластия одного из сыновей, в обоих случаях даже не старшего, а выделявшегося по другому династическому принципу: Мешко II был с 1013 г. женат на внучке германского императора Оттона II[50], Борис же Владимирович отличался своим происхождением – его матерью была, по‑видимому, представительница болгарского царского семейства[51]. Наделяя сыновей по мере их взросления, и Владимир Святославич, и Бржетислав I действовали в полном соответствии с требованиями corpus fratrum, но в какой‑то момент решили отказаться от него, пойти на коренную ломку порядка столонаследия. Однако и здесь, при ближайшем рассмотрении, оказывается, что сходство касается больше внешности, нежели существа дела. И польский, и киевский князья пытались утвердить единовластие одного из сыновей, не имея опыта сеньората[52], тогда как чешский – критически оценивая этот опыт. Следовательно, в династической истории древнерусского княжеского дома для завещания Бржетислава I достаточно полных параллелей не видно.
Обратимся теперь к завещанию польского князя Болеслава III 1138 г. Наиболее ранним свидетельством о нем является известие польского хрониста Винцентия Кадлубка (рубеж XII–XIII вв.), который в свойственной ему высокопарно‑риторической манере пишет в общих словах об установлении «тетрархии» Болеславичей, причем старшему из них отдавались «княжение в Краковской земле и верховная власть»[53]. Границы уделов «тетрархов» очерчены только в много более поздней «Великопольской хронике» (начало XIV в.), согласно которой старший из них, Владислав II (1138–1146), получил Краков, Силезию, Серадз, Ленчицу и Восточное Поморье (Гданьскую марку), Болеслав IV – Мазовию, Мешко III – Великую Польшу, Генрих – Сандомир; а родившийся уже после смерти отца Казимир (будущий Казимир II) пока оставался без удела[54]. Из совокупности более ранних разрозненых данных реконструируется несколько иная картина: Владиславу принадлежала также восточная часть Великой Польши с прежней столицей Древнепольского государства – Гнезном, а также Сандомирская земля, тогда как Генрих, подобно Казимиру, не имея сначала, по малолетству, собственного удела, жил при матери Саломее, которой были выделены Серадз и Ленчица[55] (см. рис. 2).
Остается неясным, какое именно конкретное содержание скрывалось за неопределенным выражением Кадлубка о «верховной власти» краковского князя над братьями согласно завещанию Болеслава III, как неясны, собственно, и полномочия Изяслава Ярославина. В любом случае попытка изгнать младших братьев из их уделов, которую Владислав II предпринял сразу же после смерти отца, была (если полагаться на сведения Кадлубка), в отличие от действий Спытигнева II в Чехии, безусловным превышением этой «верховной власти». Если же задаться в отношении завещания Болеслава III тем вопросом, каким выше мы задались в отношении завещания Бржетислава I, а именно: было ли это завещание актом учреждения сеньората (который в польской историографии, применительно к порядку, предусмотренному завещанием 1137 г., предпочитают именовать «принципатом»), – то ответить на него со всей решительностью будет нелегко по недостатку данных.
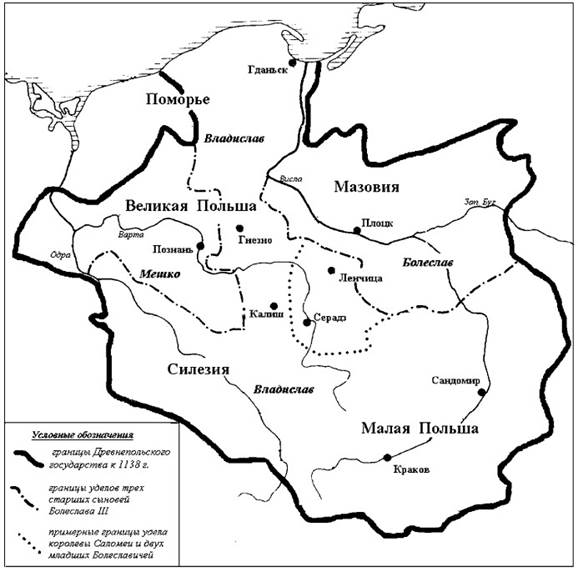
Рис. 2. Уделы по завещанию Болеслава III 1138 г.
Довольно очевидно и – в силу прецедентного характера средневекового права – естественно, что раздел по завещанию Болеслава III исходил из предшествовавшего раздела по смерти (и, вероятно, по воле или с согласия[56]) его отца Владислава I (1079–1102), поскольку, как можно понять, Болеслав III получил в 1102 г. Силезию и Краковскую землю (с Сандомиром), а его старший сводный брат Збигнев – северную половину: Великую Польшу, Мазовию и лежащие между ними Серадз, Ленчицу и Калиш; Гданьское Поморье было завоевано Болеславом III позднее[57]. Таким образом, Болеслав III завещал старшему сыну свою половину по прежнему разделу с братом Збигневом, а двум следующим сыновьям, Болеславу и Мешку, вместе с их малолетними братьями и матерью Саломеей (Владислав происходил от первого брака Болеслава III с дочерью киевского князя Святополка Изяславича Сбыславой) выделил на всех северную половину Збигнева, из которой к тому же, если полагаться на выводы Г. Лябуды, был изъят гнезненско‑калишский «коридор», соединивший Краков с Гданьском. Принцип, лежащий в основе восстанавливаемого таким образом раздела по смерти Владислава I выглядит, в силу примерного равенства уделов Збигнева и Болеслава, весьма архаичным; высказываемые иногда догадки, что старший из братьев, Збигнев, по завещанию отца располагал какими‑то сеньориальными правами[58], насколько нам известно, не могут быть подтверждены свидетельствами источников. Кроме того, само завещательное распоряжение Владислава I было предпринято в весьма специфических условиях последних лет правления князя – после поражения, которое он потерпел от солидарно выступивших против него обоих сыновей[59], поэтому только паритетный раздел мог быть объявлен без риска немедленно вызвать новую смуту. Таким образом, специфический раздел по завещанию Владислава I, не выказывающий черт сеньората, вряд ли можно рассматривать в качестве верного отражения династической традиции в польском княжеском семействе, как она сложилась ко второй половине XI в.
Углубляясь ретроспективно в более ранний период, видим несомненный сеньорат Болеслава II (1058 – около 1080) над младшим братом Владиславом (будущим Владиславом I). Хроника Галла Анонима, правда, ничего определенного на этот счет не сообщает, но в иностранных источниках 1060‑1070‑х гг. Болеслав со всей очевидностью выступает как правитель Польского государства, так что его безусловная доминация сделала даже возможной коронацию королевским венцом в 1076 г. Но был ли сеньорат Болеслава установлен уже завещанием его отца – польского князя Казимира I (1038/9‑1058)? Казимир оставил после своей смерти троих сыновей – помимо Болеслава и Владислава, еще и младшего Мешка. Едва ли приходится сомневаться, что родовой Плоцк вместе с Мазовецким уделом, в котором застаем Владислава в правление его брата Болеслава II, он получил еще по разделу после смерти отца. О владениях Мешка сведений не сохранилось, хотя такие владения наверняка имелись, так как третий из Казимировичей умер только в 1065 г. на двадцатом году жизни[60]. Поскольку единственным источником, сообщающим день его смерти, является синодик регенсбургского монастыря святого Эммерама[61], то закрадывается подозрение, что удел Мешка располагался на западе или юго‑западе Древнепольского государства, то есть что младший сын Казимира Восстановителя владел либо Великой Польшей, либо Силезией. Первый вариант представляется более вероятным ввиду неустойчивого статуса Силезии, которая была присоединена только в 1050‑е гг., незадолго до кончины Казимира I, и с которой поляки были обязаны платить дань Праге[62]; в такой ситуации было естественно сохранить ее под властью сениора, а не делать уязвимой, отдавая в удел самому младшему из братьев. Если так, владельческая конфигурация, образовавшаяся по завещанию Казимира I, была бы, что показательно, весьма сходной с разделом 1137 г. Судьба старой польской столицы и митрополичьей резиденции Гнезна остается при этом неясной (оставалась ли она в Великопольском уделе Мешка или была выделена, как в 1137 г., чтобы быть включенной в удел старшего), но ясно одно: в династии Пястов сеньорат отнюдь не был учрежден завещанием Болеслава III. Учитывая сказанное выше о передаче престола от Болеслава I к его сыну Мешку II, а также временный распад Древнепольского государства в ходе смуты после смерти Мешка II в 1034 г., приходим к заключению, что возникновение сеньората в Польше следует скорее всего отнести к 1058 г. и связать это событие с завещанием Казимира I, отстоящим от «ряда» Ярослава Владимировича всего на четыре года. В силу тесных династических связей между Ярославом и Казимиром совершенно не исключаем, что «ряд» Ярослава Мудрого мог послужить образцом для завещания Казимира I.
Если наши построения верны, то раздел 1137 г. апеллировал не столько к разделу 1102 г., сколько именно к распределению территорий между Казимировичами в 1058 г., которое и лежало у истоков древнепольского сеньората. Тем самым, теряется последняя – пусть и частная – параллель между завещанием Болеслава III и «рядом» Ярослава: ведь последний (в той части, которая касается учреждения «триумвирата» старших Ярославичей), как представляется, основывался на разделе Русской земли в узком смысле слова по Городецкому договору 1026 г., согласно которому Ярослав получал днепровское Правобережье с Киевом, а его младший брат Мстислав – Левобережье с Черниговом[63]. В 1054 г. Мстиславова половина оказалась поделена между младшими «триумвирами», Святославом и Всеволодом Ярославичами, точно так же, как в 1137 г. половина Збигнева – между младшими Болеславичами.
По характеру раздела земель (если следовать реконструкции Г. Лябуды) размежевание по завещанию Болеслава III, казалось бы, напоминает хронологически более близкое ему – то, которое имелось в виду династическим проектом киевского князя Мстислава Владимировича (1125–1132), пытавшегося в данном отношении реализовать замысел своего отца, киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха (1113–1125). Целью проекта было закрепить за Мстиславичами срединную часть Руси от Киева через Смоленск до Новгорода, решительно разделяя владения младших Мономашичей – Юрия Суздальского и Андрея Волынского, которых предполагалось исключить из киевского столонаследия[64]. Однако ни в скудном на подробности рассказе Кадлубка, ни в других источниках нет никаких сведений, сопровождалось ли завещание Болеслава III какими‑либо новшествами в отношении наследования сеньориального краковского стола – скажем, планами сохранить его за потомством Владислава II. После поражения и изгнания Владислава Краков достался следующему по старшинству из
Болеславичей – Болеславу IV (1146–1173); через несколько лет по его смерти краковская знать предпочла великопольскому князю Мешку III (краковский сениор в 1173–1177, 1199–1202 гг.) самого младшего из братьев – Казимира II (1177–1194), который, однако, был вынужден в течение всей жизни отстаивать Краков от притязаний Мешка. Все это свидетельствует, что династическое право Пястов и во второй половине XII в. продолжало определяться принципом генеалогического старейшинства. Разумеется, крах Владислава II означал крушение планов Болеслава III реформировать столонаследие (коль скоро таковые планы были), как и на Руси о сопротивление младших Мономашичей разбился династический проект их отца и старшего брата.
Вопрос о типологическом сходстве завещания Болеслава III с проектом Владимира Мономаха – Мстислава Великого остается, таким образом, открытым, но на такой же вопрос о его аналогичности «ряду» Ярослава Мудрого надо, на наш взгляд, со всей определенностью ответить отрицательно. Ни завещание Болеслава III в Польше, ни завещание Бржетислава I в Чехии не стояли у истоков династического сеньората, который в обеих странах возник много раньше. Уже по одной этой причине они занимают в эволюции сеньората совсем другую типологическую ячейку, нежели «ряд» Ярослава на Руси, являвшийся именно первой, учредительной, попыткой построить политическую систему на принципе династического старейшинства. Завещание же Бржетислава I, если верны наши наблюдения, вообще порывало с corpus fratrum, то есть должно рассматриваться совсем в ином типологическом ряду – например, в сравнении с династическим единовластием, сменившим последние пережитки родового совладения в Западнофранкском (Французском) королевстве после смерти Людовика IV (умер в 954 г.)[65], а в Восточнофранкском (Германском) – согласно порядку престолонаследия, осуществленному Генрихом I (919–936)[66].
Помимо своей типологической инакости, «ряд» Ярослава отличается чрезвычайной оригинальностью и в деталях. Об удивительном «триумвирате» старших Ярославичей, то есть своего рода коллективном сеньорате, сопровождавшем индивидуальный сеньорат Изяслава, уже упоминалось. Бросается в глаза также и необычный «чересполосный» характер уделов трех старших Ярославичей: Киев и Новгород Изяслава разделены Смоленском Вячеслава, Чернигов и Тмутаракань Святослава – степью, Переяславль и Ростов Всеволода – вятичскими землями Черниговского удела Святослава[67]. Подобная территориальная структура не находит себе никакого соответствия в завещаниях Бржетислава I и Болеслава III. Зато такие соответствия имеются в династических разделах Франкского государства VI–IX вв., где этот феномен выражен даже более ярко и находит себе убедительное объяснение. Но этой стороне дела посвящена отдельная работа[68].
II. «Ряд» Ярослава Мудрого в свете европейской типологии[69]
Существенной, иногда определяющей составной частью политического строя древнейшей Руси были междукняжеские отношения. Коль скоро в отечественной науке утвердился взгляд на древнерусское общество как на (ранне)феодальное, исследователи не раз приходили к выводу, что ярко выступающая в источниках династически‑родовая терминология служила лишь формой для феодальных по сути междукняжеских отношений[70]. Не вдаваясь здесь в дискуссию на данную тему, заметим только, что если даже смотреть на династические порядки внутри древнерусского княжеского рода лишь как на формальную оболочку, это все равно не снимает вопроса, отражала или нет ее эволюция сущностные общественно‑политические процессы. Не говорим уже о том, что именно династически‑родовая конъюнктура отражена в письменных источниках много полнее, чем какие‑либо другие стороны общественной жизни Древней Руси. В династической же истории княжеского дома раздел Руси между сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого (1019–1054), предпринятый по завещанию последнего (так называемый «ряд Ярославль»), стал одним из важнейших этапов.
Сообщение «Повести временных лет» о «ряде» Ярослава неоднократно обсуждалось и продолжает обсуждаться в науке[71]. Уделы Ярославичей в их границах, обозначенных «рядом», легли в основу будущей территориально‑политической структуры Руси – земель‑княжений XII в., а само завещание Ярослава Владимировича не раз служило (например, на известном Любечском съезде 1097 г.) ключевым элементом в юридических механизмах урегулирования династических конфликтов. Среди прочего, внимание исследователей привлекали два момента, связанные с «рядом» 1054 г.[72]: сеньорат (или, по древнерусской терминологии, старейшинство) Изяслава, старшего из пятерых Ярославичей, остававшихся на тот момент в живых, и довольно отчетливо выступающие в источниках солидарные действия трех старших Ярославичей – Изяслава, Святослава и Всеволода, что производило впечатление своего рода их соправления (в историографии такая политическая структура получила не слишком удачное условное название «триумвирата», или «триархии» Ярославичей). Тему старейшинства киевского князя в рамках типологии династического сеньората мы обсудили в другом месте[73]; здесь же обратимся к теме «триумвирата».
Если о старейшинстве Изяслава в летописном тексте «ряда» Ярослава говорится ясно и недвусмысленно, то о каких‑либо особых взаимоотношениях трех старших Ярославичей в нем нет ни слова. Действительно, вот к чему сводилось завещание, если отвлечься от общенравственных наставлений блюсти братскую любовь: «В лето 6562. Преставися великыи князь Русьскыи Ярослав. И еще бо живущу ему наряди сыны своя, рек им: <…> Се же поручаю в собе место стол старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Кыев, сего послушайте, яко послушаете мене, да то вы будеть в мене место. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Вячеславу Смолинеск. И тако раздели им грады, заповедав им не преступати предела братия, ни сгонити, рек Изяславу: Аще кто хощеть обидети брата своего, то ты помагаи, его же обидять»[74]. Как видим, сеньорат Изяслава здесь прямо прокламируется, причем киевский князь призван быть гарантом устанавливаемого династического порядка: именно к нему обращен призыв «помагати, его же обидять». О существовании же «триумирата» заключают, исходя из «нераздельности общих действий по обороне Русской земли и по внутренним делам ее трех старших Ярославичей»[75].
Однако эти общие действия – победа над торками (1060 г.)[76], разделение Смоленска (очевидно, в смысле разделения смоленских даней) на три части после смерти Игоря (1060 г.)[77], борьба с полоцким князем Всеславом Брячиславичем (1067 г.)[78], неудачный поход против половцев (1068 г.)[79], издание Правды Ярославичей[80] и перенесение мощей святых Бориса и Глеба (1072 г.)[81] – имели место уже после смерти младших Ярославичей: Вячеслава в 1057, а Игоря в 1060 г.[82] Для периода между 1054 и 1060 гг. таких общих действий всего лишь два: перевод Игоря из Волыни в Смоленск после смерти на смоленском столе Вячеслава и решение об освобождении из заточения и пострижении в монахи Судислава, дяди Ярославичей (1059 г.). Но в сообщении о переводе Игоря на новый стол в 1057 г. старшие Ярославичи как субъект действия вовсе не названы; сказано лишь, что «посадиша Игоря Смолиньске». Эта лапидарная формула очень напоминает сообщение о разделе Смоленска: «И по сем разделиша Смоленеск на три части». Поэтому можно думать, что и выражение «Изяслав, и Святослав, и Всеволод высадиша стрыя своего ис поруба»[83] также есть всего лишь редакторская экспликация составителем «Начального свода» первоначальной краткой заметки: «Высадиша Судислава ис поруба», каковой вид она, заметим, и имеет в Синодальном списке «Новгородской I летописи»[84]. В таком случае неопределенно‑личное 3‑е лицо множественного числа аориста посадиша, разделиша, высадиша скорее всего подразумевало всю совокупность наличных Ярославичей, то есть, применительно к событиям 1057 и 1059 гг., и Игоря в том числе; братья действовали совокупно в соответствии с завещанием отца: «пребывайте мирно, послушающе брат брата». Это, в свою очередь, означало бы, что представление о выделенном положении среди братии не только киевского князя Изяслава, но еще и троих старших Ярославичей in corpore по отношению к двум младшим братьям, не находит себе надежной опоры в летописных текстах.
На первый взгляд, такое заключение выглядит естественным и ожидаемым, потому что не очень понятно, каким образом наряду с индивидуальным сеньоратом мог сосуществовать и действовать еще и коллективный, каким образом троевластие Изяслава Киевского, Святослава Черниговского и Всеволода Переяславского могло сочетаться с какими бы то ни было реальными политическими прерогативами Изяслава в масштабе всей Руси в соответствии с его сеньоратом. Иными словами, одновременное учреждение завещанием Ярослава Мудрого и того, и другого представить себе трудно. И тем не менее дело обстояло, надо думать, именно так. В этом убеждает нас сравнительно‑типологический материал, который проливает дополнительный, пусть и косвенный, свет на указанные сложности.
В отечественной литературе вскользь уже указывалось на аналогии, которые имеются для «ряда» Ярослава в династических установлениях Древнечешского и Древнепольского государств, а именно на завещания чешского князя Бржетислава I (1034–1055) и польского князя Болеслава III Кривоустого (1102–1138)[85]. Действительно, распоряжения относительно престолонаследия, предпринятые в этих завещаниях, имели в виду ту или иную форму сеньората и в этом смысле могут быть типологически сближены с завещанием Ярослава Владимировича. Однако детального сопоставления завещаний Бржетислава I, Болеслава III и Ярослава Мудрого проведено не было. Попытка такого сопоставления убедила нас в том, что эти западнославянские княжеские завещания в полной мере аналогами «ряду» Ярослава служить не могут, поскольку не учреждают сеньората, а суммируют опыт его существования в течение нескольких поколений[86]. Кроме того, ничего похожего на «триумвират» старших братьев в этих установлениях не прослеживается. Обратимся к реалиям из другой части средневековой Европы, которым, в связи с древнерусской проблематикой, в науке пока не уделялось должного внимания.
Отправной точкой наших наблюдений служит бросающийся в глаза «чересполосный» характер уделов трех старших Ярославичей: Киев и Новгород Изяслава разделены Смоленском Вячеслава, Чернигов и Тмутаракань Святослава – степью, Переяславль и Ростов Всеволода – вятичскими землями Черниговского удела Святослава[87]. Эта территориальная структура необычна; например, в упомянутых разделах по завещаниям Бржетислава I (если такой раздел вообще был) и Болеслава III она не находит себе никакого соответствия. Зато такие соответствия имеются в династических разделах Франкского государства VI–IX вв., где этот феномен выражен даже более ярко, а главное – находит себе убедительное объяснение.
Хронологически первым в ряду франкских разделов стоит раздел 511 г. по завещанию короля Хлодвига, создателя Франкской державы. Каждый из четырех сыновей Хлодвига получил, по сообщению Григория Турского (умер в 593/4 г.), «равную долю» («aequa lance») отцовских владений[88], но при том так, что территориально единым оказался только удел Хлодомера, старшего сына Хлодвига от второго брака с Хродехильдой, тогда как уделы Теодерика, старшего сына Хлодвига от первого брака, а также Хильдеберта и Хлотаря, единоутробных младших братьев Хлодомера, оказались разбиты каждый на две части (см. карту на рис. 3)[89].
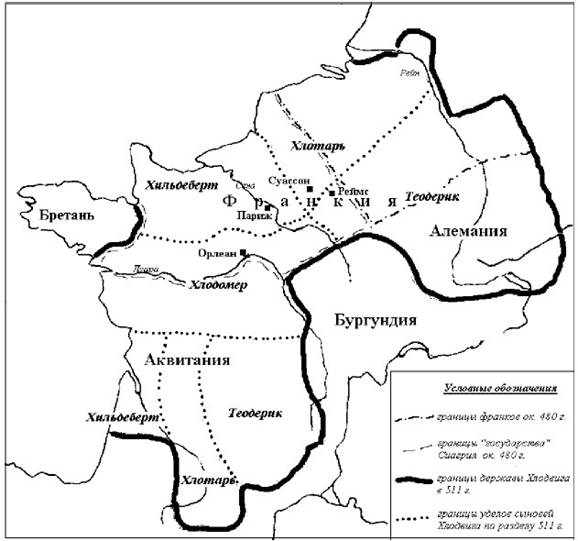
Рис. 3. Раздел Франкского государства по смерти Хлодвига в 511 г.
Принцип, приведший к такому итогу, недвусмысленно угадывается: каждый из братьев должен был получить часть не просто в наследии отца, а непременно в некоей базовой центральной области, которую составляли исходные земли франков до 480 г. вместе с провинциально‑римским «королевством» Сиагрия, которое было захвачено Хлодвигом в 480 г. В источниках эта область получила наименование Francia – Франкия в узком, собственном смысле, в отличие от присоединенных впоследствии Аквитании, Алемании,
Бургундии, Новемпопуланы (позднейшей Гаскони) и Прованса, которые в своей совокупности также именовались в источниках Франкией. Более того, резиденции братьев – Реймс Теодерика, Орлеан Хлодомера, Париж Хильдеберта и Суассон Хлотаря – концентрировались в еще более узком и фискально насыщенном регионе, а именно между Верхним Маасом и Средней Луарой. В силу принципа равенства уделов (по их доходности) на четыре части пришлось поделить и захваченную впоследствии и пока не до конца освоенную Аквитанию (к югу и западу от Луары), так что возникла ярко выраженная владельческая чересполосица[90].
Показательно, что следующий, случившийся в 562 г. раздел между четырьмя сыновьями Хлотаря (умершего в декабре 561 г.), который к 558 г. стал единоличным правителем всего Франкского королевства, применительно к обозначенной центральной области явно следовал тому же принципу, восходя к прецеденту 511 г., – каждый из четырех получил удел с одной из названных выше столиц: даже явно обделенный младший Хильперик, сын Хлотаря от второго брака, получил Суассон (отцовский стол по разделу 511 г.). Трое старших единоутробных братьев, вероятно, стремились избежать чересполосицы, но это удалось только в отношении Хариберта и Гунтрамна, в то время как владения Сигиберта, младшего в этой тройке, помимо главного удела со столицей в Реймсе, включали еще аквитанский и провансальский (с центром в Марселе: остальная часть Прованса с Арлем и Авиньоном принадлежала Гунтрамну) анклавы (см. карту на рис. 4).

Рис. 4. Раздел Франкского государства по смерти Хлотаря I в 561 г.
Еще более показателен раздел, имевший место вскоре, в 567/8 г., после смерти Хариберта. Владения умершего брата рассматривались не grosso modo, а по отдельности в своих составных частях: особо делилась натрое часть, входившая во Франкию в узком смысле (при этом стольный Париж с непосредственно прилегавшей к нему областью также подлежал особому разделу), особо – аквитанская, особо – завоеванная уже после Хлодвига Новемпопулана (см. карту на рис. 5).
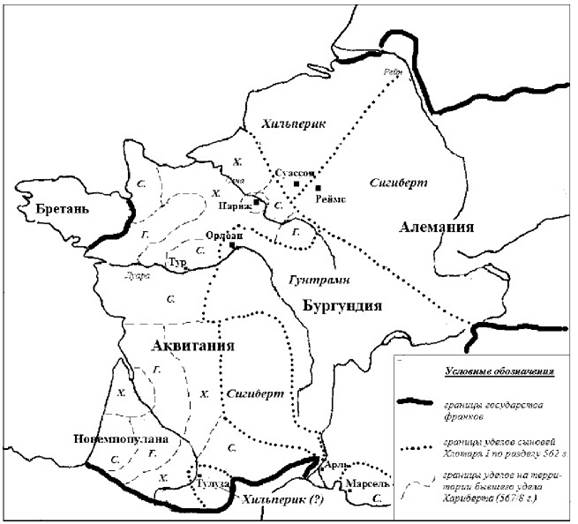
Рис. 5. Раздел владений короля Хариберта после его смерти в 567 г.
Возникшая в результате лоскутная структура не могла быть стабильной и немедленно привела к тяжелым междоусобным конфликтам. Однако для нас важно отметить сам принцип раздела, который покоился на основополагающем для династического сознания франков понятии родового совладения – так называемом corpus fratrum: все сыновья умершего отца имели право на долю в его наследстве, первоначально – равную[91]; впрочем, с большей или меньшей отчетливостью родовое совладение прослеживается во многих раннесредневековых династиях – особенно же на Руси, что, собственно, и делает франкский материал столь показательным для русиста[92].
Этот принцип сохранялся у франков и при Каролингах, причем был настолько прочно укоренен, что в нем ничего не изменила даже коронация Карла Великого (768–814) императорским венцом в 800 г., хотя противоречие между родовым совладением и неделимостью императорского звания было очевидно[93]. В 806 г. Карл издал завещательное распоряжение, предполагавшее раздел Франкской державы после своей смерти на примерно равные части между тремя сыновьями – Карлом, Пипином и Людовиком (см. карту на рис. 6); в науке этот документ получил название «Divisio regnorum» («Размежевание королевств»)[94].

Рис. 6. Разделы Франкской державы по завещаниям Карла Великого (806 г.) и Людовика Благочестивого (817 г.)
Никаких распоряжений относительно императорского титула или какого бы то ни было иного, пусть только формального, сеньората старшего из братьев, а именно Карла, документ не содержит. Удел Карла отличался, однако, тем, что включал в себя целиком всю прежнюю Франкию в узком смысле в обеих ее половинах – западной (Нейстрия) и восточной (Австразия). Это обстоятельство может показаться принципиальным, так как предыдущий раздел между самим Карлом Великим и его братом Карломаном после смерти их отца короля Пипина III в 768 г. оставлял (если не говорить о деталях) Австразию за Карломаном, а Нейстрию – за Карлом, то есть воспроизводил раздел в предыдущем поколении Каролингов: между старшими сыновьями умершего в 741 г. Карла Мартелла – Карломаном и Пипином (будущим Пипином III)[95]. Однако Карл Великий вовсе не имел идеи неделимости Франкии в узком смысле, как можно было бы подумать; это видно из его распоряжения, что в случае ранней смерти его сына Карла королевство последнего делится между братьями Пипином и Людовиком по границе раздела 768 г. между Карломаном и Карлом[96]. То, что в основе «Размежевания королевств» лежала традиционная идеология corpus fratrum видно еще и по следующему факту: заботу о судьбе папства император возлагал на всех троих сыновей совокупно[97] (хотя Рим и вся Папская область находились в уделе Пипина), причем особо оговаривал, что границы уделов проведены им именно так, а не иначе, еще и с тем, чтобы Карл и Людовик, владея соответствующими перевалами через Альпы, имели удобную возможность при случае прийти на помощь Пипину[98].
В этом отношении весьма замечателен резкий контраст «Размежевания» Карла Великого с аналогичным документом его сына и преемника императора Людовика Благочестивого (814–840). Оказавшись единоличным наследником империи (упомянутые выше Пипин и Карл умерли еще при жизни отца, в 810 и 811 гг. соответственно), Людовик в 817 г., вскоре после восшествия на престол, в свою очередь издал завещание, которое упорядочивало взаимоотношения между тремя его сыновьями – Лотарем, Пипином и Людовиком. По этому завещанию, получившему название «Устроение империи» («Ordinatio imperii»), Лотарь, будучи старшим, наследовал не только императорский титул отца, но и львиную долю его владений, тогда как его братьям доставались относительно небольшие уделы: Пипину – Аквитания, Людовику – Бавария[99] (см. рис. 6). Хотя оба последних титуловались королями, но должны были признать верховную власть Лотаря: «После нашей кончины да получат (Пипин и Людовик. – А. Н.) королевскую власть под рукой старшего брата»[100]. Перед нами очевидная попытка перейти от corpus fratrum – братского совладения в его радикальной первоначальной форме – к безусловному сеньорату.
В силу ряда обстоятельств, вдаваться в которые здесь не место, завещанию Людовика Благочестивого не суждено было осуществиться. Лотарь, попытавшийся было после смерти отца в 840 г. настаивать на принципах «Устроения империи», потерпел поражение от братьев Людовика Немецкого и Карла Лысого (сын Людовика Благочестивого от второго брака, родившийся после 817 г.; Пипин Аквитанский умер в 838 г.). Результатом компромисса между братьями стал знаменитый Верденский договор 843 г., предполагавший возврат к традиционному династическому разделу на равные части, причем – и на это следует обратить особое внимание в контексте нашей темы – снова, как в меровингские времена, разделу на три части подверглась и территория коренной Франкии[101] (см. рис. 7). Это обстоятельство подчеркивало неудачу сеньората: императорский титул Лотаря превращался в пустую формальность.
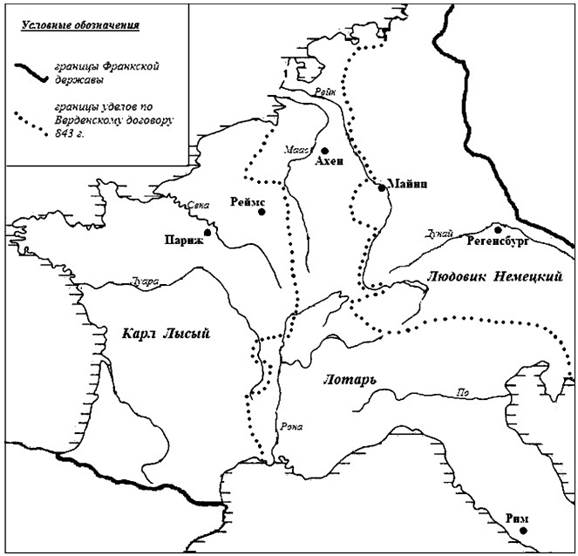
Рис. 7. Раздел Франкской державы между сыновьями императора Людовика Благочестивого по Верденскому договору 843 г.
В свете изложенных здесь, по необходимости бегло, типологических наблюдений раздел Руси в 1054 г. по завещанию Ярослава Мудрого производит двойственное впечатление.
С одной стороны, по своим размерам, экономическому и военному потенциалу удел Изяслава Киевского выглядит доминирующим. Бесспорно, ресурсы собственно Киевской земли того времени, включавшей Погорину и Турово‑Берестейскую область, в совокупности с Новгородом намного превосходили ресурсы, скажем, Святославова Черниговского удела, половину которого, к тому же, территориально составляла и хозяйственно, и даже политически еще недостаточно освоенная к середине XI в. земля вятичей. В этом отношении «ряд» Ярослава сходствует с разделом у франков согласно «Устроению» императора Людовика Благочестивого, являвшимся попыткой установить эффективный сеньорат, не отменяя, однако, совершенно обычая наделять всех сыновей. Это заставляет всерьез отнестись к трафаретному сообщению летописи, что Изяслав должен был, по замыслу Ярослава, стать для братьев «во отца место», хотя конкретное содержание постулируемых этой формулой общерусских полномочий Изяслава остается неясным. Для сопоставления их с отдельными довольно четко прописанными позициями «Устроения империи» Людовика – например, с пунктом о верховном надзоре Лотаря за справедливостью внутреннего управления в уделах младших братьев[102] – просто не хватает данных.
С другой стороны, характер уделов трех старших Ярославичей сближает Ярославов «ряд» не с «модернистским» проектом Людовика Благочестивого, а напротив – с архаическими чересполосными разделами у франков эпохи Меровингов. Если исходить из этого параллелизма, то складывается впечатление, что в середине XI в. в Среднем Поднепровье имелась какая‑то выделенная область, в которой непременно должны были получить причастие Изяслав, Святослав и Всеволод. Эту область естественно отождествить с так называемой «Русской землей» в узком смысле слова, так что в «ряде Ярославле» позволительно было бы усматривать некоторый дополнительный довод в пользу существования такой «Русской земли» в X–XI, а не только в XII в.[103] Вместе с тем, в отличие от франкских разделов VI в. и более поздних, уделы Ярославичей в «Русской земле» вовсе не выглядят равноценными. Восточные пределы последней очертить трудно, но даже если они обнимали Курское Посемье, входившее в Переяславский удел Всеволода, все равно сравнивать, например, переяславскую и киевскую части «Русской земли» явно не приходится. Младшие же Ярославичи, Вячеслав и Игорь, вовсе остались без причастия в «Русской земле». Едва ли потому, что это было практически неосуществимо. Так, например, Белгород середины XI в., быв к тому времени епархиальным центром и представляя собой, судя по археологическим данным, весьма внушительный городской центр[104], несомненно, мог бы стать и княжеским столом. Следовательно, такое неравноправие братьев входило в замысел Ярослава, являясь шагом от corpus fratrum в его чистом первоначальном виде к сеньорату.
Еще одной традиционалистской чертой порядка, установленного «рядом» Ярослава, может служить раздел Смоленска Ярославичами[105] в 1060 г. Завещание Людовика предусматривало в таких случаях совсем иной порядок действий: по смерти кого‑либо из младших братьев Лотарь призван был обеспечить одному из сыновей покойного наследование в уделе отца; если же покойный оказывался бездетен, то его удел должен был перейти в руки Лотаря[106]. Королевства младших сыновей Людовика Благочестивого задумывались в качестве патримониев‑отчин, тогда как уделы Ярославичей – нет (судя по смене удела Игорем); королевства сыновей императора Людовика не подлежали разделу даже в случае их выморочного характера, тогда как Смоленский удел был разделен, даже не будучи выморочным. Раздел Смоленска Ярославичами имеет аналогию в упомянутом разделе Парижа и удела короля Хариберта в целом в 567/8 г., а также в традиционалистских установлениях «Divisio regnorum» 806 г., которые предписывали именно разделы – правда, только в случае, если умерший не имел наследника[107]. В отличие от Смоленска, о судьбе Волыни по уходе оттуда Игоря в 1057 г. надежных сведений нет. Тот факт, что после бегства Изяслава из Руси в 1068 г. в Новгороде, бывшем до этого под Изяславом, садится Святославич Глеб[108], а на Волыни – Всеволодович Владимир[109], вроде бы дает основание думать, что Волынь после 1057 г. перешла под власть Изяслава. Тогда мы имели бы случай, напоминающий норму сеньората в смысле «Ordinatio imperii». Но подумаем, так ли это? Не видно причин предполагать, что между 1057 и 1060 годами произошла какая‑то коренная перестройка взаимоотношений между Ярославичами, которая и обусловила разницу в участи Волыни и Смоленска. Значит, Смоленский удел сам по себе отличался от Волынского. Чем же?
Трудно не заметить, что Ярославов «ряд» явно апеллировал к разделу Руси по Городецкому договору 1026 г., согласно которому Ярослав получал днепровское Правобережье с Киевом, а его младший брат Мстислав – Левобережье с Черниговом[110]. В 1054 г. левобережный удел Мстислава оказался поделен между Святославом и Всеволодом Ярославичами. Хотя мы не знаем о Городецком договоре ничего, кроме того что Ярослав и Мстислав «разделиста по Днепр Русьскую землю»[111], но этого достаточно, чтобы понять: Волынь ни в коем случае не могла относиться к владениям Мстислава Черниговского, в то время как по крайней мере существенная часть Смоленской волости (к югу от Днепра)[112], вполне вероятно, к ним принадлежала. Если Ярослав Мудрый в своем «ряде» сыновьям в самом деле отталкивался от предыдущего раздела 1026 г. (а это типично для прецедентного правового сознания средневекового человека), то Волынь оказывалась выделенной из части Ярослава, а Смоленская волость – из частей Ярослава и Мстислава совместно. Та же логика подсказывала, что освободившаяся в 1057 г. Волынь должна отойти к Изяславу, а освободившийся в 1060 г. Смоленск – быть поделен между Изяславом и преемниками части Мстислава Владимировича, то есть Святославом и Всеволодом. Коль скоро это так, единоличное наследование Изяславом Волыни не имеет отношения к его старейшинству. Это также означает, что Смоленск вряд ли был поделен (что бы ни понимать под этим разделом) на три равные части, как иногда полагают, исходя из наблюдения, что сумма смоленской дани в 1078 г. (300 гривен золота) была кратна трем[113].
Таким образом, хотя преимущественное положение Изяслава Ярославина по сравнению с братьями проведено «рядом» Ярослава последовательно как внутри пятерки в целом, так и внутри тройки старших, оно оказывается характерным образом уравновешено самим выделением еще и этой тройки, наличие которой заметно архаизирует задуманный Ярославом вариант сеньората, придавая ему «смазанный», компромиссный характер. О причинах тому гадать не приходится, они лежат на поверхности. Во‑первых, Ярослав должен был учитывать неудачный опыт радикальной ломки традиции родового совладения, который имел место в Польше при Болеславе I (992‑1025) и, кажется, на Руси при Владимире Святославиче (978‑1015)[114]. Как далеко могло завести сопротивление такой ломке со стороны обойденных членов княжеского семейства, Ярослав убедился самолично, содействуя возвращению в Польшу Оттона, одного из лишенных удела братьев Мешка II[115], и наблюдая распад Польского государства после смерти последнего в 1034 г. Во‑вторых, междоусобие Владимировичей на Руси в 1015–1019 гг., активнейшим участником которого был сам Ярослав, показало, насколько важно не только обеспечить главенство киевского князя, но и суметь оградить младших братьев от насилия со стороны сидящего в Киеве старшего. Идейный пафос первых текстов борисоглебского цикла (возникших в 1060‑е гг. летописной повести об убиении Бориса и Глеба и анонимного «Сказания» о святых братьях‑страстотерпцах) – послушание младших князей старшему и справедливость старшего по отношению к младшим – и есть идеология умеренного сеньората, который имелся в виду «рядом» Ярослава. Двое из четырех младших братьев Изяслава Ярославина, которые имели столы совсем рядом с Киевом и делили со старшим честь совладения «Русской землей» в узком смысле, должны были, по мысли Ярослава, не столько ограничивать сеньорат Изяслава, сколько стабилизировать его, гарантируя от возможных злоупотреблений со стороны киевского сениора. Ведь и сам сеньорат был вовсе не ступенью на пути к единовластию (как невольно представляется сознанию современного человека), а именно способом гарантировать мирное братское совладение, которое одно только и было легитимной формой сохранения государственного единства в представлении людей того времени[116]. Вот почему действия княжеской власти в рамках сеньората описаны печерским летописцем как общие, коллективные действия всей братии Ярославичей, а не только старейшего или трех старших из них, хотя и сеньорат киевского князя, и своеобразный «триумвират» киевского, черниговского и переяславского князей, как мы стремились показать, являлись составными частями «ряда Ярославля» 1054 г.
III. Династический строй Рюриковичей Х‑XII веков в сравнительно‑историческом освещении[117]
В относительно недавно вышедшей книге двух известных английских исследователей, которая претендует, по замыслу авторов, на формулировку во многом подчеркнуто нового взгляда на историю Древней Руси, среди прочих неординарных мыслей высказывается убеждение, что одной из характерных особенностей древнерусского княжеского семейства было отсутствие у него каких‑либо определенных династических правил: в каждом конкретном случае (начиная от отдельного столонаследия и кончая общерусскими договорами вроде Любечского 1097 г.) Рюриковичи будто бы гибко применялись к особенностям сложившейся ситуации, не стесняя себя теми или иными общими династическими принципами[118]. Будучи увлечены собственными идеями, авторы не склонны придавать большого значения разбору историографии, постулируя это даже в качестве исследовательской позиции[119]. Возможно, в иных случаях такой подход и имеет какие‑то оправдания, но никоим образом не в случае с деликатной проблематикой династических взаимоотношений в семействе Рюриковичей в целом и в отдельных его ветвях в частности, несмотря на всю противоречивость суждений, высказывавшихся в науке на этот счет, а быть может, – именно ввиду такой противоречивости.
В данном случае позиция С. Франклина и Дж. Шепарда смыкается с крайностями так называемой «договорной теории» междукняжеских отношений, сформулированной в свое время В. И. Сергеевичем[120] в его полемике с «родовой теорией» С. М. Соловьева[121]. Развитие науки показало бесперспективность абсолютизации какого‑то одного – будь то родового, будь то договорного – начала, ибо ни собственно родовые отношения внутри династии сплошь и рядом не обходились без договора, их подкреплявшего[122], ни договор не мог функционировать вне понятий династического легитимизма[123]. Поучительно наблюдать, как далеко за пределами древнерусской проблематики и абсолютно независимо от нее вдруг возникают схожие историографические коллизии. Так, давно и, казалось бы, прочно закрепившаяся в науке теория, выводящая территориально‑политическую структуру Франкского государства эпохи первых Меровингов из архаической практики внутри‑родовых разделов[124], вдруг была подвергнута радикальному сомнению в пользу идеи о том, что эти разделы определялись вовсе не какими‑то общими династическими понятиями, а политическим договором ad rem, который исходил исключительно из особенностей ситуации[125]. Не приходится сомневаться, что субъекты этой полемики не подозревали о существовании своих русских прототипов вековой давности. Но для русиста эти симптоматичные схождения должны послужить лишним поводом вывести династическую проблематику Рюриковичей на простор сравнительно‑исторических сопоставлений.
Разговорам о Древнерусском государстве как семейном владении Рюриковичей, начатым в рамках «родовой теории», суждено было надолго умолкнуть отнюдь не вследствие критики со стороны школы В. И. Сергеевича. Когда после работ С. В. Юшкова и Б. Д. Грекова в отечественной науке почти исключительно утвердился взгляд на Древнюю Русь как на государство феодальное, взаимоотношения между Рюриковичами даже древнейшей поры (до конца XI в.), если о них заходила речь, трактовались, как правило, в терминах сюзеренитета – вассалитета, то есть семейная терминология стала восприниматься лишь в качестве формы, которая скрывала фактически феодальные отношения[126].
В свое время, приступая к исследованию междукняжеских отношений на Руси, мы исходили из такой историографической ситуации как из данности и пытались путем типологических сопоставлений определить, с какого именно времени реальное содержание семейной терминологии оказалось выхолощенным, когда именно она превратилась в форму для иноприродного содержания? Внутридинастические отношения, в силу их относительно хорошей освещенности источниками, представлялись нам удобным материалом для выявления их постепенной феодализации, которая, в свою очередь, могла служить известной мерой «феодальности» общества в целом, а также помочь в поисках рабочих критериев синхро стадиальности разных обществ, тогда как эти критерии обеспечили бы уже научную обоснованность типологической компаративистики[127]. Однако углубление в тему, и прежде всего именно в сравнительно‑исторический материал, убедило нас в необходимости отличать династическую проблематику от вопросов становления феодализма.
Феодальные, иными словами сюзеренно‑вассальные, отношения связывают не членов династии друг с другом, а членов династии – со знатью, в той мере, в какой она состоит из держателей бенефициев (оговоримся на всякий случай, что ведем речь о раннефеодальном периоде). Таким образом, то, что можно было бы назвать феодализацией общества, происходило не внутри династии, а рядом с ней, хотя и при ее участии. Это очевидно на примере Франкского государства – в отличие от Руси, где скудость (если не сказать – отсутствие) выразительных данных о феодализации в домонгольское время заставляла историков искать следы феодализма там, где обнаруживается хоть какая‑то иерархичность отношений, то есть внутри на удивление разветвленной и многочисленной княжеской династии. Пример Франкского государства ясно показывает, что видеть в междукняжеских династических разделах проявление пресловутой «феодальной раздробленности» совершенно неверно; образование династических уделов и феодальная децентрализация не имеют между собой ничего общего. Во‑первых, разделы между членами династии сопровождают всю историю Франкского королевства, начиная с его основателя Хлодвига (умер в 511 г.), когда не только о феодальной раздробленности, но и о начатках феодализма говорить затруднительно. Во‑вторых, мы видим, как совершенно независимо от династических уделов – отнюдь не на их основе, а внутри них – образуются те самые устойчивые наследственные территориальные владения знати, которые со временем становятся главными носителями феодальной раздробленности[128]. Удивительную типологическую близость династических порядков на Руси Х‑XII вв. и во Франкской державе VI–IX столетий[129] невозможно продлить на общественно‑политический строй обоих государств, который вырастает из слишком несхожих корней.
К сфере династической истории принадлежит по преимуществу и тема столонаследия, хотя эволюция его форм, попытки вывести его из сферы обычного права, подвергнуть особому регулированию, разумеется, стоят в связи с развитием государственности и государственного правосознания, и о некоторых сторонах этой зависимости пойдет речь и в настоящей работе.
Основополагающим принципом, определявшим взаимоотношения между членами правящих династий во многих раннесредневековых европейских государствах, был институт, изученный в первую очередь на франкском материале и получивший в науке название братского совладения[130] (corpus fratrum, Brüdergemeine, gouvernement confraternel)\ оно выражалось в непременном соучастии всех наличных братьев в управлении королевством по смерти их отца, что имело следствием территориальные разделы между ними, возникновение королевств‑уделов[131]. Показательно, что при этом сохранялось представление о политическом единстве, которое, таким образом, вовсе не связывалось с единовластием как нормой, а было воплощено именно в единстве правившего рода. Благодаря этому единству единовластие всегда присутствовало как потенция, способная реализоваться в любой момент в силу династической конъюнктуры.
В феодализирующемся государстве corpus fratrum являлось пережитком эпохи варварских королевств, когда королевская власть была прерогативой не одной личности, а всего правившего рода, что обусловливало применение к объекту властвования процедур обычного наследственного права. Это могло быть связано, как считается, с идущим из древности представлением о сакральной природе королевской власти, в силу которой каждый член королевского рода ео ipso обладал властной харизмой. Следствием было известное безразличие к дифференцированной титулатуре: «королем» (тех) был всякий член рода, королями в равной мере титуловались все участники династических разделов по corpus fratrum у франков. Сходным образом и на Руси вследствие монополии Рюриковичей на княжеское достоинство важно было подчеркнуть принадлежность к роду с помощью универсального титула «князь», а также место во внутриродовой иерархии (как правило, посредством указания на принадлежность к поколению «отцов» или «сыновей»), тогда как к употреблению внешних символов власти, в том числе и развернутой титулатуры, наблюдается известное безразличие[132]. Не удается обнаружить в источниках и следов сколько‑нибудь развитой церемонии княжеского настолования, которая была бы связана с вручением тех или иных инсигний власти (венца, державы и т. и.) или церковным помазанием[133]. Единственное, что стремится иной раз подчеркнуть летописец в связи с интронизацией киевских князей – это отчинную преемственность, то есть чисто династически‑родовую сторону дела: «седе имя рек на столе отне и дедне».
Слом династического легитимизма у франков в VIII в., когда Меровинги были сначала de facto, а затем и de iure насильственно устранены от власти и на престол взошел Пипин Младший (751–768), первый король новой династии Каролингов, имел следствием повышенное внимание к репрезентации власти и введение в коронационный церемониал дополнительных сакральных процедур – в частности, церковного помазания. Необычность для «варварских» династий такого нововведения была очевидна и стала даже предметом иронии со стороны византийских наблюдателей[134]. Но и эта естественная озабоченность Каролингов проблемой легитимизации своей династии не могла воспрепятствовать усвоению (или сохранению) ими идеологии и практики братского совладения. Более того, позволительно догадываться, что они воспринимали последнее в качестве одного из признаков легитимности, «правильности» устройства династии. Если говорить о титулатуре, то это выразилось в продолжавшейся ее нивелировке, которая, как ни парадоксально, имела место даже после учреждения у франков империи в 800 г. Трудно найти документ более официальный, чем политическое завещание Карла Великого (768–814) – так называемое «Размежевание королевств» («Divisio regnorum», 806 г.), и потому особенно показательно, что все трое сыновей Карла, которые были в живых на тот момент, не только получали по распоряжению отца примерно равные уделы, но и титуловались совершенно одинаково – reges. И напрасно историк стал бы искать в завещании вроде бы столь уместного упоминания об «империи» или праве на титул «император»[135]: завещание оказывается несомненным документом идеологии братского совладения.
Эти типологические наблюдения еще раз подтверждают неоднажды высказывавшееся в науке суждение, что эпизодически встречающийся в древнерусских текстах X – третьей четверти XII в. титул «великий князь» (в той мере, в какой он применялся к киевским князьям) не был официальным в смысле отражения какого‑то устойчивого политико‑династического терминологического обычая. В определении «великий» следует скорее всего видеть чисто риторическую амплификацию, иногда калькирующую иноязычные образцы (как в договорах с греками первой половины X в.)[136].
Аналогично обстояло дело и в сфере собственно владельческой: государственная территория и доходы с нее рассматривались как общесемейная собственность. Тем самым на последнюю распространялось обычное наследственное право, предполагавшее равное наделение всех сонаследников. Иногда такие разделы власти между братьями считаются проявлениями древнего германского права[137], однако славянские материалы показывают, что этот институт был распространен шире. Так или иначе он отмечается во многих раннесредневековых государствах: в Дании[138], Норвегии[139], Великой Моравии[140], Чехии, Польше[141] и др. Это типологическое сходство объясняется, очевидно, тем обстоятельством, что в своей основе древнейшие династические установления воспроизводили обычное наследственное право, имевшее у соответствующих народов общие корни[142]. Останавливаться здесь на этом параллелизме у нас нет возможности, тогда как сосредоточиться именно на франкских материалах заставляет не только благоприятное состояние источников. Дело еще и в том, что в других ранних германских королевствах братское совладение очень рано было утрачено, сменившись ярко выраженным сеньоратом (как у вандалов[143]) или единовластием на выборной основе, хотя и ограниченной рамками одного рода (как у вестготов[144] или лангобардов[145]), и лишь у франков возобладал архаический принцип раздела. Вопрос о причинах такой исключительности оставляем в стороне; для нас важно констатировать сам ее факт, который и создает возможность сравнения династического строя у франков и на Руси. Каролингские мажордомы конца VII – первой половины VIII в. в лице Пипина Среднего и Карла Мартелла препятствовали разделам между меровингскими королями – но только затем, чтобы практиковать их внутри собственной быстро крепнувшей династии. Единоличная власть короля Хлодвига, создателя Франкской державы, стала возможной в результате поголовного уничтожения им на рубеже V–VI вв. всех родичей и представителей других королевских родов у франков[146]. Но основанное Хлодвигом королевство все равно и им самим, и его преемниками воспринималось как патримоний и потому оказалось поделено поровну между четырьмя его сыновьями[147].
Сходный процесс на Руси пришелся, очевидно, на середину и третью четверть X в., после чего княжеская власть сосредоточилась в руках Игоревичей. Между тем, еще в 940‑х гг. существовало достаточно многочисленное княжеское семейство, главные представители которого перечислены в преамбуле русско‑византийского договора 944 г.[148] Наличие в этом списке женщин, а также скандинавские имена послов не позволяют видеть в лицах, имевших право на личных представителей во время переговоров, ни посадников киевского князя на местах, ни местных родоплеменных князей, а только кровнородственный коллектив Рюриковичей. Весь он, как есть основания думать, консолидированно пребывал в Киеве[149], из чего можно заключить, что речь идет о ранней стадии братского совладения, которая выражалась в праве на долю в государственном доходе (данях), но пока еще без территориальных разделов. Эта практика, равно как не вполне ясная территориально‑политическая структура Древнерусского государства первой половины X в. в целом[150], подвергается затем (вероятно, в правление княгини Ольги и ее сына Святослава) преобразованиям, в ходе которых на смену нераздельному совладению приходят территориальные уделы.
Архаичность corpus fratrum лишний раз подчеркивается тем, что сыновья от наложниц при разделах обычно уравнивались в правах с сыновьями от свободных жен. Так, по поводу раздела между сыновьями датского короля Кнута Могучего (умер в 1035 г.), произведенного по распоряжению последнего, Адам Бременский (70‑е гг. XI в.) замечает: несмотря на то, что «Свен и Харальд были сыновьями от наложницы, они, по обычаю варваров, получили равную долю наследства среди детей Кнута»: Харальд – Англию, Свен – Норвегию, а законный сын Хардекнут – Данию[151]. Соответственно и у Меровингов внебрачные дети были равноправными наследниками франкских королей; Каролинги, поставившие королевскую власть в зависимость от легитимизирующей церковной санкции в виде помазания, не могли вполне игнорировать разницу в династическом статусе между рожденными в церковном браке и внебрачными детьми, но и они оставляли за собой право признавать при желании или необходимости внебрачных сыновей в качестве законных наследников[152]. Конкубинат был в порядке вещей и в славянских династиях. Козьма Пражский (первая четверть XII в.), сообщая о внебрачном происхождении чешского князя Бржетислава I (1034–1055), который был сыном князя Олдржиха (1012–1034) от наложницы Божены, отмечает не только позволительность, но даже определенную династическую престижность конкубината в то время[153]. Великопольский и мазовецкий князь Збигнев, старший сын польского князя Владислава‑Германа (1079–1102) и брат Болеслава III (1102–1138), был рожден еще до брака своего отца с его первой супругой[154]. Возможно, связь Владислава с матерью Збигнева церковь объявила конкубинатом только для того, чтобы открыть дорогу для политического брака Владислава с дочерью чешского князя Братислава II[155], но показательно, что это ничего не изменило в юридическом статусе Збигнева, который в 1093 г. был объявлен законным наследником, а после смерти отца получил половину державы.
Аналогичным было положение дел и на Руси. Мстислав, сын киевского князя Святополка Изяславича (1093–1113), «бе от наложнице», что, однако, ничуть не мешало ему действовать равноправно наряду с законными сыновьями: в 1097 г. он был посажен отцом на Волыни[156]. Есть данные, указывающие на внебрачное происхождение и самого Святополка Изяславича[157]. В свете сказанного наделение Новгородом «робичича» Владимира Святославича наравне с братьями Ярополком и Олегом, получившими Киев и землю древлян соответственно, выглядит вполне закономерно, тогда как явно анекдотический характер летописного рассказа о приглашении Владимира новгородцами («Аще бы шел кто к вам»)[158] только затемняет суть дела.
Однако в самой патримониальной природе corpus fratrum был заложен роковой порок. Да, династическое единство, несмотря на наличие уделов, служило очевидной манифестацией и реальным залогом единства государственного. На этом принципе была построена вся психология власти, характерная для братского совладения. Впечатляющей декларацией ее может служить ответ франкского императора и итальянского короля Людовика II (850–875) на несохранившееся послание византийского императора Василия I (867–886). Едва взойдя на престол василевсов, Василий I поставил под сомнение признанный в свое время его предшественником Михаилом I (811–813), хотя и с оговорками, императорский титул франкских государей, причем одним из аргументов для Василия I, как можно понять, было отсутствие единовластия у франков. В 871 г. в Константинополе получили характерное разъяснение: «Относительно того, что ты говоришь, будто мы правим не во всем Франкском государстве, прими, брат, краткий ответ. На самом деле мы правим во всем Франкском государстве, ибо мы, вне сомнения, обладаем тем, чем обладают те, с кем мы являемся одной плотью и кровью (выделено нами. – А. И.), а также – единым, благодаря Господу, духом»[159]. Столь развитое династическое сознание, разумеется, не могло рассчитывать на понимание в Византии[160]. Но хуже было другое. Возникавшая время от времени вследствие благоприятной династической ситуации устойчивость того или иного удела не могла не приводить к столкновению между принципом родового совладения и идеей отчинности удела, которая была столь же неотъемлемой частью патримониального сознания, как и родовое совладение, являясь, в сущности, проявлением этого сознания на уровне удела. Таким образом, патримониальное сознание, коль скоро оно определяло династические отношения, порождало не только братское совладение, но и его конфликт с идеей отчинности.
Принцип братского совладения предполагал в случае смерти одного из братьев только один образ действий: удел умершего доставался не его потомству, а остававшейся в живых братии – так называемое «прирастительное право» (Anwachsungsrecht), если пользоваться немецкой юридической терминологией. Так, трое братьев, сыновей франкского короля Хлотаря I (511–560/1), ставшего в 558 г. единовластным правителем Франкского государства, в 568 г. поделили между собой удел умершего четвертого брата, Хариберта (561–567)[161]. Совершенно понятно, что подобная практика должна была приводить к конфликту с достаточно взрослыми сыновьями покойного, коль скоро таковые имелись, с их выраставшим из патримониального быта правом на наследование удела отца – отчинным «заместительным правом» (Eintrittsrecht). Отчинному праву и у франков, и на Руси принадлежало будущее, но на этом основании вовсе не следует думать, что оно было моложе братского совладения[162]. Примеры наследования по «заместительному праву» в государстве Меровингов столь же древни, как и по «прирастительному», и известны уже с VI в. Когда в 533 г. умер старший сын Хлодвига Теодерик I, его удел наследовал сын Теодеберт I, несмотря на наличие у Теодерика братьев. После гибели в 524 г. Хлодомера, младшего в потомстве Хлодвига, его удел оказался под управлением его матери, вдовы Хлодвига Хродехильды[163], предназначаясь в будущем для трех малолетних сыновей Хлодомера.
Неудивительно поэтому, что столкновения между дядьями и племянниками столь обычны как для Франкского государства, так и для Древней Руси. Теодеберт I, будучи к моменту смерти Теодерика I вполне взрослым и пользуясь поддержкой воинов своего отца, сумел отстоять свое отчинное право, несмотря на намерение его дядей, Хильдеберта и Хлотаря, разделить наследие старшего брата[164]. В случае же с сыновьями Хлодомера их малолетство позволило тем же Хильдеберту и Хлотарю через некоторое время вмешаться и, после убийства двух племянников и пострижения третьего, разделить королевство брата[165].
Наиболее ранними примерами на Руси могут служить вооруженные выступления подросших сыновей младших Ярославичей, имевшие место в киевское княжение их дядей Изяслава и Всеволода. В 1057 г. на смоленском столе умирает один из младших Ярославичей – Вячеслав, и в Смоленск из Волыни переводится его брат Игорь, который вскоре, в 1060 г., также умирает[166]. О судьбе Волыни после 1057 г. сведений нет, но вот Смоленск по смерти Игоря Ярославича оказался поделен между тремя братьями покойного[167] – достаточно типичный случай действия «прирастительного права». Это заставило в 1081 г. возмужавшего Давыда Игоревича обратить внимание на свои династические права путем мятежа – захвата сначала Тмутаракани, а затем приморского Олешья. В результате Давыд добился от своего дяди, киевского князя Всеволода Ярославина (1078–1093), выделения себе стола, причем, заметим, в конечном итоге не какого‑нибудь, а своей отчины – Владимира Волынского[168]. Когда в ходе передела волостей после смерти киевского князя Святослава Ярославина (1073–1076) и второго возвращения в 1077 г. на киевский стол Изяслава Ярославина племянник последнего Олег Святославич лишился Волыни, он явился в отчий Чернигов, который к тому времени оказался занят другим его дядей – Всеволодом Ярославичем[169]. Не сумев договориться со Всеволодом, Олег, возможно, оставшийся к тому времени старшим среди Святославичей[170], счел себя вправе добиваться отчины силой и в 1078 г., хоть и ненадолго, захватил Чернигов[171]. Какую цель ставил перед собой другой племянник Изяслава и Всеволода – Борис Вячеславич, выступивший в 1078 г. союзником Олега, из источников неясно, но по аналогии можно догадываться, что в конечном итоге и он стремился овладеть своей отчиной – Смоленском.
Интересно отметить, что в летописных контекстах и в случае с Олегом, и в случае с Давыдом о борьбе за отчину не говорится и термин «отчина» не употребляется. Вполне возможно, что летописец просто не прозревал отчинной подоплеки конфликтов вследствие ее завуалированности: раз Давыд поначалу удовольствовался Дорогобужем, значит, добивался не столько именно Волыни, сколько достойной волости вообще; в этом смысле отчинный Владимир оказывается равен неотчинному Дорогобужу И, продолжая эту логику: если бы Олегу весной 1078 г. была бы оставлена Волынь, вряд ли он стал бы требовать Чернигов. Наверное, так. Но дело в том, что владимирский стол был для Олега также отчинным, ведь именно на Волыни некоторое время, еще при жизни Ярослава Мудрого, сидел Святослав Ярославин[172]. Тогда стало бы понятным, почему беспокойный Давыд терпеливо ждет, когда Волынь освободится после Ярополка – ведь и для последнего Владимир был, как можно думать, отчинным столом[173], а генеалогически Изяславич был старше Игоревича.
После сказанного неудивительно, что в 1097 г. принцип «кождо да держить отчину свою» лег в основу общерусского междукняжеского договора, заключенного в Любече[174]. Думаем, неверно было бы понимать летописное сообщение об этом договоре так, будто возникшие из отчин владения Святополка Изяславича, Владимира Всеволодовича и Святославичей противопоставлены в нем владениям Давыда Игоревича и Ростиславичей как пожалованиям, полученным от киевского князя Всеволода Ярославина («<…> имже роздаял Всеволод юроды»). Нет, и стол Давыда, и, возможно, столы Ростиславичей[175]также были отчинными, только эту отчинность уже успел подтвердить Всеволод. Не Любечский договор создал древнерусскую отчину и, тем более, не прецедентное право в связи с отвоеванием Олегом отчинного Чернигова в 1094 г. (после чего термин «отчина» настойчиво зазвучал на страницах летописи), а древнее родовое отчинное право, легшее в основу любечских решений, сделало эти последние понятными и удовлетворительными для всех. О том же говорят и примеры из франкской истории.
Прогнозируемость конфликта побуждала к попыткам законодательно урегулировать принципиальное противоречие между братским совладением и отчинностью. Так, соответствующую клаузулу содержит уже упомянутое завещание Карла Великого 806 г. После подробных распоряжений о том, как в случае смерти одного из братьев следует поделить его королевство между двумя остальными, читаем: «Если же у того или иного из этих трех братьев родится такой сын, которого народ захочет избрать для наследования отцу в его королевстве, то желаем, чтобы дядья того юноши согласились на это и позволили сыну своего брата править в части королевства, которая принадлежала его отцу, их брату»[176]. Понятно, что тем самым сделано, да и сказано, немного: обязать братьев‑соправителей санкционировать пожелания местной знати (разумеется, именно ее приходится подразумевать под «народом») означало всего лишь признать сложившуюся противоречивость династического права, призывая по возможности, исходя из конкретной политической ситуации, учитывать оба принципа: и вытекающее из corpus fratrum право дядей (от них требуется «позволение»), и отчинное право племянников. В этом смысле показателен уже упоминавшийся пример Давыда Игоревича. С одной стороны, он получает Волынь из руки киевского князя Всеволода Ярославича, своего дяди; с другой – ничто, казалось бы, не заставляет Всеволода перемещать племянника на освободившийся владимирский стол, ведь Давыд уже имеет удел. Но киевский князь все же делает это. Что движет им? Только признание отчинного права Давыда. И потому посажение Игоревича на Волыни – это все тот же династический компромисс, к которому призывал своих сыновей Карл Великий в завещании 806 г.
Возвращаясь на мгновение к спору между сторонниками семейнородового и договорного начал во внутридинастических отношениях, о котором шла речь в начале статьи, заметим, что тут‑то, в необходимости действовать внутри системы конфликтных правовых начал, совершенно очевидно, и открывается поле для договора – как между князем (королем) и знатью, так и между членами династии. Но причиной тому оказывается вовсе не отсутствие династических принципов, а напротив – их сложное многообразие.
Говоря о типичном для братского совладения конфликте между дядьями и племянниками, надо иметь в виду еще один, особый, случай отчинного права, который в равной мере представлен и у франков, и на Руси.
Отчинное право потому и получило наименование «заместительного», что сыновья умершего члена династии наследовали не столько удел отца, сколько его династический статус, «место» отца в династической иерархии[177]. Собственно, это последнее и определяет статус удела покойного. В результате положение по отношению к дядьям тех племянников, отец которых умер самостоятельным соправителем по corpus fratrum, принципиально отличалось от положения тех, отец которых таким полноценным участником братского совладения по тем или иным причинам не был – обычно просто потому, что не успел им стать, умерев прежде своего отца[178]. Так, несмотря на то что старший сын Карла Великого Пипин, король Северной Италии, умерший в 810 г. при жизни отца, оставил сына Бернхарда, это не привело к разделу между Бернхардом и его дядей Людовиком, младшим сыном Карла, после смерти последнего в 814 г.: сын Пипина, еще при Карле назначенный итальянским королем вместо отца и в этом смысле наследовавший ему, так и остался таковым под рукой своего дяди Людовика Благочестивого (814–840)[179]. Точно такая же судьба ждала и аквитанского короля Пипина II, сына Пипина I Аквитанского, среднего из трех сыновей Людовика Благочестивого. Пипин I скончался при жизни отца, в 838 г., и потому его сын и тезка не был допущен к участию в разделе Франкского государства по Верденскому договору 843 г. наравне с дядьями и вынужден был ограничиться аквитанским уделом своего отца под властью дяди Карла Лысого (840–877), за которым в Вердене было закреплено Западнофранкское королевство. Такое положение дел de iure, конечно, вовсе не исключало того, что для его фактической реализации и Карлу, и Пипину пришлось применить вооруженную силу; в результате в 845 г. между ними был заключен соответствующий договор[180], который, однако, не помешал Карлу впоследствии избавиться от неудобного племянника.
И Пипин Итальянский, и Пипин I Аквитанский ушли из жизни в положении удельных королей, подчиненных своим отцам – Карлу Великому и Людовику Благочествому; реализация отчинного права их сыновей, Бернхарда и Пипина II, делала последних преемниками этого подчиненного статуса. При жизни Карла и Людовика владельческое положение их осиротевших внуков внешне вроде бы не отличалось от положения их сыновей: и те, и другие титуловались королями и располагали собственными уделами‑королевствами, находясь под верховной властью деда и отца. Однако династический статус внуков и сыновей при этом был разный, так как внуки не обладали правом участия в государственном разделе по смерти деда, как сыновья – по смерти отца; подчиненное положение внука по отношению к деду продолжалось в виде подчинения племянника по отношению к дяде (дядьям). Подчиненное положение племянников в таких случаях характеризуется в литературе условным термином «подкоролевство» (Unterkönigtum), чтобы отличить его от самостоятельных уделов дядей[181]. Источникам, однако, этот термин неизвестен, и несмотря на различное место в династической иерархии, как дядья, так и племянники в равной мере титуловались королями, а их владения – королевствами. Попытки сломать эту династическую традицию предпринимались: Карл Лысый – насколько можно судить по терминологии «Бертинских анналов», которые в целом отражали его позицию[182], – предпочитал в упомянутом договоре 845 г. с Пипином II характеризовать владения племянника не как «королевство» (<regnum), а как «волость» (<dominatus)[183]. Однако такие попытки были единичны и, главное, безрезультатны: сам Пипин II, хотя и признавал Карла своим «главой» (patronus), в своих грамотах продолжал именовать свои земли королевством[184], и Карл не мог ему в этом воспрепятствовать.
Изложенное помогает, как представляется, лучше понять династическую природу схожих случаев на Руси.
Стараясь объяснить особое среди прочих Рюриковичей положение полоцких Изяславичей, один из авторов «Лаврентьевской летописи» излагает под 1128 г. предание, будто киевский князь Владимир Святославич (978‑1015) за вину Рогнеды (покушение на жизнь князя) раз и навсегда ограничил права ее первенца Изяслава и его потомства Полоцким княжением[185]. Наивное представление, будто династический статус полоцких Изяславичей был определен волевым решением Владимира, как мы теперь понимаем, совершенно неверно. Дело в другом: Изяслав Владимирович скончался в 1001 г.[186], то есть еще при жизни отца. Вот почему Брячислав Изяславич, несмотря на всю свою воинственность, по законам братского совладения не мог претендовать на участие в разделе наследия своего деда наряду с дядьями Святополком, Ярославом и Мстиславом Владимировичами. Уступку Ярославом Брячиславу двух городов, Усвята и Витебска[187], разделом, естественно, назвать никак нельзя, то была просто цена лояльности беспокойного соседа.
Равным образом выпадал из раздела по смерти Ярослава Мудрого внук последнего Ростислав Владимирович, сын старшего из Ярославичей, умершего при жизни отца, в 1052 г.[188], и потому немудрено, что источники ничего не говорят о его наделении. Это не значит, что по завещанию Ярослава 1054 г. или несколько позднее по воле дядей Ростислав не получил удела. Удел, несомненно, имелся, и косвенные данные позволяют догадываться, что таковым могла быть Волынь или ее южная часть с центром в Перемышле, где позднее застаем старшего из Ростиславичей – Рюрика[189]. Но этот удел не был самостоятельным, подобно уделам Ярославичей, – и вовсе не потому, что не был наследственным, полученным от отца. Точно так же не был самостоятельным, несмотря на наследственный характер, и полоцкий удел Изяславичей. Как наследственные уделы Бернхарда и Пипина II Аквитанского должны были оставаться вечными «подкоролевствами», независимо от перемен на императорском престоле, так и уделы Изяславичей и Ростиславичей обрекались на вечное подчинение Киеву, и никакие династические катаклизмы не способны были изменить этого статуса. Поэтому‑то киевские князья – и Владимир Всеволодович Мономах в 1116 г., и Мстислав Владимирович в 1127 г. – были вполне в своем праве, когда старались привести строптивых полоцких Всеславичей в свою волю[190], ведь по положению в династической иерархии Полоцк оставался киевской волостью.
Сугубо династически‑родовая природа этого княжеского «изгойства» верно отмечена в глоссе к статье 17 «Устава князя Всеволода»: «А се четвертое изгойство (выше шла речь об изгоях‑попах, холопах и купцах. – А. Н.) и себе (то есть князьям. – А. Н.) приложим: аще князь осиротееть»[191]. Нелепо было бы думать, что автор этой глоссы хотел сказать, будто такой князь‑изгой попадал, подобно изгоям священнику или купцу, в число «церковных людей» (именно перечисление «церковных людей» и составляет содержание 17‑й статьи «Устава»). В самом деле, кто такой «осиротевший» князь? Всякий князь рано или поздно терял родителей, поэтому выражение «аще князь осиротееть» должно было иметь какой‑то специфический смысл. Понятно, что речь шла именно о несвоевременном сиротстве, причем несвоевременном не в собственно возрастном отношении, ибо малолетство княжича само по себе не означало ущемления его прав как князя, а лишь затрудняло их осуществление. Имелась в виду несвоевременность династическая, когда отец изгоя, не пережив своего отца, не успевал стать самостоятельным князем по понятиям братского совладения. Именно в таком случае княжич и его возможное потомство были обречены навсегда остаться «подручниками» у своих династически более удачливых родичей. А князь‑подручник – это, с точки зрения идеологии братского совладения, своего рода смысловое противоречие: только те князья суть «настоящие», которые являются «братьями» друг другу или «сыновьями» при «отце», то есть не потеряли династической возможности со временем стать «братьями». В этом смысле показателен возмущенный ответ смоленских Ростиславичей владимиро‑суздальскому князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому (1157–1174), приказавшему им оставить Киев и другие столы в Киевской земле: «Мы тя до сих мест яко отца имели по любви. Аже еси с сякыми речьми прислал, не акы к князю, но акы к подручнику и просту человеку <…>, а Бог за всем (то есть пусть Бог нас рассудит. – А. Н.)»[192].
Что же, составитель статьи 1128 г. «Лаврентьевской летописи», в отличие от глоссатора «Устава князя Всеволода», был так плохо знаком с династическими понятиями князей, дела которых описывал? Нет, конечно. Просто при изложении поэтически‑красочного предания, которое носит все признаки этиологической легенды, летописец позволил себе отвлечься от исторической прозы, уверяя читателя, будто Владимир построил для Изяслава и его матери город Изяславль (один из удельных центров Полоцкой земли) и «оттоле мечь взимають Роговоложи внуци противу Ярославлих внуков», – хотя не мог не знать, что Изяслав был посажен отцом не в Изяславле, а в Полоцке, и что Рогнеда была матерью не только Изяслава, но и Ярослава[193].
Итак, изначально междукняжеские отношения, вырастая из отношений патримониальных, по самой своей природе сопротивлялись феодализации, подчинению идее вассалитета, так как в принципе все князья были актуально или потенциально равны, старшие были для младших «яко отци по любви». И только особенное положение князей‑изгоев давало повод и возможность для, так сказать, «огосударствления», или (что то же в данном случае) «феодализации» отношения к ним со стороны династически старейшего. Повествуя о государственной присяге, то есть феодальной коммендации Пипина Аквитанского Карлу Лысому при заключении упомянутого договора 845 г., источник тут же «переводит» ее на язык семейнодинастической терминологии: «<…> приняв от него клятву верности, что он отныне будет ему верен, как племянник своему дяде, и во всякой нужде будет посильно помогать ему»[194]. Таким образом, феодализация родовых междукняжеских отношений оказывается тесно связана с вызреванием в политической элите государственного сознания. Проблема становления такового в целом далеко выходит за рамки проблематики данной статьи и здесь может быть только намечена в той мере, в какой сфера государственной идеологии непосредственно связана с эволюцией династического строя.
Действительно, с ростом государственного самосознания власти неизбежно должно было расти и сопротивление идее механического ее, власти, дробления. В странах, где господствовало братское совладение, это естественным образом вело к попыткам создания такого династического порядка (включая способ престолонаследия), который сочетал бы традиционное corpus fratrum с той или иной институционализацией единовластия. Подобного рода усовершенствованной формой братского совладения и у франков, и на Руси, и в ряде других раннесредневековых государств (Чехии, Польше) стал сеньорат.
* * *
В самом общем виде сеньорат можно определить как династический строй, в котором генеалогически старейшему в правящем роде усваиваются те или иные политические прерогативы в рамках всего государства. Очень важно не смешивать сеньорат с генеалогическим старейшинством, равно как и понимать, что сеньорат не создавал понятия генеалогического старейшинства, которое, являясь семейно‑родовым по природе, всегда существовало в рамках corpus fratrum. Сеньорат был только попыткой придать старейшинству определенные общегосударственные политические функции.
В самом деле, при первоначальном братском совладении старший из сыновей отнюдь не наследовал общесемейной власти покойного отца, которая обеспечивала политическое единство. Разделы между братьями не сопровождались установлением какой‑либо политической зависимости младших от генеалогически старейшего. Политически братья были совершенно независимы друг от друга, и это политическое равенство только подчеркивалось старательно выверенным равенством их уделов. И даже раздел, предусмотренный уже упоминавшимся политическим завещанием Карла Великого, «Размежеванием королевств», имел в виду примерно равное наделение трех имевшихся на тот момент сыновей императора – Карла, Пипина и Людовика, ничего не говоря о каком бы то ни было верховенстве старшего, Карла, над младшими[195].
Поэтому нам кажется неверным представление, отразившееся и в последних монографических исследованиях о социально‑политическом строе Древней Руси, будто учет генеалогического старшинства при разделах (выразившийся, например, в том, что в 969/72 г. именно старшему из Святославичей, Ярополку, достался Киев) имплицирует наличие политической власти старейшего; будто уже с середины X в., со времен Игоря и Святослава, столонаследие на Руси велось по прямой восходящей линии, что явилось‑де результатом длительного укрепления княжеской власти[196]. Все просто, когда у князя сын – единственный и нет братьев (Святослав Игоревич). Иное дело – Святославичи. Источники не дают ровным счетом никаких оснований представлять себе положение Ярополка Киевского особым сравнительно с братьями – Олегом Древлянским и Владимиром Новгородским, и даже говорить об уделах последних как об «условных держаниях»[197]. А сравнительно‑исторический материал прямо говорит об обратном. Полагаем, правы были В. О. Ключевский, А. Е. Пресняков и другие исследователи, которые считали что никакой государственно‑политической зависимости от старшего брата здесь не видно[198], хотя никто из этих историков на типологию в данной связи не опирался. Отношения между Святославичами регулировались исключительно родовым обычаем, и привносить в них государственные элементы, с нашей точки зрения, столь же неверно, как усматривать в наделении Владимиром Святославичем сыновей симптом нарождавшейся «феодальной раздробленности» или, наоборот, – некую реформу административного управления Киевского государства на местах, которая имела целью укрепление централизованной государственной власти, поскольку политическая власть князя тем самым якобы помножалась на власть отцовскую[199].
Такие прямо противоположные оценки ранних уделов объясняются одним и тем же методическом просчетом – проекцией (намеренной или бессознательной) государственных понятий на сферу, где господствовали понятия семейно‑родовые. Владимир наделял сыновей не потому, что стремился тем укрепить централизованный административный аппарат (говоря так, мы вовсе не хотим отказать ему в таком стремлении), а вынужден был делать это по династическим принципам своего времени, которые давали право каждому из взрослых сыновей требовать себе надела. Не думаем, что статус удельного князя под рукой отца – да, подчиненный – ничем не отличался от статуса посадника[200]. Ведь подчинение князя‑сына князю‑отцу отнюдь не государственного свойства, как посадника – князю, ибо, согласно восприятию власти человеком того времени, был некий актуальный коррелят заложенной в сыне возможности занять место отца. Немыслимо, чтобы посадник мог возмутиться против киевского князя так, как сделал это в 1014 г. Ярослав против Владимира.
В отличие от братского совладения в его первоначальной форме, которое было институтом обычного родового права, сеньорат таковым не был и, следовательно, должен был так или иначе декретироваться, учреждаться. Иными словами, можно ожидать, что момент установления сеньората будет уловим на материале источников. В самом деле, если говорить о Франкском государстве, то таким моментом, совершенно очевидно, является 817 г., когда был издан капитулярий императора Людовика Благочестивого, содержащий его политическое завещание, – так называемое «Устроение империи» («Ordinatio imperii
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
[1] Назаренко 2001а.
[2] Ср. наши попытки объясниться: Назаренко 2004с. С. 294–300; он же 2006с. С. 66–72.
[3] Несколько видоизмененный и исправленный вариант одноименной работы: Назаренко 2007а. С. 30–54.
[4] Назаренко 1987b. С. 149–157; он же 2000а. С. 500–519; см. также статью III.
[5] В качестве примера назовем только несколько недавних работ: Толочко 1992. С. 31–35; Котляр 1998. С. 150–176; Свердлов 2003. С. 434–143.
[6] ПСРЛ 1. Стб. 256–257; 2. Стб. 230–231.
[7] ПСРЛ 1. Стб. 161; 2. Стб. 149–150. После слов «Всеволоду Переяславль» в оригинале «Повести временных лет», по нашему мнению, читалось: «<…> а Игорю Володимерь»; о текстологической стороне дела см. в примеч. 5 статьи II.
[8] Эти традиционные представления цепко удерживались в сознании даже поздних Каролингов, многие десятилетия спустя после попыток учредить у франков сеньорат при Людовике Благочестивом (см. ниже об «Ordinatio imperii» 817 г.). В ответ на уничижительное замечание византийского императора Василия I (867–886), что франкские императоры, несмотря на свой титул, вовсе не владеют всем Франкским государством, итальянский король и, одновременно, император Людовик II (850–875) в 871 г. отвечал так: «На самом деле мы правим во всем Франкском государстве, ибо мы, вне сомнения, обладаем тем, чем обладают те, с кем мы являемся одной плотью и кровью, а также – единым, благодаря Господу, духом» («In tota nempe imperamus Francia, quia nos procul dubio retinemus, quod illi retinent, cum quibus una et caro et sanguis sumus hac [ac. – A. H] unus per Dominum spiritus»: Chr. Salem. P. 122 [здесь и везде далее перевод с латинского наш]; Назаренко 2000а. С. 510 и примеч. 30). Перед нами типичная формула идеологии corpus fratrum, снова возобладавшей после поражения императора Лотаря I (840–855), старшего сына Людовика Благочестивого, в борьбе с младшими братьями, которое было закреплено знаменитым Верденским договором 843 г.
[9] См. об этом подробнее в статье II.
[10] Ранее мы были склонны возводить становление отчинного начала, коллизия с которым и привела к кризису классического corpus fratrum, к развитию феодальных отношений (Назаренко 1987b. С. 155–156); считаем теперь эту точку зрения в принципе неверной. Вряд ли состоятельным оказывается и внешне естественное предположение, что corpus fratrum начинает подвергаться модификациям в результате столкновения с теми возникавшими государственными институтами, которые в принципе, по самой своей природе, не поддавались дроблению – например, с империей у франков (с 800 г.). В самом деле, в наследственном разделе по завещанию Карла Великого – обсуждаемом ниже «Размежевании королевств» 806 г. – нет никаких распоряжений о судьбе империи и имперского титула, и по содержанию оно является достаточно типичным документом идеологии братского совладения (Назаренко 200lb. С. 11–24).
[11] Согласно Григорию Турскому (умер в 593/4 г.), труд которого является главным источником по истории франков VI в., каждый из четырех сыновей Хлодвига был наделен по завещанию последнего в 511 г. «равной долей» («aequa lance») отцовских владений (Greg. Tur III, 1; Григ. Тур. С. 62). Точного описания уделов по завещанию Хлодвига, как и по договору 561 г. и последующим, ни у Григория Турского, ни в других текстах не сохранилось, но их границы с достаточной определенностью восстанавливаются по сумме данных – в том числе из рассказа о позднейших событиях у самого Григория; см. остающуюся итоговой работу на эту тему: Ewig 1953а.
[12] Div. regn. Р. 126–130; см. также карту на рис. 6 в статье II.
[13] См. подробнее в статье II.
[14] См., например: Пресняков 1993. С. 30–31 (со ссылкой на соответствующее место «Курса русской истории» В. О. Ключевского).
[15] Мы придерживаемся восходящей к А. Н. Насонову точки зрения, что реконструируемая прежде всего по источникам XII в. Русская земля в узком смысле слова являлась политической реальностью IX–X вв. (Насонов 1951. С. 39–44, 195–196; Кучкин 1995b. С. 74–100, где прочая литература вопроса), несмотря на возобновившуюся в науке последних лет полемику на эту тему (см. прежде всего: Ведюшкина 1995. С. 101–116).
[16] Толочко 1992. С. 31–34 (ср.: Назаренко 1999b. С. 173–176); Свердлов 2001. С. 353–354; он же 2003. С. 440–441 («указание <…> на старейшинство Ярополка во отца место» отсутствует в летописном тексте, «вероятно, лишь вследствие краткости записи»).
[17] ПСРЛ 1. Стб. 121; 2. Стб. 105–106.
[18] ПСРЛ 1. Стб. 67, 69; 2. Стб. 55, 57.
[19] Ord. imp. Р. 270–273.
[20] «После нашей кончины да получат (Пипин и Людовик. – А. Н.) королевскую власть под рукой старшего брата» («<…> post decessum nostrum sub seniore fratre regali potestate potiantur»: ibid. P. 271).
[21] См. примеч. 48.
[22] См. об этом в статье II.
[23] Франклин, Шепард 2000. С. 358–359.
[24] Poppe 1991. Sp. 306.
[25] Пресняков 1993. С. 38–39; Толочко 1992. С. 26, 34; и др.
[26] Назаренко 1987b. С. 152; он же 2000а. С. 504.
[27] Cosm. II, 13. S. 102: «<…> inter quos dividere regnum Boemie non videtur mihi esse utile <…> quatinus inter meos natos sive nepotes semper maior natu summum ius et solium obtineat in principatu omnesque fratres sui sive, qui sunt orti herili de tribu, sint sub eius dominatu. Credite mihi, nisi monarchos hunc regat ducatum, vobis principibus ad iugulum, populo ad magnum deveniet damnum».
[28] Свердлов 2003. C. 437^‑38. Другое дело, что само по себе это обстоятельство не может доказывать аутентичности «ряда» Ярослава в его наличной форме, так как летописцу, коль скоро он задался бы целью вложить в уста умирающего киевского князя завещание, естественно было бы воспользоваться существовавшим в его время трафаретом подобных распоряжений.
[29] Cosm. S. 102. Anm. 1–4.
[30] О подчиненном статусе моравских уделов в представлении пражских князей см.: Cosm. Ill, 34. S. 205.
[31] Так в Востоковском списке (Рогов 1970. С. 37); в глаголической версии застаем, вероятно, первоначальное чтение: «Болеслав же, братр его, растеаше под ним» (Weingart 1935. S. 975, 986), – с тем же смыслом. В древнейшем латинском «Житии святого Вячеслава» никаких данных о положении Болеслава по отношению к старшему брату не обнаруживается, хотя упоминание об отдельном городе Болеслава также имеется (Leg. Christ. Р. 64).
[32] Флоря 2005. С. 166.
[33] Под этим именем он упоминается Бруно Кверфуртским: Brun. Vita Adalb. 15.
[34] Cosm. I, 17. S. 36.
[35] Ibid. I, 29–30. S. 52–53, 55; о проблемах вокруг Страхкваса‑Христиана см.: Krzemehska 1964. S. 534.
[36] «Interim Boemiorum dux Bolizlaus, quia potestas consortis et successoris semper pavida, Iaremirum fratrem eunuchizans iunioremque Othelricum in termis suffocare cupiens, una cum matre eosdem patria expulit solusque vice basilisci noxii regnans populum ineffabiliter constrinxit» (Thietm. V, 23. S. 247).
[37] Luc. I, 92.
[38] В Мерзебурге, где находился Титмар, «присутствовал также герцог Яромир, которого брат его и вассал Олдржих, забыв о всяком долге, изгнал из Чешского княжества в святую субботу [накануне] последнего Вознесения Господня (то есть 12 апреля 1012 г. – А. Н.)» («Iarmirus quoque dux adfuit, quem frater suimet Othelricus et satelles tocius debiti inmemor in sacro sabbate dominicae resurreccionis proximae a regno Boemiorum expulit»: Thietm. VI, 71. S. 360).
[39] Великоморавский князь Святополк I (умер в 894 г.), «умирая, разделил свою страну на три части и оставил трем сыновьям каждому по одной части, первого определив великим архонтом («αρχών μέγας»), а двух других – подчиняться слову («υπό τον λόγον είναι») первого сына» (Const. De adm. 41.4–7. P. 168–169). Даже если сообщение Константина об именно трех сыновьях Святополка (другим источникам известны только двое – Моймир и Святополк II) является литературным мотивом (там же. С. 399. Примеч. 2 [комментарий Б. Н. Флори]), все равно факт раздела между Святополчичами вне сомнений (Ann. Fuld. Р. 131–132).
[40] Cosm. II, 15. S. 105–106.
[41] Ibid. II, 16. S. 107.
[42] Ibid. II, 18. S. ПО.
[43] «<…> sperans aliquam portionem se habiturum hereditatis in patrio regno» (ibid. II, 18. S. 110).
[44] Тот факт, что надежды Яромира не оправдались, сути дела не меняет. Объяснять разницу в отношении Спытигнева II и Братислава II к младшим братьям только тем тривиальным обстоятельством, что в 1055 г. последние были еще малолетними, а в 1061 г. – уже нет (см., например: Wolverton 2001. Р. 197), было бы явным упрощением; достаточно напомнить, что Конрад и Оттон (причем последний был младше Яромира: Cosm. II, 1. S. 82) по династическим понятиям были достаточно взрослыми, чтобы иметь собственные уделы еще при жизни отца.
[45] Сообщив о вокняжении Борживоя, хронист скорбно замечает: «Тогда‑то следы Циллении (эпитет Астреи, богини справедливости. – А. Н.), которые и до того были едва видны в Чехии, исчезли совершенно, ибо она, возненавидев землю, удалилась на небеса. Ведь у чехов был справедливый порядок, что престол и княжество всегда занимают старшие по рождению среди их князей» («Tune Cillenia delet omnino sua vestigia, que vix impressa reliquerat in Boemia, cum exosa terras peteret celestia. Iusticia enim erat Boemorum, ut semper inter principes eorum maior natu solio potiretur in principatu»: Cosm. III, 13. S. 175–176).
[46] Обращаясь к чешской знати, Олдржих «заявляет себя старшим по возрасту и требует полагающийся [ему] по обычаю страны княжеский стол, несправедливо отнятый у него младшим братом. Хотя его дело было правое, но что толку хвататься за хвост, если упустил рога (то есть Олдржих начал действовать слишком поздно, когда Борживой уже укрепился в Праге. – А. Н.)» («<…> iactat se esse etate maiorem et secundum patrie more debitum, sibi iniuste sublatum per fratrem iuniorem poscit principalis sedis honorem. Qui quamvis iustam causam habeat, tarnen frustra caudem captas, cum cornua amittas»: ibid. Ill, 15. S. 177). Олдржих и в самом деле, вероятно, был старше Борживоя, сына Братислава II от третьего брака, заключенного после 1062 г., тогда как брненский князь Конрад I, отец Олдржиха и младший брат Братислава, женился скорее всего уже во второй половине 1050‑х гг. (Назаренко 2001а. С. 534).
[47] Cosm. S. 176. Anm. 2 (комментарий Б. Бретхольца); Коз. Праж. С. 280. Примеч. 6 к гл. 13 (Г. Э. Санчук).
[48] «Quid ammiramini? inquit. Sciatis ex nostra progenie multos dominos nasci, sed unum semper dominari. <…> quot natos heriles natura pro ferret, tot dominos terra vestra haberet» (Cosm. I, 6. S. 17). «Natos heriles» следует в данном случае переводить именно как «принадлежащих к господствующему, то есть княжескому, роду», а не нейтрально «благороднорожденных» (так в переводе Г. Э. Санчука: Коз. Праж. С. 43), потому что это выражение явно отсылает к «orti herili de tribu» из завещания Бржетислава I, где речь, несомненно, идет о княжеском семействе.
[49] Cosm. Ill, 8. S. 169.
[50] Jasmski 1992. S. 114–116.
[51] Не видим сколько‑нибудь веских причин сомневаться в свидетельстве списка сыновей Владимира, что матерью Бориса была «болгарыня» (ПСРЛ 1. Стб. 80; 2. Стб. 67; Жит. БГ. С. 28). О десигнации Бориса в качестве киевского столонаследника, кроме данных, приведенных нами в другом месте (Назаренко 2000а. С. 512. Примеч. 36), свидетельствует также практически одновременное возмущение старших Владимировичей – Святополка Туровского и Ярослава Новгородского против отца: первого – скорее всего около 1013 (Thietm. VII, 72. S. 488; Назаренко 1993b. С. 136, 141, 171–172), второго – около 1014/5 г. (ПСРЛ 1. Стб. 130; 2. Стб. 114–115). О стремлении Владимира Святославича «византинизировать» порядок престолонаследия на Руси, то есть установить в той или иной форме единовластие киевского князя, убедительно пишет А. Поппэ, который, однако, совершенно напрасно, по нашему мнению, старается связать это стремление с гипотетическим происхождением Бориса и Глеба Владимировичей от Анны, сестры византийских императоров Василия II и Константина VIII (см., например: Поппэ 1997. С. 115–117; он же 2003. С. 309–313).
[52] Отец Болеслава и основатель Древнепольского государства князь Мешко I (умер в 992 г.), если верить Титмару Мерзебургскому, завещал разделить державу между всеми своими сыновьями («relinquens regnum suimet plurimis dividendum»): старшим Болеславом и тремя младшими от второго брака с немкой Одой – Мешком, Свентепелком и третьим, не названным по имени (Thietm. IV, 57–58. S. 196, 198; Назаренко 1993b. С. 134, 138–139). Судя по известному документу Мешка I Dagome iudex (Dag. iud. 394–396; Щавелева 1990. С. 29), который представлял собой акт передачи части Древнепольского государства (за исключением Краковской земли, где, вероятно, сидел старший сын Болеслав: Lowmianski 5. S. 595–614) под покровительство папского престола с целью гарантии наследственных прав сыновей от второго брака (именно такая трактовка документа представляется наиболее основательной: Labuda 1988. S. 240–263), свидетельство Титмара достоверно. Тем самым, Мешко действовал вполне в рамках традиционного родового совладения, которое и пытался оградить от притязаний Болеслава на единовластие; сделать это ему, впрочем, не удалось: сразу же по смерти отца Болеслав изгнал мачеху и младших братьев (Thietm. IV, 58. S. 198).
[53] «<…> Cracoviensis provinciae principatus et auctoritas principandi» (Kadi. Ill, 26).
[54] Chr. Pol. m. 30; Вел. xp. C. 106.
[55] См. остающуюся основополагающей работу по теме: Labuda 1959. S. 171–194; ср. также: Buczek 1960. S. 621–639.
[56] Gall. II, 21.
[57] Такое распределение земель вырисовывается из повествования польского хрониста Галла Анонима (первая четверть XII в.) о борьбе между Болеславом III и Збигневом в 1102–1107/8 гг. (Gall. II, 22–41).
[58] Тигек 1998. Sp. 495. В свою очередь, Болеслав III сениором по завещанию отца определенно не был, так как даже его панегирист Аноним Галл ограничивается обтекаемым замечанием, будто Болеслав в качестве «законного сына» (Збигнев происходил от первого брака Владислава, причем его мать была некняжеского происхождения, так что с женитьбой Владислава на Юдите, дочери чешского князя Братислава II, первый брак князя был объявлен конкубинатом) «занял два главных города королевства» (Gall. II, 21). Но и это, конечно, натяжка: Краков и Вроцлав, доставшиеся Болеславу, никак невозможно считать «главными городами» в отличие от кафедрального Гнезна и пожизненной отцовской резиденции – Плоцка.
[59] Gall. II, 16.
[60] Jasmski 1992. S. 175.
[61] Neer. s. Emm. (под 28 января).
[62] Cosm. II, 13. S. 101; у Козьмы присоединение Силезии Казимиром I датировано 1054 г., что подтверждается сообщением «Альтайхских анналов» о заключении в 1054 г. польско‑чешского мира (Ann. Alt. Р. 50).
[63] ПСРЛ 1. Стб. 149; 2. Стб. 137.
[64] Назаренко 2006а. С. 279–290; см. также статью IV.
[65] Последний родовой раздел здесь фиксируется между сыновьями Людовика II (877–879) Людовиком III и Карломаном в 880 г. (Werner 1979. S. 395–462).
[66] И здесь, впрочем, резкость разрыва с традициями родового совладения в историографии переоценивается. Пусть Баварское герцогство Генриха (948–955), младшего брата германского короля Оттона I Великого (936–973), нельзя сравнивать с уделами младших Каролингов (так как другие герцогские столы замещались знатью не из числа членов правящей династии), но королевский титул за Генрихом был сохранен и употреблялся в практике международных сношений. В адреснике византийской императорской канцелярии середины X в. Генрих титулуется «королем Баварии» («ρήξ Βαϊούρη[ς]») совершенно аналогично Оттону, именуемому «королем Саксонии» («ρήξ Σαζωνίας») (Const. De cerim. II, 48. P. 689.5; Назаренко 2001a. C. 256–257). Налицо явный пережиток династических отношений времен corpus fratrum.
[67] В самом завещании Ярослава Мудрого, как оно донесено до нас летописями, о судьбе Новгорода, Ростова и Тмутаракани ничего не говорится; судьба эта восстанавливается по разрозненным данным 1060‑х гг., которые подтверждают свидетельство перечня киевских князей из Комиссионного списка «Новгородской I летописи»: «И преставися Ярослав <…> и взя вятшии Изяслав Киев и Новгород и ины городы многы Киевьскыя в пределех; а Святослав Чернигов и всю страну въсточную и до Мурома; а Всеволод Переяславль, Ростов, Суждаль, Белоозеро, Поволжье» (НПЛ. С. 469).
[68] См. статью II.
[69] * Несколько видоизмененный вариант одноименной работы, предназначенной для сборника: Сословия, институты и государственная власть в России (средние века и раннее новое время): К 100‑летию со дня рождения академика Л. В. Черепнина (в печати).
[70] См, например: Пашуто 1965. С. 59–68; Черепнин 1972а. С. 353–408; он же 1972b. С. 126–251 (особенно с. 131–187); он же 1974. С. 23–50.
[71] См. примеч. 2 в статье I.
[72] Не говорим здесь о тех, кто сомневается в самом факте завещания Ярослава, – по крайней мере, в том виде, как оно сформулировано в летописи; см. об этом в статье III.
[73] См. статью I.
[74] ПСРЛ 1. Стб. 161; 2. Стб. 149–150. После слов «Всеволоду Переяславль» в Комиссионном списке «Новгородской I летописи» младшего извода (НПЛ. С. 182), в «Новгородской IV» и в «Софийской I» летописях (ПСРЛ 4/1. С. 117; 6/1. Стб. 181) и некоторых других читается: «а Игорю Володимерь». Это чтение отсутствует во всех главных списках «Повести временных лет», кроме Академического, в который заимствовано, очевидно, из новгородско‑софийского летописания. По догадке А. А. Шахматова, упоминание о Волыни как уделе Игоря присутствовало в «Начальном своде» 1090‑х гг., но было исключено в «Повести» из желания «дать отпор притязаниям Давыда Игоревича на Владимир» (.Шахматов 1916. С. XXV и 385. Примеч. к с. 204, стр. 18). Вряд ли, однако, это так, поскольку упоминание о Волыни Игоря сохранилось в резюмирующем сообщении под следующим, 6563 г. Скорее, текст общего архетипа всех сохранившихся списков «Повести» был дефектен, но из этого вовсе не следует заключать, будто упоминание об Игоре в статье 6562 г. было вставлено на основании статьи 6565 (1057) г., где его уделом названа Волынь, как думает Л. Мюллер (Nestorchr. S. 198. Anm. 5). Полагаем, в утраченном оригинале «Повести» такое упоминание в тексте «ряда» Ярослава имелось. Так или иначе, в том, что Игорь получил по завещанию отца именно Волынь, сомневаться не приходится.
[75] Пресняков 1993. С. 42.
[76] ПСРЛ 1. Стб. 163; 2. Стб. 151–152.
[77] ПСРЛ 4/1. С. 118; 6/1. Стб. 182.
[78] ПСРЛ 1. Стб. 166–167; 2. Стб. 155–156.
[79] ПСРЛ 1. Стб. 167–170; 2. Стб. 156–160.
[80] См. заголовок перед статьей 19 «Краткой Правды»: «Правда уставлена Руськои земли, егда ся совокупил Изяслав, Святослав, Всеволод» и аналогичный текст в статье 2 «Пространной Правды» (РП. С. 48, 64).
[81] ПСРЛ 1. Стб. 181; 2. Стб. 171; Жит. БГ. С. 55.
[82] ПСРЛ 1. Стб. 162–163; 2. Стб. 151.
[83] ПСРЛ 1. Стб. 162; 2. Стб. 151.
[84] НПЛ. С. 17. Точно так же составитель «Тверской летописи» редактирует фразу о разделе Смоленска: «И разделиша Ярославичи Смоленеск себе на три части» (ПСРЛ 15. Стб. 153).
[85] См., например: Пресняков 1993. С. 38–39; Толочко 1992. С. 26, 34; и др.
[86] Назаренко 2007а. С. 30–54; см. также статью I.
[87] В самом завещании Ярослава Мудрого, как оно донесено до нас летописями, о судьбе Новгорода, Ростова и Тмутаракани ничего не говорится; судьба эта восстанавливается по другим разрозненным данным 1060‑х гг., которые подтверждают свидетельство перечня киевских князей из Комиссионного списка «Новгородской I летописи»: «И преставися Ярослав <…> и взя вятшии Изяслав Киев и Новгород и ины городы многы Киевьскыя в пределех; а Святослав Чернигов и всю страну въсточную и до Мурома; а Всеволод Переяславль, Ростов, Суждаль, Белоозеро, Поволжье» (НПЛ. С. 469).
[88] Greg. Tur III, 1; Григ. Тур. С. 62.
[89] Описания уделов по завещанию 511 г., как и по обсуждающимся ниже договорам 561 и 567/8 гг., ни у Григория Турского, главного источника по истории франков VI в., ни в других текстах не сохранилось; их границы восстанавливаются – впрочем, с достаточной определенностью – по сумме данных, в том числе из описания позднейших событий у самого Григория; см. остающуюся итоговой работу на эту тему: Ewig 1953а. Именно на результаты Э. Эвига, за исключением ряда собственных наблюдений, мы и опираемся в наших построениях и картографических реконструкциях. Карты, прилагаемые к изданию В. Д. Савуковой (Григ. Тур. С. 324–325), как можно понять, заимствованы из старой историографии и в деталях не всегда надежны.
[90] Аналогию (которую мы здесь детальнее не обсуждаем) представляет и раздел по духовной великого князя Димитрия Ивановича Донского (1389 г.). Каждый из взрослых сыновей великого князя (исключая больного Ивана) получал отдельную долю («жеребий») в землях собственно Московского княжества и отдельную – в приобретенных московскими князьями землях («куплях»). Из‑за этого также образовались чересполосные уделы: Звенигород и Галич (Юрий), Можайск и Белоозеро (Андрей), Дмитров и Углече поле (Петр) (ДДГ. № 12).
[91] Попытку оспорить эту устоявшуюся точку зрения и усмотреть в разделе 511 г. всего лишь политический компромисс ad hoc (Wood 1977. Р. 6–29) нельзя признать удачной. Участники этой дискуссии, конечно же, вряд ли знакомы с древнерусской проблематикой, но взгляд русиста сразу же отметит роковое сходство с давнишней полемикой между сторонниками «родовой теории» междукняжеских отношений, идущей от С. М. Соловьева, и последователями В. И. Сергеевича, убежденными, будто все в этих отношениях регулировалось конкретным договором. Бесплодно абсолютизировать основанную на обычном праве династическую традицию, сплошь и рядом скреплявшуюся еще и особым договором, противопоставляя ее столь же абсолютизированной договорной практике, которая, разумеется, не жила вне представлений о династическом легитимизме.
[92] На это последнее обстоятельство нам уже приходилось указывать: Назаренко 1987b. С. 149–157; он же 2000а. С. 500–508.
[93] Назаренко 2001b. С. 11–24.
[94] Div. regn. R 126–130. Об аутентичности документа см. примеч. 18 к статье III.
[95] Einh. 3. Р. 6.
[96] Div. regn. 4. Р. 127–128.
[97] Ibid. 15. Р. 129.
[98] Ibid. 3. Р. 127.
[99] Ord. imp. Р. 270–273.
[100] «<…> post decessum nostrum sub seniore fratre regali potestate potiantur» (ibid. P. 271).
[101] Ann. Bert., a. 843. P. 29–30; Böhmer 1. N 1103a (здесь указаны прочие источники); Ganshof 1956. S. 313–330.
[102] Ord. imp. 10. Р. 272.
[103] Относительно «Русской земли» отсылаем к последней специальной работе на эту тему, где приведена и более ранняя литература: Кучкин 1995b. С. 74–100. Функциональное сходство среднеднепровской области, включавшей Киев, Чернигов и Переяславль, с ядром Франкии вокруг Реймса, Суассона, Парижа и Орлеана немаловажно ввиду возобновления в недавнее время попыток новыми аргументами подкрепить мнение Д. С. Лихачева о «Русской земле» в узком смысле как позднем феномене – не ранее XII столетия (Ведюшкина 1995. С. 101–116). Мысль о связи «триумвирата» Ярославичей с их совладением «Русской землей» впервые высказал, кажется, А. Н. Насонов, но ход его рассуждений был иным, нежели наш: историк шел не от специфики уделов старших Ярославичей к понятию «Русской земли», а наоборот – от «Русской земли» как данности, которая должна была пролить свет на характер названных уделов (Насонов 1951. С. 49–51).
[104] См., например: ДРГЗС. С. 67–68 (автор статьи – А. В. Куза).
[105] Остроумная догадка, будто Смоленск мог быть поделен не между тремя Ярославичами, как принято думать, а между малолетними сыновьями покойных смоленских князей – Борисом Вячеславичем и Давыдом и Всеволодом Игоревичами (Кучкин 1985. С. 25–26), думается, обречена остаться экзотическим особым мнением: названные княжичи к 1060 г. едва достигли возраста 5–7 лет, что делало, по древнерусским понятиям, выделение им особых владений преждевременным.
[106] Ord. imp. 14–15. Р. 272–273.
[107] Div. regn. 4–5. Р. 128.
[108] НПЛ. С. 17 (под 1069 г.), 470 (перечень «А се князи Великого Новагорода»).
[109] ПСРЛ 1. Стб. 247 (по убедительной в данном случае традиционной хронологии «путей» Мономаха его переход «и‑Смолиньска <…> Володимерю тое же зимы» следует относить к зиме 1068–1069 гг.).
[110] ПСРЛ 1. Стб. 149; 2. Стб. 137.
[111] В этом смысле допустимо думать, что Ростовская волость, отошедшая к Переяславлю по завещанию Ярослава Мудрого, могла входить во владения Мстислава так же, как и приданная в 1054 г. Чернигову Тмутаракань.
[112] См. убедительные соображения о первоначальном объеме Смоленской волости в 1054 г. (Алексеев 1980. С. 43–52).
[113] Кучкин 1985. С. 26. Примеч. 58; Свердлов 2003. С. 441.
[114] Болеслав определенно отказался, а Владимир предположительно намерен был отказаться от традиционного раздела державы между всеми взрослыми сыновьями в пользу единовластия одного из сыновей, пусть и не старшего, а выделявшегося по другому династическому принципу: Мешко II был сыном Болеслава I от дочери германского императора Оттона II, а Борис – сыном Владимира, по‑видимому, от представительницы болгарского царского семейства. Не видим сколько‑нибудь веских причин сомневаться в свидетельстве списка сыновей Владимира, что матерью Бориса была «болгарыня» (ПСРЛ 1. Стб. 80; 2. Стб. 67; Жит. БГ. С. 28). Косвенные свидетельства о десигнации Бориса в качестве киевского столонаследника см. в примеч. 48 статьи I.
[115] Wip. 9, 29. Р. 32, 48; Пашуто 1968. С. 38.
[116] На этот счет – что характерно – существует принципиальное недопонимание и в западной медиевистике. Так, один из ведущих современных специалистов, обсуждая «Устроение империи» 817 г., недоумевает, почему проблема неделимости державы формулируется в неадекватных формулах, почему с разделами пытаются бороться путем усовершенствования практики разделов, тогда как надо было бы дать государственнополитическое определение нового качества державы, из которой выделяются уделы («Nicht die Qualität des zu verteilenden Regnum wurde neu definiert, sondern lediglich ein Divisionsmodus abweichend von der Tradition gefunden»); в этом автору видится недостаточность теоретического осмысления политики (Theoriedefizit) (Fried 1998. S. 434). Но дело как раз в том и заключается, что сеньорат – это не способ преодоления разделов, а совершенно напротив, – способ их утверждения, несмотря на ставшую очевидной необходимость как‑то институционализировать единство державы.
[117] * Несколько расширенный и исправленный вариант работы: Назаренко 2008а.
[118] «Распространенной ошибкой является представление о том, что на Руси существовала определенная политическая “система”, от следования которой беспринципные князья иногда или всегда норовили отклониться. Политической культуры, которая была бы применима к разветвленной, прочно утвердившейся династии, при Ярославе (Мудром. – А. Н.) и его предшественниках не существовало. Поэтому преемникам Ярослава приходилось импровизировать, приспосабливая обычаи, прецеденты и устоявшиеся представления к непредвиденным ситуациям. Так появлялись договоренности, вызванные сиюминутной необходимостью, неудачные начинания, компромиссы и соглашения, хитроумные приемы, при помощи которых новшества выдавались за традиции» (Франклин, Шепард 2000. С. 359).
[119] Там же. С. 10–11. Настораживает, что такое умонастроение в зарубежной русистике (обозначая, понятно, позицию по отношению к отечественной, прежде всего советской, историографии) имеет, кажется, шансы стать тенденцией; см., например, куда более радикальное его проявление в другой новой книге о Древней Руси: Schramm 2002; ср. нашу рецензию: Назаренко 2006b. С. 340–370.
[120] Сергеевич 1908. С. 150–370. Идея «договорного права» развивается автором преимущественно применительно к взаимоотношениям между князем и вечем, но продлевается и на собственно междукняжеские отношения.
[121] См. прежде всего: Соловьев 1847.
[122] Так, женитьба Ярослава Святополчича на Мономаховне, равно как его развод и возмущение против Мономаха, последовавшие вскоре, в 1117 г., когда обозначился план Владимира Всеволодовича передать Киев своему сыну Мстиславу, со всей определенностью, на наш взгляд, указывают на существование между Владимиром Мономахом и его племянником Ярославом договора (заключенного, очевидно, еще в конце киевского княжения Святополка Изяславича) о Святополчиче как наследнике своего дяди на киевском столе (Назаренко 2006а. С. 284–285; см. также статью IV). Между тем, такое наследование, если бы оно состоялось, было бы именно тем, какое предполагалось законами родового старейшинства, ибо после смерти Мономаха Ярослав оставался бы генеалогически старейшим среди своих двоюродных братьев.
[123] Ярким примером может служить Любечский договор 1097 г., который отнюдь не учреждал отчины на Руси, а напротив – опирался на родовое понятие отчины (подробнее об этом скажем ниже).
[124] См. прежде всего: Ewig 1953а; idem 1953b. S. 85‑144; idem 1981. P. 225–253.
[125] Wood 1977. P. 6–29.
[126] Пашуто 1965. С. 59–68.
[127] Назаренко 1987b. С. 149–157; он же 2000а. С. 500–508 (включает названную статью 1987 г. с некоторыми, прежде всего библиографическими, дополнениями).
[128] Dhondt 1948.
[129] См. об этом подробнее ниже, а также в статье II.
[130] Менее удачным представляется термин «родовой сюзеренитет», которым мы пользовались в работе 1987 г. (см. примеч. 10) – именно потому, что он привносит «феодальную» терминологию (сюзеренитет) в область династически‑родовых отношений.
[131] Из многочисленной литературы укажем: von Pflugk‑Harttung 1890; Doize 1898. Р. 253–285; Schulze 1926; Faulhaber 1931; Zatschek 1935; Schneider 1964; idem 1972; Classen 1972. S. 109–134; Mitteis 1974; Penndorf 1974; Königswahl; Anton 1979. S. 55‑132; Tellenbach 1979. S. 184–302; Schieffer 1990. S. 57–66; Boshof 1990. S. 161–189; Laudage 1992. S. 23–71; см. также работы Э. Эвига, указанные в примеч. 7, и литературу о капитуляриях 806 и 817 гг., приведенную в примеч. 18, 84.
[132] См., например: Каштанов 1976. С. 80–81.
[133] Poppe 1986b. Р. 272–274.
[134] Theoph. Р. 472.30‑473.3.
[135] Термины «империя» и «император» упоминаются во вводной и заключительной частях документа, но в составе характерных оборотов, выдающих неумение или нежелание его составителей различать между «империей» и привычным «королевством»: «империя, то есть королевство наше» («Imperium vel regnum nostrum»), «королевство и империя сия» («regnum atque Imperium istud») или – особенно замечательная формула – «император, он же король» («imperator ас rex») (Div. regn., prooem., 20. Р. 127, 130); о характерном непонимании Каролингами сингулярного в принципе характера христианской империи см.: Назаренко 200lb. С. 11–24. Противоречие между новоприобретенным статусом империи и традиционным родовым разделом столь очевидно, что даже побуждало историков искать в документе интерполяции (Mohr 1954. S. 121–157; idem 1959. S. 91‑109); это предположение столкнулось с обоснованной критикой (Schlesinger 1958. S. 9‑52; Sprigade 1964. S. 305–317) и не удержалось в науке.
[136] Vodoff 1983. Р. 139–150; Poppe 1984. S. 423–439; idem 1989. Р. 159–184; и др. См. историографический обзор: Свердлов 2003. С. 148–152 (сам М. Б. Свердлов придерживается иного мнения: именно в договорах с греками титул «великий князь» имел «реальное содержание высших юридических прав», что нам представляется в принципе неверным).
[137] См., например: Schlesinger 1948. S. 168 (здесь, в Ашп. 125, указания на прочую литературу); Mitteis 1974. S. 39–41, 89; Сидоров 2003. С. 328.
[138] Отрывочными сведениями о разделах королевской власти между братьями мы располагаем уже для начала IX в., как только ситуация в Дании начинает отражаться на страницах франкской анналистики. Так, в 812 г., после смерти конунга Хемминга и краткого междоусобия, конунгами данов (по всей вероятности, в Хедебю) становятся одновременно два брата Хериольд и Регинфрид; затем их изгоняют и делят власть между собой четверо сыновей покойного конунга Годофрида, двое из которых затем правят вместе с вернувшимся в 819 г. Хериольдом: Ann. г. Fr. Р. 136, 152.
[139] Согласно саге, письменно зафиксированной Снорри Стурлусоном в первой половине XIII в., подросшие сыновья Харальда Прекрасноволосого (умер около 930 г.), первого конунга объединенной Норвегии, стали требовать себе уделов и получили их (Сн. Стурл. С. 5, 60–61).
[140] Если верить сведениям Константина Багрянородного о разделе Моравии князем Святополком I (870–894) между тремя своими сыновьями (по другим источникам их известно только двое), причем уже при наличии сеньората: каждый получал по уделу, но старший провозглашался «великим князем» («αρχών μέγας»), а оба младших пребывали у него под рукой («υπό τον λόγον»): Const. De adm. 41.3–7. P. 168–169. Да и сам Святополк в пору княжения своего дяди Ростислава владел уделом с центром в Нитре.
[141] О том, что Болеслав (будущий Болеслав I), младший брат князя Вячеслава‑Вацлава (убит в 929/35 г.), имел в правление последнего удел («град Болеславль»), сообщают как латинские, так и славянские памятники свято‑вацлавского цикла, причем формулировки в последних таковы, как будто уже в то время существовал сеньорат пражского князя. В Востоковском списке (Рогов 1970. С. 37) читаем, что с вокняжением Вячеслава «Болеслав нача под ним ходити»; в глаголической версии застаем, вероятно, первоначальное чтение: «Болеслав же, братр его, растеаше под ним» (Weingart 1935. S. 975, 986), – с тем же смыслом. В древнейшем латинском «Житии ев. Вячеслава», так называемой «Легенде Христиана», никаких данных о положении Болеслава по отношению к старшему брату не обнаруживается, хотя упоминание об отдельном городе Болеслава также есть (Leg. Chr. Р. 64). Эти данные можно рассматривать в одном ряду с известием о сеньорате в Великой Моравии (см. предыдущее примеч.), но не исключено, что они явились проекцией взаимоотношений между Пржемысловичами в эпоху появления первых сочинений свято‑вацлавского агиографического круга (вероятнее всего, в 970‑х гг.) на время святого Вячеслава. Наиболее раннее сообщение о династическом разделе между братьями в Польше содержится в хронике Титмара Мерзебургского и относится к сыновьям польского князя Мешка I (умер в 992 г.): старший из них, Болеслав I, узурпировал власть, которая – надо полагать, по завещанию отца – «должна была быть разделена между многими» («plurimis dividendum»: имеются в виду еще трое сыновей Мешка от второго брака): Thietm. IV, 58. S. 198; Назаренко 1993b. С. 134, 138–139. На то, что право наследования у ранних Пястов принадлежало совокупности братьев, указывал еще создатель «родовой теории» в Польше О. Бальцер (Balzer 1897. S. 301). Подробнее о династических разделах в раннесредневековых Чехии и Польше см. в статье I.
[142] Эта мысль довольно активно обсуждалась еще в историографии XIX в.; см., например, краткий обзор: Пресняков 1993. С. 8–22.
[143] По завещанию Гейзериха в 477 г. (Claude 1974. S. 329–355).
[144] Claude 1971.
[145] Schneider 1972; Fröhlich 1980.
[146] Greg. Tut II, 40–42; Григ. Тур. С. 57–59.
[147] Согласно Григорию Турскому (умер в 593/4 г.), труд которого является главным источником по истории франков VI в., каждый из четырех сыновей Хлодвига был наделен по завещанию последнего в 511 г. «равной долей» («aequa lance») отцовских владений (Greg. Tur. Ill, 1; Григ. Тур. С. 62).
[148] ПСРЛ 1. Стб. 46–47; 2. Стб. 35–36.
[149] Назаренко 1996а. С. 58–63; он же 2007b. С. 169–174; он же 2009 (в печати).
[150] Назаренко 2007b. С. 169–174.
[151] «Suein et Harold а concubina geniti erant; qui, ut mos est barbaris, aequam tunc inter liberos Chnud sortiti sunt partem hereditatis» (Adam II, 74. S. 134).
[152] Sickel 1903. S. 110–147.
[153] Cosm. I, 36. S. 65.
[154] Gall. II, 4. P. 68.
[155] См., например: Trawkowski 1983. Sp. 366.
[156] ПСРЛ 1. Стб. 270; 2. Стб. 245. В свое время мы предположили, что Мстислав был старшим сыном Святополка (Назаренко 2001а. С. 571), но сейчас вынуждены признать проблематичность этого мнения. Похоже, что «Киево‑Печерский патерик» в своих ранних редакциях содержит в слове о преподобных отцах Феодоре и Василии указание на возраст Мстислава Святополчича. В 1096 г., сразу после сожжения монастыря половцами, Василий говорит княжичу: «<…> мене бо не видел еси от рождения своего исходяща от печеры своея лет 15» (КПП 1999. С. 66); смысл этой грамматически некорректной фразы, очевидно, в том, что Василий не выходил из своей пещеры 15 лет и потому Мстислав не мог его видеть, так как родился позже. Следовательно, Мстислав появился на свет не ранее 1082 г. и был наверняка младше брата Ярослава. Перевод Л. А. Ольшевской, по непонятной причине, не только смазывает этот датирующий нюанс, но и вообще лишен смысла: «<…> ведь не видел меня никто от рождения своего (!? – А. Н.) выходящим из пещеры своей 15 лет» (там же. С. 170–171). Видно, что фраза доставила переводчице затруднения, как, впрочем, и позднейшим редакторам «Патерика». Так, во 2‑й Кассиановской редакции находим «исправленное» чтение: «мене бо не виде никогдаже (кто? – А. Н.) исходяща из печеры своея 15 лет» (КПП. 1997. С. 454).
[157] Назаренко 2001а. С. 560–570. Совсем недавно А. Поппэ, не соглашаясь с нашей гипотезой, пересмотрел заново биографические данные о Гертруде, жене Изяслава Ярославича, в рамках традиционной генеалогии: Гертруда – мать Святополка (Поппэ 2007. С. 205–229). Однако сути наших аргументов польский историк не рассматривал, ограничившись указанием, что характеристика матери Святополка как «княгини» (ПСРЛ 1. Стб. 282; 2. Стб. 259; Высоцкий 1966. № 27) ни в коем случае не позволяет, по его мнению, видеть в ней наложницу Изяслава. Отнюдь не считаем такое простое соображение достаточным, но полемику, требующую вникать в многочисленные детали, вынуждены отложить до особого случая.
[158] ПСРЛ 1. Стб. 69; 2. Стб. 57.
[159] «Porro de ео, quod dicis non in tota nos Francia imperare, accipe frater, breve responsum. In tota nempe imperamus Francia, quia nos procul dubio retinemus, quod illi retinent, cum quibus una et earn et sanguis sumus hac [ac. – A. H.] unus per Dominum Spiritus» (Chr. Salem. P. 122).
[160] Отсутствие сколько‑нибудь заметного династического элемента в византийской политической идеологии до ее определенной «аристократизации» в течение XI–XII вв. замечено историками; см., например: Чичуров 1990а. С. 19–126.
[161] Greg. Tut. IV, 45; IX, 20.
[162] Как иногда полагают (Ewig 1988. S. 35) и как мы сами склонны были думать прежде (Назаренко 1987b. С. 157. Примеч. 28; он же 2000а. С. 508. Примеч. 27).
[163] Это видно, в частности, из распоряжений Хродехильды относительно судьбы епископской кафедры в Туре, который входил в удел Хлодомера (Greg. Tur III, 17).
[164] Ibid., Ill, 23.
[165] Ibid., Ill, 18.
[166] ПСРЛ 1. Стб. 162–163; 2. Стб. 151.
[167] ПСРЛ 15. Стб. 153.
[168] Сначала Давыд получил Дорогобуж, но после гибели в 1086/7 г. волынского князя Ярополка Изяславича занял волынский стол (ПСРЛ 1. Стб. 204, 205; 2. Стб. 196), как то видно по ретроспективному сообщению 1097 г., что Давыд получил Волынь еще от Всеволода (ПСРЛ 1. Стб. 257; 2. Стб. 231). Это случилось, вероятно, сразу же по смерти Ярополка, на что указывает прецедент: во время ссоры Ярополка со Всеволодом и бегства волынского князя в Польшу в 1085 г. Владимир немедленно был передан Давыду. Именно для урегулирования отношений Давыда с Ростиславичами, надо думать, Всеволод и посылал к Перемышлю сына Владимира в 1086 г. (ПСРЛ 2. Стб. 199).
[169] На Пасху 1078 г., как то видно из «Поучения» Владимира Мономаха (ПСРЛ 1. Стб. 247). Это свидетельство предпочтительнее, чем известие «Повести временных лет» в конце статьи 1077 г., что Олег «бе у Всеволода Чернигове» (ПСРЛ 1. Стб. 199; 2. Стб. 190), которое служит всего лишь логическим переходом к сообщению, которым открывается следующая годовая статья: «Бежа Олег, сын Святославль, Тмутороканю от Всеволода».
[170] Датировка гибели в Заволочье его старшего брата Глеба двоится: в «Новгородской I летописи» значится 30 мая 1079 (6587) г. (НПЛ. С. 18, 201), тогда как в «Повести временных лет» о погребении князя в Чернигове 23 июля говорится под 1078 (6586) г. (ПСРЛ 1. Стб. 199–200; 2. Стб. 190–191). Так или иначе, смещение Глеба с новгородского стола должно было состояться одновременно с выведением из Волыни Олега, то есть уже до Пасхи (8 апреля) 1078 г. (см. предыдущее примеч.).
[171] ПСРЛ 1. Стб. 200–201; 2. Стб. 191–192.
[172] См. примеч. 122.
[173] Брак Изяслава с полькой Гертрудой (ПСРЛ 4/1. С. 116; 6/1. Стб. 179) предполагает, что до своего перехода в Новгород в 1052 г. (после смерти там старшего из Ярославичей – Владимира) он наместничал где‑то на западе Руси, то есть либо в Турове, к которому относилась тогда Берестейская волость, либо на Волыни. В науке нередко говорилось именно о Турове (см., например: Грушевсъкий 2. С. 28; Пресняков 1993. С. 41), но на чем основано такое мнение? Свидетельство «Ипатьевской летописи» на этот счет источниковедчески неудовлетворительно (см. примеч. 122), а представляющаяся традиционной связь потомства Изяслава с Туровом могла, конечно же, сложиться и позже, в пору княжения здесь Ярополка Изяславича в 1078–1086/7 и его брата Святополка в 1088–1093 гг. Поэтому весомее, на наш взгляд, оказывается свидетельство константинопольского перечня русских епархий 1170‑х гг., в котором на местах с пятого по восьмое поименованы епархии Владимиро‑Волынская, Переяславская, Ростово‑Суздальская и Туровская (Not. ер. Р. 367). При одновременности учреждения этих кафедр, которое мы относим ко второй половине 1040‑х гг. (см. статью IX), следовало бы ожидать, что порядок их перечисления будет ориентироваться на относительное старшинство Ярославичей, посаженных отцом на соответствующих столах. Это наводит на мысль, что уделом Изяслава при жизни отца до Новгорода была Волынь, а не Туров.
[174] ПСРЛ 1. Стб. 256–257; 2. Стб. 230–231.
[175] См. ниже примеч. 72.
[176] «Quod si talis filius cuilibet istorum trium fratrum natus fuerit, quem populus eligere velit ut patri suo in regni hereditate succedat, volumus ut hoc consentiant patrui ipsius pueri et regnare permittant filium fratris sui in portione regni quam pater eius, frater eorum, habuit» (Div. regn. 5. P. 128).
[177] Похожую мысль применительно к древнерусским князьям высказывал В. О. Ключевский, но неудачно пытался подтвердить ее порядками позднейшего местничества (.Ключевский 1. С. 182–183).
[178] Этот казус фиксируется и в обычном наследственном праве. Так, Видукинд (70‑е гг. X в.) сохранил свидетельство о спорах среди саксов, следовало ли признавать наследниками, наряду с дядьями, тех племянников, «отцы которых умерли при жизни дедов» («<…> si forte patres eorum obissent avis superstitibus»); сторонники древних обычаев противились такому нововведению, которое все же состоялось в правление Оттона I (936–973): Wid. II, 10. S. 73–74.
[179] См., например: Ann. г. Fr., а. 813–814. Р. 138, 140.
[180] Nelson 1992. Р. 139–144.
[181] Eiten 1907.
[182] Пруденций, автор «Бертинских анналов» в их центральной части (с 835 по 861 г.), был назначен епископом Труа в 845 г., то есть являлся в этом смысле креатурой Карла Лысого.
[183] Ann. Bert., а. 845. Р. 32.
[184] Dipl. Pipp. II. Р. 51.
[185] ПСРЛ 1. Стб. 299–301.
[186] ПСРЛ 1. Стб. 129; 2. Стб. 114.
[187] ПСРЛ 4/1. С. 111; 6/1. Стб. 173.
[188] ПСРЛ 1. Стб. 160; 2. Стб. 149.
[189] Думать так позволяют данные (правда, довольно неопределенные) о том, что женой Ростислава Владимировича была венгерка. В той форме, в какой эта гипотеза высказывалась в литературе со ссылкой на В. Н. Татищева (Баумгартен 1908а. С. 4–5), она не выглядит удовлетворительно обоснованной. И все же венгерские источники не оставляют сомнений, что речь шла о родственнице короля Кальмана (1095–1114), хотя относительно степени родства составители венгерского хроникального свода XIV в. испытывали затруднения, оставив в соответствующем месте текста пропуск:
[190] когда король Кальман в 1099 г. пришел на помощь Святополку против Ростиславичей, «русская княгиня по имени Ланка, <…> (в существующих списках пропуск никак не обозначен. – А. Н.) этого короля, вышла навстречу королю, пала к ногам, со слезами умоляя короля не губить того народа» («ducissa Rutenorum nomine Lanca eiusdem regis, venit obviam regi, pedibus provoluta obsecrabat regem cum lacrimis, ne disperderet gentem illam»: Chr. Hung. 145. P. 423–424). Дело происходило под стенами Перемышля, в котором, помимо Володаря Ростиславича с семейством, тогда находилась и жена Давыда Игоревича (ПСРЛ 1. Стб. 270; 2. Стб. 245). Поэтому, вообще говоря, допустимо было бы отождествить Ланку также и с этой последней. Однако настойчивость, с какой Давыд дважды искал помощи именно в Польше Владислава I (1079–1102), заставляет предполагать в супруге Игоревича скорее польку. Если Ланка была действительно женой Ростислава, то в ней естественно было бы видеть дочь короля Белы I (1060–1063), так что Кальману она приходилась бы родной теткой; в таком случае испорченный латинский текст следовало бы читать: «Lanca, amita (или a gnat a) eiusdem regis». Вопрос нуждается в дополнительном исследовании.
[191] 73 ПСРЛ 1. Стб. 290–291, 298–299; 2. Стб. 282–283, 292–293.
74 ДКУ. С. 156. Источниковедческие контроверзы относительно времени сложения «Устава» в его нынешней форме в целом и отдельных его установлений не могут повлиять на трактовку статьи об изгойстве.
[192] ПСРЛ 2. Стб. 574 (в ультрамартовской статье 1174 г.).
[193] ПСРЛ 1. Стб. 80, 121; 2. Стб. 67, 105.
[194] «<…> receptis ab ео sacramentis fidelitatis, quatenus ita deinceps ei fidelis sicut nepos patruo existeret et in quibusdam necessitatibus ipsi pro viribus auxilium ferret» (Ann. Bert., a. 845. P. 32).
[195] Div. regn. Р. 126–130; см. также статью II (карта на рис. 6).
[196] Свердлов 1983. С. 33; он же 2003. С. 163; Толочко 1992. С. 22–35 (ср.: Назаренко 1999b. С. 164–193).
[197] Рапов 1977. С. 32–34; автор не отрицает самостоятельности Олега и Владимира по отношению к князю киевскому, но почему‑то характеризует ее как узурпацию: свои уделы младшие Святославичи будто бы «сумели превратить (когда и каким образом? – А. Н.) по существу в самостоятельные в политическом отношении государства». Модернизирующий термин «узурпация» прямо употребляет М. Б. Свердлов, говоря о киевском княжении Олега (Свердлов 2003. С. 163).
[198] Пресняков 1993. С. 28 (со ссылкой на соответствующее место «Курса» В. О. Ключевского).
[199] Юшков 1939. С. 175; Котляр 1998. С. 84–89; и др.
[200] Юшков 1939. С. 175.
Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
