ГОЛОД НЕ ТЕТКА, СОВЕСТЬ НЕ СОСЕД


Начался голод и для Юры Рябинкина, вовсю, в полную силу. Впервые подступило к нему непривычное, унизительное лютое чувство голода. Нам придется вернуться назад, в октябрьские дни, и пройти вновь эти месяцы день за днем, но уже не с мужчиной, а с мальчиком, менее защищенным от испытаний.
«21 октября. Продежурил с 8 утра до 6 вечера в школе. Заморил сегодня все-таки червячка. Затопил, вернее сказать (то есть залил водичкой. — А. А., Д. Г.). Сегодня на алгебре в школе сделал первую запись в тетрадь.
Вечером опять неприятный разговор о еде. Голод не тетка…
Мама купила на свою карточку недельный паек — 150 гр. — драже и отдала (у ней был долг) Анфисе Николаевне. Та ей только сказала спасибо и преспокойно взяла себе. Теперь у нас осталось всего-навсего 6–8 конфеток на 10 дней декады! Завтра их уже не будет, это как пить дать.
На фронтах положение — дрянь. Образовалось еще в придачу таганрогское направление. Неужели мы не разобьем немецких ударных частей и не восстановим сообщение Ленинграда с СССР до 1942 года?
Если бы только я знал, что нормы выдачи продовольствия и хлеба нам больше не уменьшат! Если бы я только знал! Но их уменьшат. Уменьшат еще раза в два. И это как раз перед годовщиной Октября, годовщиной величайшей в истории революции пролетариата 25 (7. XI) октября!
В школьной читальне, оказывается, есть много книг по шахматам, в их числе «Современный дебют».
22 октября. Все утро проторчал в очередях за пивом. С трудом пополам достал 2 бутылки, отморозил ноги. Потом 3 талона на крупу. Вечером дежурил в школе. Тревог не было. Таганрог взят немцами. Наступление немцев продолжается…
|
|
|
Зачитался романом А. Дюма «Графиня Монсоро». Увлекательная вещь.
Мама 2 бутылки пива выменяла на 400 гр. хлеба. Меня опять в очередь за пивом посылают.
23 октября. Достал еще 2 бутылки пива. Был в кино. Смотрел «Праздник святого Иоргена». Читал «Графиню Монсоро».
Дома и холод и голод. Все вместе.
24 октября. Весь день с 10 утра до 6 вечера вместо дежурства в школе провел в очереди за пивом. Не было времени даже постоять в милиции за паспортом. И все-таки пива не достал. Вечером пришла мама, истратила один кочан капусты. Кое-как заморил червячка. Сводках ничего особого нет. Мама мне говорила, что ЦК союзов эвакуирован в Куйбышев. Представляю себе положение в Москве.
Чаю дают 12,5 грамм в месяц на человека, яиц вообще не дают. Рыбы тоже. Сегодня интересно поведение Анфисы Николаевны. Подарила нам 3 оладьи из морковного пюре, которое достала в столовой треста, и 10 драже. Было с чем полкружки чая выпить. Написал письмо Тине. Попросил ее прислать посылку с сухарями или картофельными лепешками. Надо думать устраиваться на работу. Об учебе на время придется забыть.
|
|
|
С Ирой странная вещь: днем и вечером под глазами синие потеки, колет в левом боку от быстрой ходьбы и не может есть жидкого (супа). Мама хочет идти с ней к врачу.
Что? Какой сюрприз преподнесут немцы?.. Во всяком случае, немцы грозятся сжечь Ленинград за три дня беспрерывной тревоги (слухи ползут от Чистовых, которым, работая в пригороде, волей-неволей приходилось читать сбрасываемые немецкие листовки).
Очереди всюду: за пивом, за квасом, за газированной водой. За перцем, солью (особенно за солью!), за горчицей.
Немцы или перебросили все свои воздушные налеты на московский фронт, или готовятся к бомбежке на годовщину Октября. Хотят превратить наш светлый праздник в траурный день. Сегодня только узнал, что за тушение зажигательных бомб на чердаке и на дворе нашего дома мне объявлена благодарность через (…) треста. А когда это было, уже и не помню.
25 октября. Только отморозил себе ноги в очередях. Больше ничего не добился. Интересно, в пивных дают лимонад, приготовленный на сахарине или натуральных соках?
Эх как хочется спать, спать, есть, есть, есть… Спать, есть, спать, есть… А что еще человеку надо? А будет человек сыт и здоров — ему захочется еще чего-нибудь и так без конца. Месяц тому назад я хотел, вернее, мечтал о хлебе с маслом и колбасой, а теперь вот уж об одном хлебе…
|
|
|
Тина прислала еще два денежных перевода подряд: 200 рублей и 210 рублей. Наверное, ей прибавили шпалу, а то и две: военврач 1-го ранга стала. Возможно, это и так.
Сегодня пропускаю 2-е по счету дежурство в школе, и 27-го (буду жив-здоров) придется пропустить еще одно.
Ну кто бы мог подозревать, что события так сложатся? Заглянув вперед, у меня волосы дыбом встали на голове: холод, голод, арт. набеги, бомбежка, изнурительные (…) ночи, дни, целые сутки, затем (…) бактерии, кто спасется в первый день применения, тот погибнет от голода, все продукты в магазинах будут испорчены… Дальше я уж не гляжу, впредь оставаться в Ленинграде — гибель.
Мама мне говорит, что дневник сейчас не время вести. А я вести его буду. (Запомним, это важно, что мать знает о существовании дневника! — А. А., Д. Г.) Не придется мне перечитывать его, перечитает кто-нибудь другой, узнает, что за человек такой был на свете — Рябинкин Юра, посмеется над этим человеком, да… Вспомнилась почему-то фраза Горького из «Клима Самгина»: «А может, мальчика-то и не было?..» Жил человек — нет человека. И народная загадка спрашивает: что самое короткое на свете? И ответ гласит: человеческая жизнь. Когда-нибудь я бы занялся, быть может, философией. Но сейчас для этого надо: 1) еда и 2) сон. Этим и объясняется весь идеализм: для существования его необходим материалистический фундамент.
|
|
|
26 октября… И денег вдоволь — и все-таки голод.
29 октября… Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться по лестнице для меня огромный труд. Мама говорит, что у меня начинает пухнуть лицо. А все из-за недоедания. Анфиса Николаевна сегодня вечером проронила интересные слова: «Сейчас все люди — эгоисты, каждый не думает о завтрашнем дне и поэтому сегодня ест как только может». Она права, эта кошечка.
Я сегодня написал еще одно письмо Тине. Прошу прислать посылочку из картофельных лепешек, дуранды и т. п. Неужели эта посылка — вещь невозможная? Мне надо приучаться к голоду, а я не могу. Ну что же мне Делать?
Я не знаю, как я смогу учиться. Я хотел на днях Сняться алгеброй, а в голове не формулы, а буханки хлеба.
Сейчас я бы должен был прочесть снова рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». Прекрасная вещь, а для моего сегодняшнего настроения
убрать рекламу
как нельзя более лучшая. Говорят, что на ноябрьских карточках все нормы прежние. Даже хлеба не прибавили. Мама мне сказала, что если даже немцы будут отбиты, нормы будут прежние…
Да, немцы, наверное, объявят беспрерывную бомбежку 7 и 8 ноября. А перед тем вдоволь измучают население артиллерийскими набегами да бомбежкой. Готовят нам на праздник сюрприз.
Теперь я мало забочусь о себе. Сплю одетый, слегка прополаскиваю разок утром лицо, рук мылом не мою, не переодеваюсь. В квартире у нас холодно, темно, проводим при свете свечки.
Но самое обидное, самое что ни на есть плохое меня — это то, я здесь живу в голоде, в холоде, средь блох, а рядом комната, где жизнь совершенно иная — всегда хлеб, каша, мясо, конфеты, тепло, яркая эстонская керосиновая лампа, комфорт… Это называется завистью — то, что я чувствую при мысли об Анфисе Николаевне, но побороть ее не могу.
Мне не к кому идти. К товарищам? У меня их нет| Вовка в Казани, Мишка — на работе. А такие (…) эгоисты до глубины души, зачем к ним идти?.. Но во мне опять просыпается зависть, даже злость, горькая-прегорькая обида.
31 октября, 1 ноября. Что можно сказать об этих днях? 31-го я все же чувствовал себя несравненно лучше, чем раньше. Тетя Натала угостила меня горчичными лепешками, даже Анфиса Николаевна и та дала нам 150 гр. крупы (талонов — 6, из них 3 досталось мне на обед).
Ночью была тревога. Били зенитки, но бомб немцы не бросали. Беспрерывно по городу оба дня бьют орудия И. говорил, что немцы стянули к Ленинграду свою дальнобойную артиллерию с Ла-Манша. Сегодня, 1-го, меня встретил неприятный конфуз, меня не пустили в столовую треста до 2-х часов. А в 2 часа в столовке уже кончилось картофельное пюре, и мне пришлось довольствоваться двумя тарелками чечевичной похлебки. Купил 3 пузырька с пертусином. Это смесь рома с валерьянкой и каплями датского короля. Чрезвычайно сладкая и питательная вещь, 2 пузырька уже выпил, остался один.
3, 4, 5 ноября. Все эти три дня шла учеба в школ «Понижены требования, из прежних преподавателей осталось только несколько. Остальные пришли из 213 школы. При школе заработала столовка. Суп без кар точек — по 1 тарелке на человека, а все остальное по карточкам.
Каждую ночь тревога. Бомбежка. Вчера над городом, в центре, было сбито за ночь 3 немецких самолета. Все время артиллерийские обстрелы. Да еще впереди — праздник. Какой «праздник» нам немцы преподнесут? 0В, без сомнения… На 4 дня, с 6 или 7 начиная, в городе отмобилизованы все обмывочные пункты. Что-то будет?!
На сегодня надо было прочесть «Мертвые души» Гоголя, но при тусклом свете свечки невозможно читать. Пишешь машинально. Многие новости не знаю. Говорят: «XXIV годовщина решает все…»
Что такое человек и человеческая жизнь? Что же, в конце концов? «Жизнь — копейка» — говорит старинная поговорка. Сколько человек жило до нас и сколько их должно было умереть… Но хорошо умереть, чувствуя и зная, что ты добился всего, о чем мечтал в юности, в детстве, хорошо умереть, зная, что остались последователи в твоих научных или литературных трудах, но ведь как тяжело… На что надеется сейчас Гитлер? На создание своей империи, самый замысел которой будет проклят человечеством будущих дней. И вот из-за какой-то кучки авантюристов гибнут миллионы и миллионы людей! Людей!.. Людей!!!
Уже поздно. Артиллерийская стрельба на время стихла. Свеча догорает. Голод, холод, темнота, грязь, вши и перспектива: багровое будущее, окутанное темной пеленой».
Город готовился к зиме. Гидрограф Евгений Чуров продолжал свою работу:
«Ранний лед на Свири и в верховьях Невы, в Черной Сатоме давал основание предположить, что зима сорок первого — сорок второго года будет суровая.
В моем распоряжении находились материалы валаамских монахов… монахи вели ежедневные записи колебаний уровней Белого моря и Ладожского озера; потом, примерно с 1300-х годов, монах — настоятель собора (забыл его имя) вел запись изменений погоды: когда стал лед? какой был лед? можно ли было пробить лед? кто провалился, когда богомольцы шли на Валаам? проходили ли богомольцы с Шлиссельбурга или со стороны Черной Сатомы?.. Все это давало основание косвенным путем восстановить ледовую обстановку.
Этим обобщением я занялся по своей инициативе. И у меня сложилось четкое представление, что да, зима может быть суровой, что в этот год озеро тоже полностью замерзнет и можно будет вести войска даже на севере Ладожского озера, тем более что задача прорыва кольца блокады, окружения, стала очевидной любому офицеру, командиру, а нам — гидрографам — тем более было ясно, что нужно все свои знания использовать на это. Данные валаамских монахов, а потом данные — по тем же участкам — Северо-западного пароходства удалось сопоставить и удалось уловить характер изменения ледовых образований».
Лед на Ладоге тонок, зима 1941/42-го не спешит, хотя те, кто обдумывает и готовит «Дорогу жизни», хотели бы подогнать, подстегнуть само время — таким оно казалось медленным и безжалостным. Не спешат и союзники со вторым фронтом.
Про будущую ледяную трассу через Ладогу Юра ничего не знает, потому и не думает, не пишет о ней. А вот о союзниках записывает, что слышал, знает:
«6, 7 ноября. На фронтах положение мне неизвестно. Говорят, что выступал Сталин и в своей речи объяснил причины нашего отступления, резко, как замечают, задел США и Англию, сказав, что их помощь в настоящую минуту малоэффективна и фактически воюем одни мы против Германии. Надо было бы познакомиться с этой речью поподробнее.
Занятия в школе продолжаются, но мне они что-то не нравятся. Сидим за партами в шубах, многие ребята совершенно уроков не учат. На литературе интересен тот факт, что ребята рассказывают образы из «Мертвых душ» по учебнику, где они есть. Некоторые даже вообще не читали «Мертвые души»…
Оказывается, рисовой каши больше у нас не осталось. Значит — 3 дня буду сидеть голодом полнейшим. Еле ноги буду таскать, если буду жив-здоров. Опять перешел на воду. Распухну, ну да что же… Мама заболела. И не на шутку, раз сама признается в своей болезни. Насморк, кашель с рвотой, с хрипом, жар, головная боль… Я тоже, наверное, заболел. Тоже жар, головная боль, насморк. Все из-за того, по всей вероятности, что, бывши на школьном дежурстве, мне пришлось пройти через три двора без пальто и шапки. А дело было в полночь, мороз…
Учеба мне почему-то сейчас в голову не лезет. Совершенно нет желания учиться. Голова одними мыслями о еде да о бомбежках, снарядах занята. Вчера поднял корзину с сором, вынес во двор и еле обратно на свой 2 этаж взобрался. Устал так, словно 2 пуда волок целых полчаса, как кажется, сел и еле отдышался. Сейчас тревога. Зенитки бьют вовсю. Бомб несколько также было. На часах — без пяти 5 вечера. Мама приходит в начале 7-го.
9 и 10 ноября. Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да еще перед сном — мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба… Мама мне каждый день твердит, что она с Ирой ест по 2 стакана горячего, с сахаром чая, по полтарелки супа в день. Не больше. Да еще что тарелку супа вечером. Все же мне (…). Ира, например, вечером даже отказывается от лишней порции супа. А мне они обе твердят, что я питаюсь, как рабочий, мотивируя тем, что я ем 2 тарелки супа в столовых да побольше, чем они, хлеба. Весь характер мой почему-то сейчас круто изменился. Стал я вялый, слабый, пишу, а рука дрожит, иду, а в коленках такая слабость, кажется — шаг ступишь, а больше не сможешь и упадешь».
Именно в эти самые дни заведующий отделом торговли Ленгорсовета докладывает секретарю горкома партии А. А. Кузнецову, что по самым жестким нормам выдачи муки осталось на восемь дней, крупы на девять.
К вечеру 8 ноября пришло сообщение, что враг перерезал железную дорогу у Тихвина, по которой к Ладоге везли продукты для Ленинграда. И тогда 9 ноября в Москве Государственный Комитет Обороны принимает решение, крайнее в тех условиях, — выделить еще дополнительно для перевоза продуктов ленинградцам 24 транспортных самолета и 10 тяжелых бомбардировщиков.
ПРЕДЕЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Постепенно помыслы Юры сужаются, сосредоточиваются на еде, тепле, физиологии. Это испытали на себе и другие голодающие блокадники — и это тоже черта. Еще и еще черта, а за какой-то чертой может наступить тяжелый распад психики. Но некоторым удается до конца сохранить себя человеком, сохранить в себе чувство долга, чести, благодарности, милосердия, вопреки всем обстоятельствам — удержаться. Одним удается, другим — нет.
Жили блокадники по-разному, голодали тоже по-разному, и умирали неодинаково. Одни умирали как люди, и вспоминают о них и поныне с жалостью и сочувствием, Упоминают тогдашние мальчишки, девчонки. А были такие, о которых по-другому вспоминают: о ком с презрением, а о ком и с ужасом. Но всегда — с болью за образ человеческий. Может, это и есть страшный суд, который творится на земле памятью людской.
Да, были и такие (и это даже неизбежно в много миллионном голодном городе), что переступали последнюю черту, за которой — животный эгоизм, жестокость, голодное безумие.
Конечно, легче, удобнее всего об этом не вспоминать. Но тогда мы не поймем ценности и человеческой высоты тех людей — а их было большинство, — кто устоял, кто не перешел за последнюю черту. И не увидим, не поймем, в какой тяжкой борьбе с самим собой человек побеждает нестерпимый голод, холод, смерть, безнадежность.
О. Ф. Берггольц сделала выписку из дневника М. М. Кракова, главного инженера завода № 10 (Володарский район):
«Около мельницы им. Ленина я наблюдал следующую сцену.
Шедший передо мной мужчина вел за руку маленькую девочку. Внезапно эта девочка упала. Заплакала, сквозь рыдания было слышно:
—
убрать рекламу
Папочка, кушать хочу. Дай мне что-нибудь. Папочка!
Мужчина растерянно смотрел на нее, бессвязно бормотал слова утешения. Попробовал взять ее на руки. Но усилия были тщетны. Он сам ослабел. Я заглянул ему в лицо. Оно было опухшим, прозрачным.
Рядом остановилась женщина. Она к груди прижимала маленький сверток. В таких свертках люди сейчас носят хлеб.
Женщина тоже попробовала уговорить девочку. Когда из этого ничего не вышло, кто-то из прохожих бросил на ходу: «Дай ей хлеба — и все пройдет».
Женщина задумалась. Это продолжалось, может быть с минуту. Затем решительным движением развернула сверток, отломила от небольшого куска немного хлеб; и дала девочке. Сразу же после этого она ушла.
Я догнал ее через несколько минут. Обернувшись, увидел слезы на ее глазах. Это были не слезы жалости к ребенку — они были слезами жалости к себе. Может быть, у нее дома был оставлен голодный ребенок… Пожалуй, даже наверняка…»
По-разному перебарывали жесточайшие обстоятельства, сохраняли и даже укрепили в себе лучшее, человеческое и Г. А. Князев, и Юра Рябинкин, и Лидия Охапкина, и Фаина Прусова, и старая женщина, дневник которой отыскался в Ярославле…
Общее у всех них было, пожалуй, вот что: каждый имел или искал (и находил) точку опоры не только в самом себе, но и еще в каком-то деле или интересе. Главным делом для большинства была борьба с фашистами, защита Ленинграда — это держало прежде всего. У каждого были свои непосредственные обязанности, долг, ответственность. У Фаины Прусовой — перед ранеными в госпитале и перед собственными детьми; у Юры рябинкина — перед матерью и сестренкой; у Лидии Георгиевны — перед своими маленькими детьми; у Георгия Алексеевича Князева — перед Ломоносовым, Менделеевым, которые «отдали» ему на сохранение свои рукописи…
Человек, может быть, и отчаялся бы, руки уже опустились бы, когда б забота была лишь о себе. Но есть что-то большее. Вот запись Фаины Прусовой:
«Иду с работы, и сердце замирает, ну, думаю, а вдруг?.. Прихожу, еще тянутся — живы, я скорей погрею водички, подниму их, вымою им лицо. На Неву схожу с бидончиком, попьем тепленькой водички с корочкой хлеба (Фаина Александровна Прусова даже нарисовала в дневнике эту «корочку» — квадратный сантиметр! — А. А., Д. Г.). И вру им без конца, как немца окружили, благо верят. Чего-либо подкину в печурку — книги или тряпки… Наденька говорит: «Мамусенька, я если буду умирать, то тихо-тихо, чтобы тебя не испугать». Ой, я завопила: «Живи, моя снегурочка!» Она холодная вся, как льдинка…
Дома я соблюдаю чистоту. Думаю, что это нас поддержит. Подаю все на тарелочке. Согрею воды.
Да! Люди едят кошек, собак, вернее, съели.
Я только радуюсь, что Боря и Наденька не теряют человеческого образа».
Мы уже приводили в первой части выдержки из дневника Алексея Васильевича Белякова. Казалось бы, человек о том лишь думает, что он съел, сколько чего дали в магазине, что наливают в тарелку в столовой. Цифры, тарелки, «граммики» да еще какие-то рукавицы, которые никак ему не пошьют… Но нет, не одно это его интересует и держит, не хлебом единым спасается и этот человек. По количеству доставшегося ему «хлеба единого» он, может быть, уже умер бы…
«13 января. Купил Тынянова «Сочинения» за 8 руб. и Киселева «Геометрия» за 20 руб.
16 января. Вчера купил Соллогуба за 3 руб. на Мальцевском рынке.
2. II. 42 г. Купил книгу под редакцией проф. Зелинского «Эллинская культура» (40 руб.) и «Хрестоматию по истории западного театра на рубеже XIX–XX ков» (15 руб.)»
А сам он уже дистрофик. Лицо у него опухло, живет без воды, без света. Зачем ему сейчас книги, почему, отрывая от рта хлеб — самое необходимое и такое желанное, — человек ищет, покупает книги? И книги довольно случайные, которые если и понадобятся, то в неблизком будущем.
Но именно теперь, на пороге гибели, человеку видится жизнь более содержательная, чем та, которая (судя по дневнику) была у него прежде.
«Моя библиотека заполняется превосходными книгами. Придется ею пользоваться или нет? Как охота разумно устроить свою жизнь, отдать свои оставшиеся силы (авось можно еще накопить потерянные силы или уже амба?)».
Вот в чем он ищет точку опоры, чтобы удержаться, не соскользнуть в бездну — от физической дистрофии к моральной.
Обращаясь в дневнике к уехавшей дочери, предупреждая ее, что, может, увидеться больше не придется, он — как напутствие — просит выкупить тома «Истории русской литературы». Он сам был бы счастлив ее дочитать, так, видно, не придется, но пусть у дочери она будет…
Ну а у старой женщины, которая умерла в эвакуации в Ярославле, опора в дни блокады была простая, извечная — вера. Имя этой женщины нам неизвестно, нам принесли ее дневник, найденный в Ярославле, — большую конторскую книгу. Женщина была верующая. Кроме бога, она верила в хороших, отзывчивых людей: верила, что помогут, что придут на помощь в самую трудную минуту. И, судя по дневнику, именно так получилось, что у нее, у доброго человека, на пути всегда оказывались тоже добрые люди. В ряду добрых также и бог, которому она время от времени подсказывает, как дальше распорядиться ее судьбой: «Думаю, что если хранил меня среди стольких ужасов, то, очевидно, моя жизнь еще для чего-то и для кого-то нужна».
Помогают ей люди, помогает бог, даже сны у старой доброй женщины полезные, нужные, добрые…
А рядом с ней живет обезумевшая от голода молодая женщина — страшное напоминание о бездне. Человек не выдержал навалившихся на него испытаний, сломился, обрушился. С безумными глазами выхватывает хлеб у собственного ребенка. Но нет, что-то происходит там, во тьме сознания, какими-то внутренними усилиями зажигается свет. И вдруг восстанавливается человек, и старая женщина записывает:
«18. III. Сегодня, о радость! Вдруг ночью Наташа будит меня и радостно говорит: «М. Е., дорогая, ведь я совсем здорова, я все понимаю, какое счастье». Я даже плакала от радости. Слава богу, она пришла в себя. Оказывается, она ничего не помнит из того, что было: ни как она отнимала у ребенка и у меня хлеб и продукты, ни что мы говорили, ни кто ее навещал. «Мне все казалось, что это во сне, а не наяву, и все казалось, что это я сплю». Господи, какие необычайные бывают эти психические расстройства! От радости она не могла спать и все время говорила, вспоминая свою болезнь. Говорила совершенно нормально, как прежняя Наташа…»
Тот, кто видел однажды блокадный этот город, никогда не забудет вида его улиц, его воздуха, полного шелеста снарядов, странного сочетания войны, которая была не то чтобы рядом, на окраинах, а забиралась внутрь города, и быта — городского быта с очередями, «толкучкой», заводской работой…
Все знаменитые петербургские архитектурные ансамбли на месте, так же прекрасны и мосты, и набережные, и дворцы — с той только разницей, что, как точно определил один ленинградец, они теперь не возвышают душу, а отягощают ее своей призрачностью, «обнаружилась в них способность не только принять смертное запустение, но и стать его принадлежностью вместе с знаменитой землей и коробками сгоревших домов».
Блокада не уходит вместе с иными событиями в тихие заводи прошлого, куда заглядывают лишь от случая к случаю. Особенность блокады — она как бы остается поодаль, но рядом, как нечто такое, что следует всегда иметь в виду. Время от времени с ней сопоставляешь и других и самого себя.
Трупы были на улицах, в квартирах, они стали частью блокадного пейзажа. Массовость смерти, обыденность ее рождали чувство бренности, ничтожества человеческой жизни, разрушали смысл любой вещи, любого желания. Человек открывался в своем несовершенстве, он был унижен физически, он нравственно оказывался уязвим. Сколько людей не выдерживали испытаний, теряли себя!
Рослый этот красивый человек, умеющий вдумчиво слушать и так же вдумчиво произносить только собственное, выношенное, просил не называть его имени. Он говорил сильно и убежденно о себе, но и о других, потому что он употреблял местоимение «мы». Он считал, что в первую очередь погибали физически слабые по здоровью, по возрасту, затем погибали честные, великодушные, не способные примениться к обстановке, где ожесточение и окаменелость души были необходимым условием выживания:
«После блокады мир рисовался мне затаившимся зверем. Я ведь встретил блокаду одиннадцатилетним. В таком возрасте трудно противостоять натиску чрезвычайных обстоятельств. Они навязывали свои критерии и ценности как единственно возможные. Я стал подозрителен, ожесточен, несправедлив к людям, как и они ко мне, Глядя на них, я думал: «Да, сейчас вы притворяетесь добрыми, честными, но чуть что, отними от вас хлеб, тепло, свет — в каких двуногих зверей вы все тогда обратитесь». Именно в первые послеблокадные годы я совершил несколько сквернейших поступков, до сих пор отягчающих мою совесть. Мое выздоровление затянулось почти на десятилетие. Лет до двадцати я чувствовал в себе что-то безнадежно старческое, взирал на мир взглядом надломленного и искушенного человека. Лишь в студенческие годы молодость взяла свое и жажда полезной людям деятельности позволила стряхнуть с себя ипохондрию. Однако прежняя детская вера в безусловное всесилие и совершенство человека, раздавленная блокадой, уже никогда не возродилась».
Обстоятельства блокадной жизни этого человека сложились так, что он казался себе брошенным на произвол судьбы, никому не нужным. В таких случаях нравственный смысл испытываемых лишений терялся, от этого иссякал запас духовной прочности, падала сопротивляемость голоду. Его слова, его крайнее мнение представляют ту противоположную точку зрения, которая существует, хотя, может быть, выраженная не в такой острой форме. Истории и Юры Рябинкина, и Князева, и большинства героев нашей книги спорят с ней. Но для того чтобы полемизировать с этим человеком, необходимо изложить и его точку зрения. Ее нельзя опровергнуть, ей можно противостоять. Откровенность этого человека была для нас поэтому ценной.
Блока
убрать рекламу
да была крайностью, утверждал он, она была выходом, вернее, выбросом за границы обычной усредненной житейской сферы, где человек ограничен в своем низком и в своем высоком. Расширилась амплитуда его чувств и поступков, его душевных колебаний между крайностями взлета к подвигу и падения к низости, бесчеловечности.
Но интересно, что и он, автор таких горьких признаний, приходит в конце концов к выводу о приоритете духовного начала. Блокада, которая как бы открыла человека в его самых отталкивающих и самых прекрасных проявлениях, помогла понять решающее значение во всем этом морального, нравственного наполнения человеческой души.
Из всех виденных нами дневников дневник Юры Рябинкина наиболее сильно выразил потребность блокадника не только других, но и себя оценить правдиво, даже жестко. Дневник стал для него опорой, возможностью видеть себя как бы со стороны, самокритично разбирать свои поступки: начиная писать, он как бы исповедовался перед неким слушателем, обращая через дневник к самому себе упреки, осуждение. Дневник становился как бы совестью, которая его словами, но отчужденными, обращалась к нему, Юре. Его честная размышляющая натура тревожно следит за собою.
Вспомним, как метался он, когда выигрывал в карты деньги. Ни во что не ставил свое геройство на крышах и благодарность за то, что ловко тушит зажигалки. Как выстаивает он, больной, слабый, в бесконечных и безнадежных очередях, добывая для всей семьи паек. А потом эти жалкие «печеньица» и «конфеты» из заменителей надо еще донести до дома, донести и не съесть. Как сложно, как невообразимо трудно: держать в руках то, что можно съесть, и не съесть, — это знают лишь по-настоящему голодавшие люди.
Клавдия Петровна Дубровина и сегодня, рассказывая, не перестает сама себе удивляться — тому, что она сделала, когда в руках у нее оказалось сладкое и съедобное лекарство, много лекарства:
«— У нас в ОГБ[36] все пристрастились: покупали пурген и пили с кипятком по таблеточке.
— Сладкий он, что ли?
— Да, сладенький, там сахарин, мы пили. И вот наши меня попросили, помню, как сейчас, купить семьдесят таблеток (потому что нас семь человек, всем по пакетику, а в пакетике десять таблеточек было). И вот семь человек дали мне деньги (копейки они стоили) и говорят: «Купи нам». Купила, значит, иду оттуда и не могу удержаться. Путь далекий: это с Большого проспекта Васильевского острова до площади Льва Толстого — вы знаете! А наша казарма находилась вот здесь, где завод «Электрик»… И вот пока я оттуда шла, я это все — по таблеточке — съела! Еще мне хочется, еще, не удержаться, еще…»
Не могла удержаться, не сумела себя остановить, хотя это не хлеб, не сахар, а просто сладковатые пилюли, иллюзия пищи. Потом врач ее еле выходил, попрекал: культурный человек — и 30 таблеток принять! (Это она преуменьшила, не решилась правды сказать.)
Рассказ К. П. Дубровиной — пример того, что и взрослому сознанию не всегда удается остановить себя. А Юре Рябинкину, мальчику, надо, простояв в очереди много часов, донести «печеньица» домой, донести и не съесть ничего.
Дневник его постепенно становится свидетелем мучительной борьбы — не знаем, чему равной, — с самим собой, со стыдом перед матерью.
Свидетелем и отчетом. Дневник делается союзником Юры в неравной схватке с инстинктом, с пожирающим внутренности голодом.
«9 и 10 ноября… И все же я могу твердо сказать, что не будь рядом со мной сытых, я к этому всему привык бы. Но когда каждый звук, почти (…) задевает чем-то веселым, сытным. Перед собою, сидя в кухне, я вижу на плите кастрюлю с недоеденными обедами, ужинами и завтраками, что оставляет после себя Анфиса Николаевна я не могу больше… Разрываюсь на части, буквально конечно, нет, но кажется… И запах хлеба, блинов, каши щекочет ноздри, как бы говоря: «Вот видишь! Вот видишь! А ты голодай, тебе нельзя…» Я привык к обстрелу; привык к бомбежке, но к этому я не могу привыкнуть — не могу!
На фронтах положение не изменено. Только на калининском направлении наши части выступили на несколько км. Свои позиции под Ленинградом враг упорно не желает сдавать.
И опять сейчас мне в уши бьет веселый смех Анфисы Николаевны… Мама вчера одолжила кусочек сахару у Анфисы Николаевны, сегодня хочет одолжить у Кожинских. Но сегодня — последний день декады. Завтра — будет свой сахар, хлеб… и хлеб!! Через ночь…
У нас не выкуплено на эту декаду 400 граммов крупы, 615 граммов масла, 100 граммов муки… а этих продуктов нигде нет. Где они выдаются, возникают огромные очереди, сотни и сотни людей на улице, на морозе, а привозят (…) чего-нибудь в этом роде человек на 80—100. А люди стоят, мерзнут и ни с чем уходят. Люди встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магазинам и ничего не достают. И больно, а ничем не поможешь. Сейчас тревога. Она уже длится часа два. Нужда, голод заставляют идти в магазины, на мороз, в длинную очередь, в людскую давку… Провести так недели, а затем уже никаких желаний не останется у тебя. Останется тупое, холодное безразличие ко всему происходящему. Недоедаешь, недосыпаешь, холодаешь и еще к тому же — учись. Не могу. Пусть мама решает вопрос: «Как быть?» Не в силах решить — сам попробую за нее. И вечер… что он мне готовит? Приходит мама с Ирой, голодные, замерзшие, усталые… Еле волокут ноги. Еды дома нет, дров для плиты нет… И ругань, уговоры, что вот внизу кто живет, достали крупу и мясо, а я не мог. И в магазинах мясо было, а я не достал его. И мама разводит руками, делает наивным лицо и говорит как стонет: «Ну а я тоже занята, работаю. Мне не достать». И опять мне в очередь, и безрезультатно. Я понимаю, что я один могу достать еду, возвратить к жизни всех нас троих. Но у меня не хватает сил, энергии на это. О, если бы у меня были валенки! Но у меня их нет… И каждая очередь приближает меня к плевриту, к болезни… Я решил: лучше водянка. Буду пить сколько могу. Сейчас опухшие щеки. Еще неделя, декада, месяц, если к Новому году не погибну от бомбежки — опухну.
Я сижу и плачу… Мне ведь только шестнадцать лет! Сволочи, кто накликал всю эту войну…
Прощай, детские мечты! Никогда вам ко мне не вернуться. Я буду сторониться вас как бешеных, как язвы. Сгинуло бы все прошлое в тартарары, чтобы я не знал, что такое хлеб, что такое колбаса! Чтобы меня не одурманивали мысли о прошлом счастье! Счастье!! Только таким можно было назвать мою прежнюю жизнь… Спокойствие за свое будущее! Какое чувство! Никогда больше не испытать…
Как я хотел бы, чтобы Тина взяла и прочла дневник у себя в комнате в Шлиссельбурге за чаем с бутербродом! Того, что переживаем мы в Ленинграде, ей еще вовек не приходилось переживать.
Сегодня вечером после тревоги сходил в магазин, что на Сенной. В рукопашной схватке в огромной тесноте, такой тесноте, что кричали, стонали, рыдали взрослюди, удалось ценой невероятных физических усилий, протискаться, пробиться без очереди в магазин и получить 190 г. сливочного масла и 500 г. колбасы из конины с соей. Когда я пришел домой, почувствовал сильные боли в груди, точно такие, какие я испытывал два года тому назад. У меня и так действительно сухой плеврит. Боли сильные, ну точь-в-точь такие, как прежде. Что за мучение! Завтра, непременно пойду в тубдиспансер. В конце концов, я не хочу сейчас помирать от плеврита. Что я могу поделать? Что? Я бессилен… Против плеврита есть только два сильных средства: 1) отличное питание с обилием жиров и 2) воздух сухой, чистый, теплый. И оба средства отсутствуют…
Мама с Ирой «позавтракали» и идут на работу. Я пойду в тубдиспансер. Впрочем, перед этим позавтракаю в «комфорте и уюте». Почитаю.
…Сегодня достал 4 литра пива по карточкам, отдал их Анфисе Николаевне. И из них она мне дала выпить пол-литра. Мне понравилось. Право, будь это в былые времена, я стал бы добросовестным алкоголиком».
Он хозяйственно — в граммах — подсчитывает, сколько осталось неотоваренных талончиков на крупу, картофельную муку, помнит, что дома в запасе 50 граммов шоколада… Если бы где-то можно было отоварить карточки!
«Да, забыл сказать самое главное. У мамы пухли ноги и стали твердыми, как камень. Вот дела-то!
В тубдиспансер мне надо было бы идти завтра, в тот, в который ходит Анфиса Николаевна. Это у Мальцевского рынка, где каждый день идет обстрел.
…Приказ Гитлера, цитированный в «Ленинградской правде»: «Учитывая важность назревающих событий, особенно зиму, плохое материальное обеспечение армии, приказываю в ближайшее время любой ценой разделаться со столицей большевиков Москвой».
…К 5 часам утра надо идти в очередь (…) обязательно. Все мы издерганы. У мамы я давно не вижу спокойных слов. Чего ни коснется в разговоре — ругань, крик или истерика, что-то в этом роде. Причина… Причин много — и голод, и вечный страх перед обстрелом и бомбежкой. В нашей семье — всего-то 3 человека — постоянный раздор, крупные ссоры… Мама что-то делит, Ира и я зорко следим — точно ли… Просто как-то не по себе, когда пишешь такие слова».
Юра, конечно, винит мать, кого ж еще может винить ребенок, но тут же спохватывается, оправдывает ее, заставляет себя понять причины ее раздражения. Великое это дело — заставить себя понять другого человека. Особенно в обстановке, казалось бы, исступленного голодного эгоизма. Терзает его и то, что мать свою он по-другому стал видеть — жесткой, недоброй. И то, что сам он жадно и недоверчиво следит, как она делит хлеб. Моральные требования его не снижаются. Вот он с товарищем поймал и съел одичалого кота и мучается, он уже как бы не прежний, что-то потерял навсегда.
Между тем на Ладоге идет усиленная ледовая разведка. Лед пробуют каждый день. Наконец 17 ноября на лед можно ступить. Озеро не полностью, но затянулось, замерзло. Это счастье, что так рано. Разведчики осторожно идут по первому тонкому льду, он еще гнется под ногами. На плечах у них спасательные круги, в руках жерди. Они благополучно доходят до Кобоны. На следующее утро, 18 ноября, вновь выходят на лед, размечая тр
убрать рекламу
ассу дороги на Большую землю. Навигация прекратилась, и, как назло, и погода нелетная, самолеты не могут доставлять в город ту малую долю продуктов, которые поднимала на себе авиация. Разведчики и дорожники 19-го готовят ледовую трассу, надо расчистить ее от снега, торосов, перекрыть трещины. Здесь рады морозу, который проклинают ленинградцы, ударил бы он еще сильнее, скорее бы вырос лед. К 20-му он достигает местами уже 18 сантиметров, и 300 с лишним саней, запряженных лошадьми, спускаются на озеро и начинают двигаться на Большую землю за мукой.
«24 ноября. Как томительно тянется время! Как оно однообразно. Все мысли заняты едой и желанием вырваться из тисков голода, холода, страха… Все надеждь на эвакуацию отложились в долгий ящик. На фронтах и под Ленинградом инициатива опять у немцев. Они, наверное, продвинулись еще ближе, раз их снаряды разрываются на нашей улице, перед нашим домом.
Сегодня с половины седьмого в очередях. Бесконечные ленты, вереницы голодных людей… навсегда мне врежутся в память! Ничего не достал, ни в одном магазине не было масла, крупы или мяса. Ни в одном. А простоял я в очереди в магазинах целых 4 часа… И надо опять в очередь.
Мама говорит, что, во-первых, железная Северная дорога уже очищена (по словам Тураносовой), а сейчас ведется ее постройка (она была разобрана). Во-вторых, из Ленинграда, по многим признакам, эвакуируются все государственные учреждения и т. д.
Насчет эвакуации мама что-то бормочет невнятное но, по всему видно, дело не пойдет.
25 ноября. Ходил к глазному. Тот прописал мне очки, указывая на то, что у меня один глаз 0, а другой 30 % зрения. Думаю, мне надо будет сходить в частную поликлинику.
Какие-то части на Южном фронте перешли в наступление и погнали немцев на 60 км. назад, разгромили (…) стрелковый корпус…
Под Уфой хлеб стоит 2 р. 50 коп., сколько угодно и без карточек, а там это считается дорого. Ничего себе, а! Ведь это же рай…
26 ноября. Сегодня с утра ожесточенные артобстрелы города, и особенно района Сенной площади и нашего квартала. В дом № 30 еще попало 2 снаряда. Много убитых и раненых.
Меня сегодня мать Штакельберга назвала круглым дураком, что я не ворую у И. «Я бы, — говорит, — и посмотрела».
Вместо растительного масла дают повидло. Очереди. Эх, достать бы где кокосового жиру! Где-нибудь..!
Мама написала заявление на предоставление ей места в самолете для вылета из Ленинграда. Чувствую, что дело провалится, хотя какая-то тайная надежда есть на освобождение, но я все-таки угнетен разными плохие мыслями.
У меня мама потребовала Ирину карточку, хлебную. Хотят лишить меня печенья. Ну что ж… Раз только стоит Ире получить печенье, и она уже за него так уцепится, что не видать мне его больше… Опять пойдут гнусные, грязные сцены с дележкой, ей меньше, ей больше… Ну, положим, завтра я еще печенье получу, а с послезавтра начиная кончайся моя и без того непривлекательная жизнь. Какая же жизнь, когда и печенья меня лишат… Вот теперь иди в магазин, доставай картофельной муки да кокосового масла или повидла, а они каждый день будут жаловаться, что они устали и т. д. Ирка обеими руками уцепится за печенье…
(…) положение ничуть не изменилось. Наступление на Москву продолжается. Пала Тула… В районе Тихвина идут ожесточенные бои. Ходят упорные слухи, что, как только армия прорвет, она сразу же эвакуируется из Ленинграда и будет брошена под Москву, а Ленинград будет сдан, жители смогут отступать с армией пешком. (…) настроение! Какие думы!»
Подобные слухи омрачали и без того мрачную жизнь блокадников.
Тем временем армия и Балтийский флот делали все, чтобы оснастить, обеспечить связью, транспортом, ремонтом ледовую дорогу через Ладогу. К озеру подтянуты были специальные части — зенитная артиллерия, истребительная авиация, дорожные полки, мостовые батальоны, санитарные службы. 22 ноября 1941 года ледовая трасса была опробована. Впоследствии ее назовут «Дорогой жизни». Первые недели жизнь ее еле разгоралась. По слабому льду осторожно тянулись лишь санные обозы. Позже двинулись первые машины, но они быстро выходили из строя… Да и подвозить грузы было трудно к озеру: 8 ноября немцы заняли Тихвин — и последняя железная дорога через Вологду, Череповец, Тихвин и Волхов была отрезана. Только в декабре, когда войска Волховского фронта освободили Тихвин, можно было восстановить железную дорогу и подвести ее непосредственно к восточному берегу Ладожского озера. Теперь можно было везти грузы прямо к ледовой дороге. До этого, сентябрь и октябрь 1941 года, крохотный ладожский флот (несколько буксиров, катеров и баржи) решал непосильную задачу — доставлять в Ленинград продовольствие, снаряды, боеприпасы, горючее, смазочные масла, эвакуировать людей. Осень выдалась штормовая, перевозки часто приостанавливались, а в двадцатых числах октября поднялась такая волна, что навигация полностью прекратилась. До 20 ноября 1941 года только отдельные суда прорывались в Ленинград. Доставка продовольствия самолетами также была прервана: все самолеты по указанию Председателя Государственного Комитета Обороны использовались для боевых заданий — шло сражение за Москву. Об этом пишет в своих воспоминаниях А. И. Микоян. Воспоминания его, опубликованные в «Военно-историческом журнале», рассказывают, как организовывалось снабжение Ленинграда продуктами из глубины страны, как доставляли продукты к «Дороге жизни». А. И. Микоян приводит одну из причин тяжелого продовольственного положения Ленинграда:
«В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска развертывали наступление, многие эшелоны с продовольствием, направляемые по утвержденному еще до войны мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к месту назначения, одни адресаты оказались на захваченной врагом территории, а другие находились под угрозой оккупации. Я дал указание переправлять эти составы в Ленинград, учитывая, что там имелись большие складские емкости.
Полагая, что ленинградцы будут только рады такому решению, я вопрос этот с ними предварительно не согласовывал. Не знал об этом и И. В. Сталин до тех пор, пока ему из Ленинграда не позвонил А. А. Жданов. Он заявил, что все ленинградские склады забиты, и просил не направлять к ним сверх плана продовольствие. Рассказав мне об этом телефонном разговоре, Сталин сказал, зачем я адресую так много продовольствия в Ленинград.
Я объяснил, чем это вызвано, что в условиях военного времени запасы продовольствия, и прежде всего муки, в Ленинграде никогда не будут лишними, тем более что город всегда снабжался привозным хлебом (в основном из районов Поволжья), а транспортные возможности его доставки могли быть и затруднены. Что же касается складов, то в таком большом городе, как Ленинград, выход можно было найти. Тогда никто из нас не предполагал, что Ленинград окажется в блокаде. Поэтому Сталин дал мне указание не засылать ленинградцам продовольствие сверх положенного без их согласия».[37]
Дневник Юры Рябинкина:
«28 ноября. Был в тубдиспансере. Меня отправили на рентген и на анализы. Что будет дальше — не знаю.
Сегодня буду на коленях умолять маму отдать мне Ирину карточку на хлеб. Буду валяться на полу, а если она и тут откажет… Тогда мне уж не будет с чего волочить ноги. Сегодня дневная тревога опять продолжается что-то около трех часов. Магазины закрыты, а где мне достать картофельной муки и повидла? Пойду по окончании тревоги порыскаю. Насчет эвакуации я потерял надежду. Все это одни лишь разговоры… В школе учиться брошу — не идет учеба в голову. Да и как ей пойти? Дома голод, холод, ругань, плач, рядом сытые И. Каждый день так удивительно похож на предыдущий однообразностью, мыслями, голодом, бомбежкой, артобстрелами. Сейчас выключилось электричество, где-то, я слышу, жужжит самолет, бьют зенитки, а вот дом содрогнулся от взрывной волны разорвавшейся неподалеку бомбы… Тусклая, серая погода, белые, мутные, низкие облака, снег на дворе, а на душе такие же невзрачные серые мысли. Мысли о еде, о тепле, об уюте… Дома не только ни куска хлеба (хлеба дают теперь на человека 125 г. в день), но ни одной хлебной крошки, ничего, что можно съесть. И холод, стынут руки, замерзают ноги…
Сегодня придет мама, отнимет у меня хлебную Ирину карточку — ну ладно, пожертвую ею для Иры, пусть хоть она останется жива из всей этой адской (…), а я уж как-нибудь… Лишь бы вырваться отсюда… Лишь бы вырваться… Какой я эгоист! Я очерствел, я… Кем я стал! Разве я похож на того, каким был 3 месяца назад?.. Позавчера лазал ложкой в кастрюлю Анфисы Николаевны, я украдкой таскал из спрятанных запасов на декаду масло и капусту, с жадностью смотрел, как мама делит кусочек конфетки (…) и Ирой, поднимаю ругань из-за каждого кусочка, крошки съестного… Кем я стал? Я чувствую, чтобы стать таким, как прежде, требуется надежда, уверенность, что я с семьей завтра или послезавтра эвакуируюсь, хватило бы для меня, но этого не будет. Не будет эвакуации, и все же какая-то тайная надежда в глубине моей души. Если бы не она, я бы воровал, грабил, я не знаю, до чего дошел бы. Только до одного я бы не дошел — не изменил бы. Это я знаю твердо. А до всего остального… Больше не могу писать — застыла рука».
ИРИНА КАРТОЧКА

Читать подряд дневник Юры Рябинкина тяжело. Не хватает воздуха. Пространство слишком замкнуто, он и сам это чувствует. Блокада отрезала не только город от страны, она блокировала многие семьи, прервались обычные связи — с работой, с друзьями, с миром. По Юре видно, как он переставал ощущать общий ход войны, ярость борьбы, которая нарастала, помогала забывать о лишениях.
Один из нас воевал в эти зимние месяцы 1941/42 года на Ленинградском фронте и помнит огромное моральное впечатление от той первой нашей
убрать рекламу
большой победы — разгрома немцев под Москвой.
Мы сидели под Пушкином. Отдельный наш артиллерийско-пулеметный батальон занимал участок за железной дорогой, на голой заснеженной низине. Участок был слишком велик для батальона. Пополнение почти не поступало. Порой во взводах оставалось пять — семь человек. Не хватало людей стоять на постах, боевое охранение не удавалось подменять. А надо было каждый день чистить от снега ходы сообщения. И окопы. И расчищать сектор обстрела. Надо было где-то добывать дровишки, таскать их в землянки, топить печи, чистить оружие, поскольку мы еще к тому же стреляли, стояли на постах, волочили раненых за насыпь железной дороги… Кроме всего этого, мы ползали на рассвете на нейтралку добывать из-под снега капусту, потому что были голодны. Каждый день кого-нибудь отправляли в госпиталь — или обморожение, или отечность.
Теперь уже не понять, как мы могли держать оборону, и ходить в разведку, и даже пытаться отвоевать высоту. В сущности, мы тоже жили в очень ограниченном пространстве — взводная землянка, боевое охранение, слева подбитая, горелая, занесенная снегом полуторка, невесть как оказавшаяся посреди поля, справа вдали Пулковская гора, а ближе — кусты. Впереди же, прямо перед нами, — Пушкинский вокзал, а в бинокль виден дворец. Вот и весь наш пейзаж, наш фронт, наше поле боя. Мы мало знали о том, что происходит на соседних участках. Но зато совсем рядом сидели немцы, уж их-то мы изучали, их знали и видели, местами окопы наши так сближались, что слышно было, как они разговаривают, как звякают термосы. Когда нашим снайперам удавалось подстрелить какого-нибудь фрица, мы слышали их крик и ругательства.
Впереди были немцы, а позади был виден Ленинград. В чистом воздухе силуэт города проступал четко, со всеми шпилями, куполами, трубами, словно вырезанный старым мастером по краю земли между белыми ее полями и синим небом. Ночами багровые отсветы пожаров выедали город. Днем над нами с мягким шелестом пролетали снаряды. Небо было чисто, но мы слышали их невидимый ход, и затем с запозданием до нас долетали глухие ахи разрывов. Немцы обстреливали город по расписанию, и по расписанию на город летели бомбардировщики. Они возвращались над нами. Когда-то мы от бессильной ярости палили в них из винтовок, стреляли бронебойными, били из противотанковых ружей в надежде попасть в какую-нибудь незащищенную, уязвимую точку. Это было давно. Теперь мы поумнели, да и берегли патроны для дела. Мы просто следили, как над городом начинали хлопать зенитки и как шла бомбежка. Черные столбы дыма медленно поднимались, искажая чистый профиль. Мы пытались угадать, какой район города бомбили.
Мы ничего не могли поделать, единственное, что мы могли, это не смотреть назад, на Ленинград. И в город мы не стремились. Хотя нас и не очень пускали. Я, например, был там в ту зиму один раз, и мне этого хватило. Но все равно мы постоянно ощущали за нашими спинами присутствие, неровное, еле слышное дыхание этого города. Ни на каком другом фронте такого не было. С того дня как мы узнали про разгром немцев под Москвой, у нас все переменилось. Воевали мы еще плохо, здесь, на Ленинградском фронте, в декабре — январе наступление срывалось, из всех попыток мало что выходило, мы еще не могли вести наступательные бои. Но зато мы почему-то точно уверились в том, что Ленинград немцам не взять. Не потому, что у них не хватит сил, а потому, что мы им не дадим. Странная эта, казалось, ни на чем не основанная уверенность охватила нас в декабрьские дни, дни нашей слабости, голода и малолюдья. Может, это как-то было связано и с тем, что в двадцатых числах декабря к нам в части, на передний край, приехала делегация ленинградских работниц вручить подарки. Может быть, начальство решило, что наш боевой дух поможет ленинградцам, а может, командование хотело воодушевить нас — не знаю. Делегация дошла до нашей роты в виде трех женщин. Все три были замотаны платками, шарфами, подпоясаны ремнями, шнурками. Когда в землянке они наконец освободились от своих одежек, то стали тоненькими девицами, можно сказать даже — костлявыми, судя по торчавшим ключицам и скулам. Землянка была жарко натоплена, мы входили и получали из их рук носки, кисеты, рукавицы. Платьица на их иссохших плечиках свободно болтались, были слишком просторны, но каждая казалась нам милой. Они появились у нас вечером, когда стемнело. Через час старшина принес нашу кашу. Котелок каши с солониной и кусок сахара — это был наш обед, он же и ужин, из него кто мог оставлял себе завтрак, был еще хлеб и сухарь. В тот вечер кашу мы разделили с гостьями, то есть фактически скормили им, так что каждой досталось почти по две порции. Потом Володя сыграл им на гитаре, они рассказали нам про то, как шьют на фабрике белье, и потом они улеглись спать. На самом деле они стали клевать носом сразу, как поели. Они устали от дороги, а главное, их сморило от еды и тепла. Спали они на наших нарах. Приходили из соседних взводов, заглядывали в нашу землянку — удостовериться. Казалось, годы миновали с тех пор, как мы видели женщин в платьицах. Но какие это были женщины — худые, изможденные, подурневшие! Теснясь в дверях землянки, солдаты смотрели на спящих с чувством, в котором не было ничего мужского, а была лишь жалость. Но, может, в этом и было мужское чувство. Эти три женщины были для нас как Ленинград…
Их разбудили под утро, чтобы затемно они могли выбраться. Они еще хотели спать, уверяли, что никогда еще за эти месяцы не спали так спокойно, как у нас передовой.
Вместе с лейтенантом я провожал их до КП. Мы шли, ориентируясь на багрово-золотые пятна пожаров. Одинокий прожектор шарил по низкому небу. Лейтенант приглашал их следующей зимой в ЦПКиО на каток. «Узнаете меня по вашим рукавичкам», — шутил он. Я смеялся вместе с ними и вдруг понял: у немцев не получилось, в город им не войти, теперь все дело в том, когда мы сможем их отбросить.
Юре Рябинкину неоткуда было почерпнуть это ощущение. В том-то и заключалась мука, постигшая многих ленинградцев в эту зиму среди их разрушенного существования.
Он умоляет, чтобы ему отдали Ирину карточку. Всего лишь поменяли бы на его карточку, чтобы вместо липких 150 граммов хлеба получать 100 граммов сухого, называвшегося печеньем (его иногда выдавали детям). Юре кажется, что это «печенье» его спасет.
Но при всем при том ясно высвечивается кардиограмма его терзаний: страшно лишиться карточки, понимает, что не имеет права на карточку, но отдать не хочет, будет на коленях просить, — это при его-то самолюбии! — умолять отдать карточку, через несколько строк опомнился, усовестил себя (отдам, пусть хоть Ира останется жива) и, опомнясь, вдруг увидел себя, и ужаснулся (кем я стал!), и кается, кается: оказывается, все же не удержался, потихоньку тащит чужое — лазал ложкой в кастрюлю, таскал масло, капусту, — он признается, называет все свои проступки, малые, но ужасающие его, он грызет себя, боится потерять все моральные преграды — стать вором, грабителем, — воспаленная совесть предчувствует бездну, мечется в тоске и страхе оттого, что не хватает сил удержаться, остановиться…
А назавтра все же просит Ирину карточку. (Дети до двенадцати лет получали чуть больше, чем иждивенцы и служащие.) И может быть, умоляет, требует, может быть, в стыде унижений, потому что сцена была бурная: непросто матери выбрать между двумя своими детьми. Карточку ему дали, а в карточке-то на два дня хлеба, потому что конец месяца, а через два дня новая карточка, декабрьская, и снова мучение, дадут ему или нет.
Все это прочитывается в дневнике, может, и нет нужды комментировать, вмешиваться, подсказывать читателю, но это одно из тех мест, где у нас не хватает сил промолчать.
Да и не привыкли мы к такой открытости. Она пугает. В ней беспощадность к себе, на которую, наверное, уже не способен взрослый человек. Если бы Князев мог заполнять свой дневник с такой же силой исповедальности, что и Юра. С годами эта возможность самораскрытия утрачивается. А может, Князеву мешает чувство историка, условие, что дневник предназначен «Далекому другу»?
Откровенность — талант Юры, самое сильное проявление его личности. Возможность самоубийства, как это было у Князева, для него не существует. Из века в век человека уговаривали, раз он не верит в бога, в бессмертие души, какой же ему прок быть хорошим, мучиться совестью? Все дозволено. Жизнь опровергала логику, что-то удерживало Юру Рябинкина от эгоистической вседозволенности. И от самоубийства. Совесть хозяйничала над ним, а не он над ней. Откуда ж она бралась, только ли из любви?
«29 ноября. Две вчерашних новости. Первая — письмо от Тины, написанное ею по дороге в Сибирь из г. Буя, где в гражданскую войну умер от тифа мой дед. Пишет, что состояние удовлетворительное (значит, хорошее), едет далеко, далеко. Письмо было написано в конце октября. Вторая новость — это то, что мама решила во что бы то ни стало эвакуироваться из Ленинграда. Хоть пешком. Но это только еще словесное решение. Мне надо опять ходить в школу, т. к. из Ленинграда разрешается эвакуироваться только учащимся. Заодно мне придется заплатить за учебу 100 рублей.
Положение в Ленинграде я лично считаю крайне тяжелым. Отсутствие продуктов, беспрестанная орудийная стрельба по всем районам города, да мало ли чего еще… Но, в общем, я считаю, что положение с эвакуацией начинает более-менее проясняться, хотя на это прояснение понадобится еще месяц-полтора.
Подбираю, подбираю, что взять с собой. Я твердо решил захватить с собой, поскольку это будет возможно, портфель со всяким моим «хламом» — 2 книги по шахматам, английской немного литературы, «Историю дипломатии», несколько исторических карт, лучшие открытки из коллекции, два-три учебника 9-го класса (например, «Основы дарвинизма», «Литература», «История», «География» или даже без последней).
Как хорошо забыться в таких сладостных мечтах, как эвакуация, но холод вернет к действительности.
Меня поражает перемена в поведении Анфисы Николаевны. Так, например, вч
убрать рекламу
ера она дала нам тарелку пшеничной каши и блюдце сухарей, не взяв за это ничего. Часто приносила из столовой треста какао, теперь оно исчезло. Сегодня я ей достал повидла, она дала мне за это грамм 50 его. В общем, я сейчас серьезно чувствуй ее помощь. Если бы мы прожили еще полгода вместе, быть может, мы бы совсем подружились с нею. Впрочем, кто ее знает?.. Ведь факт остается фактом, что на днях ее в Ленинграде уже не будет. Время позднее. Вечер. Покушали киселя из картофельной муки с повидлом, что я сегодня достал, и сухарей, что дала Анфиса Николаевна, тоже с повидлом.
Завтра Ира получает по карточке 250 г. печенья. Сколько, а! Ну что ж, пусть поест их. Пусть…
Сегодня мама сказала, что подано заявление ею на разрешение о вылете. Что выйдет — неизвестно. Надеюсь на лучшее…
В комнате Анфисы Николаевны разыгралась бурная сцена. И. ругался со своей женой о том, что она хлеб меняет для себя на водку и т. д.
Итак, сегодня 29 ноября. Вечером написал мало, хочется спать и не хочется идти в холодный коридор. И так хочется есть… Еще неделька — и я не потяну ног.
30 ноября. У мамы настроение явно эвакуационное. Вчера она много толковала об эвакуации с Анфисой Николаевной. Та ей дала, вернее, пообещала дать адрес своих родителей, живущих у Златоуста. Хоть это и не хлебный район, но голод там, вероятно, все же не такой, как здесь. Но все зависит от резолюции, которую поставят на мамино заявление. Это ясно. Ответ должен быть самое позднее через неделю.
Анфиса Николаевна дает нам каждый день штук восемь сухарей, сегодня дала кусок конины и бутылку растительного масла. Спасибо ей за это все.
Аккуратно в 12 дня и в 00 минут немцы начали опять налет. Опять и бомбят с воздуха, и одновременно обстреливают с батарей город.
Я начинаю припасать деньги. Сейчас у меня 30 рублей, из которых легально я имею 10.
Итак, до решения нашей судьбы остаются считанные дни. В случае невылета пойдем пешком. Идти километров сто, но как-нибудь пройдем.
Мечта мамина сейчас — это порвать с шумной городской жизнью, поселиться в каком-нибудь районном селе, где была бы десятилетка для меня, обзавестись хозяйством, избой, дать мне сельскохозяйственный уклон и дожить свою жизнь в тишине и уюте, как Тина. Мама устала от жизни. Ее тянет к себе такая, например, жизнь, какую вела Тина в Шлиссельбурге, мирная, спокойная жизнь без всяких передряг и бурных переживаний… Но, быть может, я ошибаюсь и это лишь временный порыв у моей матери. Впрочем, такие же мечты, я помню, она имела в Сестрорецке, имела на Всеволожской. Жизнь среди природы, но эта жизнь требует… Но ладно, сейчас не до того. За окном бьют зенитки, взрываются бомбы, не до таких мыслей мне теперь.
Сегодня, между прочим, мама мне говорила, что голод, который мы переживаем, хуже того голода, какой был в 1918 году… В 1918 году — по словам мамы — было в высшей степени развито так называемое «мешочничество». Люди ездили в дальние деревни, там доставали хлеб, муку, масло, возвращались в Петроград и продавали из мешков все эти продукты, разумеется — за баснословные деньги. Но имевший тогда деньги был сыт, а сейчас может человек обладать миллионами, но, потеряв продовольственные и хлебные карточки на месяц, он неминуемо умрет с голоду, если только он уж не какой-нибудь феноменально предприимчивый человек.
На фронтах лучше… Немецкие войска в беспорядке отступают к Таганрогу. Мы преследуем их.
Итак, начинается разгром Германии. И под Москвой, и под Ростовом, и под Ленинградом. Чтобы поскорее лопнула бы эта фашистская свинья, черт бы ее побрал! Но когда она лопнет, то от нее повеет такой смрадный дым, что никого в живых не останется.
Завтра надо идти в школу. Обязательно. Если дело коснется эвакуации, то меня выпустят из города лишь в случае, если я буду учащимся. Поэтому необходимо посещать школу.
Как бы я сейчас поел хлеба… Хлеба… Хлеба…
1 декабря. Наступил новый месяц. Настала новая декада. Пишу утром. Сегодня был в школе в 8 ч. утра. Мне сказали, что с сегодняшнего дня занятия в школах начинаются с 10 часов, а пуск в школу без двадцати 10. Я пошел домой. Зашел в столовку треста. Там горячий чай с шоколадной конфеткой. На конфетку отрезают 10 г. кондитерских изделий. Пошел домой. В половине десятого хотел идти в школу, но дали тревогу. Сейчас, когда я это пишу, тревога продолжается, 10 часов уже, наверное, было.
Я сейчас так дорожу своей энергией, что для меня представляется важным даже решение сходить по коридору в столовую. Во всем теле чувствуется слабость. Ноги тяжелые, коленки слабые, тяжело подняться со стула, во всем теле слабость. И часов до 6–7 вечера, вероятно, не придется ничего есть. Дома масло мама запрятала, я его поискал и не нашел, а сырую конину есть не могу. Если тревога продолжится еще часа 2, в школу не пойду. Какой смысл? А впрочем, следовало бы. Захвачу с собой лишь часть учебников.
Значит, немцы теперь будут начинать налеты с 10 часов утра, вернее, с половины десятого. А в школу мне надо выходить точно в такое же время. Как быть?
Хочу все же подытожить, чему научил меня ноябрь месяц и чем отличается 30 ноября от 30 октября. Прежде всего в ноябре началась учеба в школе, которая разбила все мои стремления к знаниям из-за той обстановки, в которой велась. И вот я покончил, казалось, со школой. Перешел в каждодневные мытарства стоянки по очередям. Сразу все мои идеалистические воззрения заменились материалистическими. Основное требование жизни за месяц осталось то же — еда.
Надо сказать, что продовольственное положение в день 30 октября у нас было хуже, чем 30 ноября. Но вместе с тем безусловно требования к еде остались прежними. «Что только есть съедобного — все в рот». Вот лозунг, к которому скоро можно будет прибавить частичку «не» к слову «съедобного». Надежды остались прежними, подкрепилось, правда, несколько теперь их материальное обоснование. Если эвакуация 30 октября казалась чем-то отвлеченным мне, то сейчас это вопрос недели…
Итак, за истекший месяц можно сказать, что этот месяц, месяц страданий и слез, семейных ссор и голода, вымотал из меня половину тех сил, которые были у меня перед ним. Я ни разу не наелся досыта за весь этот месяц. Не прошло ни одного дня без того, чтобы не было бомбежки и артиллерийских обстрелов, не было ни одного дня, не омраченного, кроме голода, страхом за свою и мамину с Ириной жизнь.
Произошло 2 положительных явления за ноябрь. Переменились отношения с Анфисой Николаевной, которая, думая эвакуироваться на днях, дает нам немало по нынешнему положению продуктов бесплатно и не в обмен. Другое положительное явление, эта эвакуация Тины в Сибирь с ее эвакопунктом из Бокситогорска. Последнее письмо ее, полученное нами на днях, говорило, что она едет в поезде через г. Буй, который находится в Ярославской области.
Все мои надежды поставлены как будто бы на кончик ножа и держатся в некотором колебании. Какой-то будет ответ на заявление мамы о вылете? На всякий Случай следует приготовиться к эвакуации пешком. Хотя и ходят слухи о подобной эвакуации, она сейчас идет стихийно и неорганизованно. Толков об этой эвакуации много. Говорят о каких-то питательных пунктах в дороге, о подвозе детей на грузовиках и т. п. Но чего не выдумают люди!
Интересный факт. Позавчера в очередях появились толки, что на 11-й разовый детский талон дадут 250 грамм печенья. Вчера, покуда я стоял в булочной, десятки людей засыпали продавцов вопросами: «Дают ли на 11-й талон печенье?» — и, разумеется, получали отрицательный ответ».
Начиная с сентября, когда доставка продовольствия в город сократилась, пришлось выпекать хлеб с примесями. Добавляли овсяную муку, ячменную, отруби, жмыхи. Но и эти продукты кончались. Ученые искали заменители, которые можно было примешивать в муку и увеличить припек хлеба. Припек, то есть та прибавка в весе хлеба, какая происходит после выпечки. Под руководством В. И. Шаркова, профессора Лесотехнической академии, ученые предложили использовать целлюлозу, ту самую, что шла как сырье для изготовления бумаги. Они создали установку для переработки этой целлюлозы в пищевую. С конца ноября ее стали прибавлять в хлеб как наполнитель. «Мы получали массу немного серого цвета. После того как отпрессуешь ее на фильтрах, получится пласт такого вещества с влажностью сорок процентов. Хлебозаводы брали этот материал, разбавляли муку, делали хлеб, — рассказывает Дмитрий Иванови Сорокин, завпроизводством завода. — Мы, командный состав предприятия, тогда в снабжении ничем не отличались от рабочих. Я получал только одну рабочую хлебную карточку, ничего больше. Единственный был случай, когда у подшефных минометчиков убило лошадь, они прислали нам кусок, и наша завхоз, полторы недели экономя, давала нам вечером тарелку супа. Нам четверым — директору завода, профессору Шаркову Василию Ивановичу, главному инженеру Мельникову и мне. А других добавок не было».
Хлеб получался сырой, глинистый, с горьким травяным вкусом, но как радовались ему хлебопеки, тот же Василий Иванович Шарков, его сотрудники — они-то знали, каких мук, усилий ума стоило создать этот хлеб. Все же это был хлеб! Декабрьский, январский хлеб — горе и счастье Ленинграда…
СПАСТИ ДЕТЕЙ

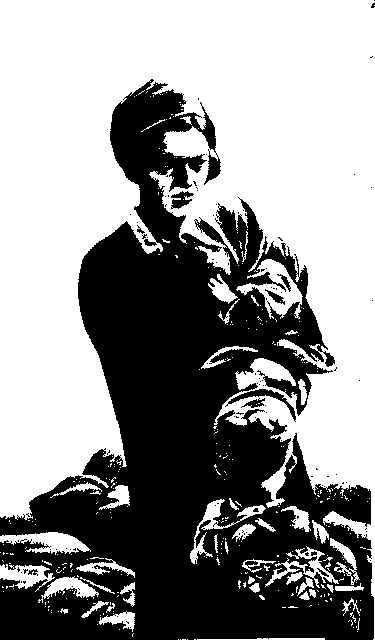
Тяжелее, чем Г. А. Князеву, тяжелее даже, чем Юре Рябинкину, приходилось в эти дни Лидии Охапкиной. Она боролась не за себя. Сына и дочь, двоих маленьких беспомощных детей, надо было отстоять от голода и мороза. Чем? Как? Что она могла в декабре, в январе, когда ничего уже не оставалось, ни крошки, все, все было подобрано, по всем углам высмотрено, по всем щелям исползано, выскоблено, изглодано, изгрызено. Но то, на что способна мать, нев
убрать рекламу
озможно предугадать, невозможно предвидеть. Материнская любовь, самопожертвование — эти чувства, казалось бы, хорошо известны еще по библейским притчам, сказкам, легендам разных народов. Трудно тут чем-либо поразить воображение. Тем более что героиня нашего повествования Лидия Охапкина ничем специально не отмечена и выбрана была нами прежде всего потому, что все записала добросовестно, правдиво, только в этом ее отличие от других женщин, которые с не меньшим чувством и силой сражались за жизнь своих детей. Записки Лидии Охапкиной — та щель, через которую мы можем заглянуть в сокровенный мир материнской любви и самоотдачи. Эта любовь побуждала на отчаянные поиски спасительного выхода.
«По квартире бегали и пищали голодные крысы. Они грызли обои, которые раньше ведь клеились клеем, сделанным из муки, т. е. жидким тестом. В комнате У меня никакой обстановки не было. Стояли только две узкие железные кровати, на одной спал Толик, на другой я с дочкой. Да еще кухонный стол, который мне разрешила взять с кухни хозяйка. Ведь вся наша обстановка осталась там, в Волковой деревне. В квартире жила девушка Роза 17-ти лет и ее тетя. Муж этой старой женщины был профессор, и он эвакуировался с институтом, где работал, а она не поехала, боялась бросить свое добро. В комнате у них было богато. Ковры, пианино и хорошая мебель. Потом, в январе месяце 1942 года, умерла от голода. Сколько раз она приходила ко мне и жаловалась на Розу, что та ей почти не давала хлеба. За хлебом ходила Роза, а она боялась выходить на улицу. Мне ее было жалко, но что я могла сделать? Мне своих забот хватало. От мужа я давно не получала никаких писем и не знала, где он, что с ним. Да и он не знал нашего адреса на Васильевском острове. Мне думалось, что мы уже никогда не увидимся. Но думала я как-то об этом без особой щемящей боли, так как думала — все равно уже скоро умрем от голода.
…Я мысленно хотела, чтобы смерть пришла вместе с детьми, так как боялась, если, например, меня убьют на улице, дети будут дико плакать, звать: «Мама, мама», а потом умрут от голода в холодной комнате. Ниночка моя все время плакала, долго, протяжно и никак не могла уснуть. Этот плач, как стон, сводил меня с ума. Я тогда, чтобы она могла уснуть, давала сосать ей свою кровь. В грудях молока давно не было, да и грудей совсем уже не было, все куда-то делось. Поэтому я прокалывала иглой руку повыше локтя и прикладывала дочку к этому месту. Она потихоньку сосала и засыпала. А я долго не могла заснуть, начинала считать цифры, сбивалась. Вспоминала, когда читала Л. Толстого «Война и мир», там Пьер Безухое тоже считал до тысячи, чтобы уснуть. А я сбивалась, все думала, где бы достать еды, хоть что-нибудь. Мне все мерещились то буханки хлеба, то я собираю в поле картошку. Наберу целый мешок, а унести не могу. Один раз на рынке-толкучке мне удалось с рук купить столярного клея. Из него тогда варили студень. Вот я тоже варила и ела. Давала Толику. Ниночке боялась. Но от клея у нас стали запоры, и я перестала его варить. Другой раз мне удалось купить кожу свиную. Она была повкусней, но ее надо было варить долго, чтобы она размякла, а я жалела керосин, его у меня оставалось немного.
…В квартире был страшный холод, на стенах иней, как бывает в сараях зимой. Когда мне нужно было перевернуть Ниночку, чтобы ее не простудить, я подлезала под одеяло и подсовывала сухую пеленку, а ту бросала на пол, и она вскоре замерзала, как замерзает белье мокрое на улице. У меня не было градусника, но температура воздуха была определенно минусовая. Я уже настолько похудела, что на ногах совершенно не было тела. Груди — как у мужчины, одни соски. Скулы на лице обтянулись, глаза ввалились. Дети тоже были очень худые, и у меня замирало сердце, когда я видела их худенькие ножки и ручки и маленькие прозрачные лица с большими глазами. Не было совершенно дров. Не на чем было разогреть воду или что-нибудь сварить. Роза мне сказала, что у них в подвале имеется немного угля, но ходить туда страшно, так как туда сваливают покойников. Я сказала — ничего, надо все равно, сходить. Мы взяли ведра и пошли. Там действительно лежало несколько трупов. Мы старались на них не смотреть. Скорей накладывали, прямо руками, и, торопясь, вышли. Света электрического тоже не было, и мы зажигали коптилки. У меня был сделан в пузырьке фитилек из ваты на машинном масле, которое я выменяла на что-то. Он плохо освещал, в комнате было темно. На стенах образовывались большие тени, а копоть тянулась тонкой нитью кверху. Воды в водопроводе тоже не было, и надо было ходить за ней на Неву. Я ездила туда с детскими санками, с ведром и кастрюлей. Воды было нужно много, так как помимо для еды нужно было еще стирать пеленки…
Я стала совершенно безразлична к воздушным тревогам, они были редкими, а обстрелы улиц производились чаше. Один раз во время такого обстрела я вышла за хлебом, потому что в это время меньше были очереди, и попала под сильный обстрел. Я хотела добежать до ворот одного дома, но как раз шла около длинного забора. Снаряды летели и разрывались совсем близко. Мне кто-то крикнул с другой стороны: «Дура! Ложись скорей, ложись!» Я упала и прижалась к стене. Потом оглянулась, встала и опять упала прямо в снег лицом. Полежала несколько секунд, сердце стучало. Я стала ползти. В общем, передвигалась, как солдаты на передовой.
…Зима 41/42 года была очень холодной. Мороз доходили до 30–40 °. Я все время думала, где бы достать дров. Когда я уезжала из Волковой деревни, то шкаф для одежды я набила колотыми дровами, а под дровами спрятала патефон. Мне хотелось туда сходить, но ведь транспорт, т. е. трамвай, тогда не ходил и надо идти пешком туда и обратно, очень далеко. Я все откладывала, но как-то собралась. Покормила детей, заперла их и с утра пошла. Представляете мой путь с Васильевского острова до Волковой деревни? Неву перешла по протоптанной тропинке, вышла на Литейный и все смотрела на дома, которые стояли хмурые. Многие с разбитыми окнами, темными, как глазницы. У других снарядом отбит или угол, или часть дома. А в другой жили люди. Мне попадались пешеходы. Шли все тихо, еле передвигали ноги. Все укутанные, с серыми худыми лицами, некоторые мужчины поверх шапок тоже повязывали платки.
…Да, город был ранен, как человек, побывавший в бою. Но был жив, и жил трудной жизнью, и не умирал, У людей была какая-то надежда, и упорство не покидало их. Ведь должен же кончиться когда-нибудь этот кошмар, этот ужас. Когда я дошла до Невского, у меня от волнения стеснило сердце, он был почти пустынным, весь завален снегом. Дома многие были полуразрушены. Окна заколочены фанерой. Стояли трамваи и троллейбусы, покрытые тоже снегом. Гостиный двор был обгорелый. На Аничковом мосту коней не было.
…На углу Лиговки и Разъезжей стоял раньше пятиэтажный дом. Он горел, но странным огнем. Горели на каждом этаже рамы и полы, огонь потихоньку вылезал из окон, как бы лизал рамы, подоконники, двигаясь так неторопливо. Ветра не было, и он синеньким огоньком не спеша ползал по дому. Люди говорили, что этот дом загорелся от буржуек и горит уже третий день. У дома было набросано много разной мебели, кровати, сломанные шкафы, сундуки и т. п. Никто этот хлам уже не брал и никто его не охранял.
…Когда я наконец пришла к себе домой, увидела, что верхний этаж дома почти был сломан. Крыша его сгорела, когда я еще там жила. На первом этаже жили еще семьи, я тоже жила раньше на первом. Рядом со мной жила Мария Николаевна со своей взрослой дочерью. Они обе были очень худые, но все же выглядели лучше тех, что жили в центре. Я спросила: «Как вы живете? Значит, не уехали отсюда?» А она говорит: «Куда же? Здесь теперь лучше. Я вот накопала немного картошки за железной дорогой. Да дров здесь полно. От деревянных домов, наполовину сгоревших, можно ломать доски, бревна и топить печку и готовить. А бомбежки ведь почти прекратились». Я говорю: «Вот у меня совсем нет дров». — «Так приезжайте сюда», — говорит она. А я: «На чем приезжать? Ведь нет никакого транспорта, я пришла пешком». И, вспомнив это, с ней попрощалась и вошла в свою комнату. Окна — два окна — были кем-то забиты досками. Сквозь их щели пробивался снег. Снег лежал повсюду — на столе, на кровати, Диване и на полу. Сердце сжалось при виде своих вещей, и воспоминание о мирной жизни с болью нахлынуло на меня. Но некогда было вздыхать, и я стала торопитья. Взяла патефон, я хотела его потом обменять на хлеб, подобрала с пола несколько игрушек для Толика. Помню — заводного слоника и мишку, для дочки целлулоидного попугая, все связала, положила на санки, а в них немного дров. Да сняла застывший жир со стенки кухонного стола, куда мы вешали сковородку и он тогда стекал, и сразу его съела. Об этом маленьком кусочке жира я вспоминала не раз по ночам, когда очень хотелось есть и немного уснуть. Как я доехала обратно, не помню. Выбивалась из последних сил, по пути выкупила хлеб и почти весь его съела. По сторонам уже не смотрела, а тащила санки, как измученная лошадь, думая только, что меня ждут дети. Приехала, когда было совсем темно.
…Я все время ходила в валенках мужа и надевала два пальто: свое и на него еще пальто мужа. Да и все так кутались. Некоторые люди поверх пальто набрасывали на плечи какие-то стариковские шали и даже ватные одеяла.
Когда я уходила, моя дочка всегда плакала. Чтоб она не плакала, я ей давала маленький ржаной сухарик, и она его долго сосала. И на этот раз я дала ей. Но, уже запирая дверь, я услышала, что она заплакала. Это Толик отнял у нее сухарик, так как я ему не дала, потому что у меня больше не было. Я вернулась и его побила первый раз. Он громко плакал, и мне его тоже стало очень жалко. Я сказала, что, если ты будешь у Ниночки отнимать, я тебя выкину на улицу. Он говорит: «Не надо, мамочка, я больше не буду». Я его поцеловала, укутала в одеяло и пошла. В этот день нам отоваривали, так раньше говорили, продукты, и на мою карточку я получила 200 граммов пшена. Детские продуктовые карточки я отдавала — прикрепляла к детской столовой, — и это нас очень
убрать рекламу
поддерживало. Там я получала на двоих детей. Утром — завтрак. Очень жиденькую кашку, конечно, в мизерных порциях. А на обед какой-нибудь супик и что-нибудь на второе. Картофельное пюре или опять кашу. Если б не это, не столовские обеды, мы голодали бы еще больше. Сын все время сидел и смотрел на будильник. Я ему объяснила: вот когда будет большая стрелка на 12, а маленькая на 10, мы будем завтракать, а когда большая будет опять на 12, а маленькая на 3 часах — обедать. И он все время смотрел на часы. То пшено, что я получила по своей карточке, я разделила примерно на две части и на ужин два раза варила жидкую кашу. Один раз прихожу домой, ходила за хлебом. Смотрю, Толик сидит на полу и что-то спичкой там выковыривает. Я говорю: что ты делаешь? Он отвечает, что выковыривает пшенинки из щелей пола. Это я немного просыпала, когда варила, было темно, и вот он их доставал и вместе с грязью ел.
Я подумала: «Боже мой, какой он голодный, но что делать, чем его накормить?» Он настолько был худенький, что уже редко вставал с кровати, и все мне говорил: «Мама! Я каши бы съел целое ведро, а картошки целый мешок». Я старалась его отвлекать. Пробовала рассказывать сказки, но он плохо слушал и все перебивал меня: «Знаешь, мама, я хлеба съел бы вот такую буханку, большую» — и показывал на круглый таз. Я говорила: «Нет, не съел бы, у тебя бы он не поместился в животике». А он возражал: «Съел бы, мама, съел бы. Я не спал бы, а все бы ел и ел». Выглядел он как галчонок, один рот и большие карие глаза, и такие грустные. А ножки такие тонкие, только коленная чашечка отчетливо выделялась. Волосы, давно не стриженные, отросли, он все время был лохматый. Один раз на мою карточку дали 200 граммов гороха. Я решила сварить жиденький супик. Сварила в печке и закутала его одеялом, чтобы попарился и лучше разварился. А сама вышла к соседке. Она умирала… Я постояла немного и ушла. Прихожу, смотрю, кастрюлька открытая. Я сказала Толику: «Ты уже лазил». Он: «Я только одну ложечку, мама, только одну попробовал». Я говорю: «Ну ладно, давайте есть». И почерпнула ложкой и вынула оттуда тряпочку, которой у него были завязаны руки. Чесотка у него почти прошла, и болячки уже отваливались. Но я ему все завязывала, чтобы он не заразил ни меня, ни Ниночку, так вот он ее и обронил. Что делать? Он сразу захныкал: «Я нечаянно, мама, она сама упала». Что делать? Суп выплескивать было жалко. Так и ели… До сих пор не забуду этого случая, да и он тоже долго помнил».
В тряпочке этой натурализм, физиология, читать про нее невыносимо, и не раз поднималась рука вычеркнуть ее, удалить, как удаляли мы некоторые подробности, ужасные в своей бесчеловечности, детали и эпизоды кошмарные, которые и придумать нельзя и знать про них не хочется, ничего, кроме ужаса и тоски, они не вызывают. Но эта тряпочка при всей ее тошнотности помнилась. Она отмечала как бы уровень человеческих страданий. Нет, не уровень падения. Они не переступали нравственных понятий — переступали брезгливость, отодвинули ее, это запомнилось как отметка (вот докуда дошли), и вспоминали о тряпочке, не стыдясь, не укоря себя. До того мы голодные были, до этой тряпочки! Человек часто хранит в себе, в памяти своей, такую отметку страдания, муки, предела чувств своих, такую «тряпочку», то ли помогает она, то ли служит какой-то точкой отсчета…
С начала января 1942 года Московский горком партии и Мосгорисполком готовили колонну автобусов и грузовых машин для ледовой дороги на Ладоге. Надо было подобрать к ним опытных шоферов и ремонтников. 40 автобусов было выделено, чтобы вывозить ленинградцев, и 200 грузовых машин. Уполномоченный ГКО А. Н. Косыгин договорился, чтобы все машины шли загруженные сгущенным молоком, концентратами, маслом, сахаром, жирами. Предусмотрел и то, чтобы обеспечить эти машины запчастями, придать им ремонтные летучки. Москва давала что могла, но этого было мало. А. Н. Косыгин связался с Ярославским обкомом партии и с Горьковским. Попросил, чтобы оттуда направили в Ленинград грузовые машины с ремонтниками и шоферами. Машины следовало подвезти к Ладожскому озеру по железной дороге, что надо было обговорить с тогдашним наркомом путей сообщения.
«Подходили грузовые машины из Москвы, Ярославля, Горького, надо было создавать автоколонны, ремонтные службы, принимать продукты, налаживать эвакуацию, — рассказывал А. С. Болдырев. — На подходе были еще 250 грузовиков, прибывали молодые здоровые шоферы с Большой земли, по двое на машину. Автобусы оставили в Жихареве, на восточном берегу озера…»
Путь для эвакуации был один — и для станков, и для приборов, и для металлов, необходимых оборонной промышленности, и для людей: по железной дороге от Финляндского вокзала, затем автомобилями через Ладогу.
Заводы, эвакуированные на восток, нуждались в оборудовании, дефицитных материалах. Замершая промышленность Ленинграда обладала огромным потенциалом. Ежедневно А. Н. Косыгину докладывали о выявленном на парализованных ленинградских заводах: вольфрам, молибден, никель, хром, уникальные станки — готовилась опись того, что можно было вывезти без ущерба для ленинградской промышленности.
Людей вывозить или оборудование вывозить? Так вопрос не стоял, надо было одновременно решать эти задачи, обе сразу, и выбора между ними не могло быть и предпочтения не было, а возможности дороги были еще так малы…
«Мы разъехались по предприятиям, — вспоминает А. С. Болдырев, — которые были намечены к срочной эвакуации, и туда, где еще шло производство оборонной продукции — «оборонки». Часть товарищей вместе с работниками горисполкома поехали по автобусным паркам, автобазам, чтобы выявить, где есть машины, водители, определить, как использовать их для массовой эвакуации населения.
Вместе с А. Н. Косыгиным мы поехали на Кировский завод, затем на «Электросилу», потом на Финляндский вокзал.
Мы поднялись на чердак одного цеха, где был устроен НП. Отсюда в полевой бинокль можно было рассмотреть немецкие укрепления и самих немцев. У них было тихо. Наши тоже не стреляли. Однако на территории завода следовало передвигаться осторожно. Заводской двор простреливался снайперами. Зашли в профилакторий. Там лежали рабочие, пораженные дистрофией. Это было единственное место, где было тепло. Больным давали усиленный паек. Разговор пошел об эвакуации. Пожилой бригадир сборочного цеха сказал: «Вывозите лучше детей, женщин. Мы здесь, как вы видите, на фронте. Нам одно надо — чтобы скорее нас на ноги поставили, чтобы могли воевать».
Из докладов побывавших на предприятиях картина складывалась невеселая — автомобильный транспорт не был подготовлен к массовой эвакуации людей. На железнодорожном транспорте не были готовы паровозы. Не было угля. Не было воды. Машинисты, да и остальные работники дороги из тех, кто остался жив, были истощены, многие не могли работать».
21 января Алексей Николаевич Косыгин доложил Военному совету фронта свои соображения о массовой эвакуации. Вечером он позвонил в Москву Сталину, сообщил, что Военный совет согласился с предложением эвакуировать в ближайшие три месяца полмиллиона человек. На следующий же день ГКО принял Решение об эвакуации 500 тысяч человек из Ленинграда.
А. С. Болдырев вспоминает:
«Мы с А. Г. Карповым стали готовить первую колонну автобусов. Вместе с ней мы должны были поехать через озеро. Задумано было провести пробный рейс с эвакуированными сразу из Ленинграда до Борисовой Гривы. Это было бы удобно и людям — для пересадки, перегрузки. Но мы убедились, что массовая отправка людей таким способом нереальна, — слишком плохая дорога, автобусы изношены, люди в таком состоянии, что не выдержат.
Оставалась железная дорога. Военный совет разрешил выдать усиленное питание машинистам, поездному составу, стрелочникам, ремонтникам. Нужно было в сверхсжатые сроки отремонтировать паровозы и вагоны.
Немедленно стали подвозить топливо к Финляндскому вокзалу — уголь, дрова для паровозов и печурок, чтобы отапливать вагоны. Надо было организовать заправку паровозов. Водопровод не работал. Решили использовать пожарные цистерны. В них набирать воду из Невы и подвозить к паровозам. Все это добывали, организовывали, налаживали не то что неделями, а сутками, счет шел на часы. Все понимали, что каждый день уносит жизни тысяч ленинградцев. Буквально за ночь был разработан график подвоза эвакуированных на вокзал, порядок посадки. Создали систему питания в пути, медицинской помощи. Договорились с наркомом путей сообщения срочно доставить самолетом в Ленинград четыре бригады машинистов, составителей поездов и ремонтников».
В Москве действовал Совет по эвакуации. Этому Совету поручено было заняться размещением эвакуированных в городах, в частности в Вологде…
Лидия Охапкина:
«Вскоре как привезла патефон, я повесила у булочной объявление, что продаю патефон на хлеб. На следующий день пришел один военный и принес целую буханку хлеба. Я просила еще хоть немного. Он сказал: «С удовольствием, но, к сожалению, у меня нет». Я отдала ему еще несколько пластинок, что у меня были. Вскоре я повесила объявление, что продаю ручную швейную машинку. Я ее еще привезла, когда нас перевоз в сентябре месяце. Вскоре пришла женщина и предложила мне не целую буханку, а чуть побольше половины. Мне очень было жаль машинку, но что делать, я отдала. Эта женщина выглядела не очень изморенной. Я спросила, где она работает. Она ответила: «А вам какое дело?» Вот как дорого ценился хлеб. А на одежду хлеба не меняли. Она никому не нужна была. Мне менять болье было нечего.
В конце декабря 41 года я встретилась с одной молодой женщиной, когда мы стояли в очереди за хлебом, она вызвала меня из очереди и попросила, чтоб я ей выкупила хлеб, так как она стояла далеко, а я ближе, у нее тоже были три карточки — две детские и иждивенческая, как у меня. Сделать это надо было одним весом, так как два веса в одни руки не давали. Я согласилась, выкупила, хлеб разделили пополам. Потом мы разговорились. Она жила тоже на 14-й линии Васильевского острова, муж у
убрать рекламу
нее тоже был на фронте. Она сказала, что у нее есть еще дрова (а у меня уже не было), и предложила к ней переехать. Я согласилась и в этот же день перетащила ребят и необходимые вещи. Она была очень нетерпеливая и, когда получала хлеб, сразу его съедала. А я делила на три части, чтобы есть его утром, днем и вечером. В столовую за обедом мы ходили вместе, а за хлебом по очереди. День она, день я. Один раз я схватилась к вечеру, смотрю, моего хлеба нет. Хлеб я свой клала в маленький портфельчик и высоко его вешала над диваном, на котором мы спали все трое. Толя достать не мог. А вешала я его туда, потому что крысы где угодно могли его найти и съесть. Я спросила: зачем ты взяла мой хлеб? Она отказалась.
Вскоре один ее ребенок — девочка — умер.[38] В конце января месяца, 27-го числа, до сих пор помню это число. Женя, так ее звали, пошла за хлебом, а я осталась с детьми и на железной печке, которую мы купили в обмен на хлеб, кипятила воду. Часа через два она приходит и говорит, что потеряла мои карточки. Я даже побледнела от расстройства и говорю: так как же мы теперь будем делить хлеб? А она сказала, что никак. Ты меня прости, говорит, но из-за тебя умирать я не собираюсь. У меня, правда, осталась одна детская, так как мы хлеб брали вперед и я оставила на 31 января хоть одну карточку. Я говорю: «Дай мне хоть одну. Ведь это же нечестно, что ты будешь жить на три вдвоем, а я на одной втроем». Она отказалась. Тогда я сказала, что ухожу от нее. Она: «Ну и уходи!» И вот я снова перетащила ребят и свои вещи в свою холодную комнатушку, узкую как гроб. В квартире никого не было. Роза, как я уехала к этой женщине, тоже куда-то ушла. В комнате у нас был невыносимый холод. На стенках иней, на подоконнике снег. Боже, думала я, как жить в таком холоде, да еще пять дней почти без хлеба. Я вошла в комнату к бывшей профессорше, взяла у нее два стула, сломала их и затопила печку. Потом побежала в подвал и нагребла еще немного угля. Сбегала в столовую за обедом. Ночью я не могла уснуть. Тяжелые мысли о смерти меня преследовали. Я чуть с ума не сошла от дум и горя. Пять дней без хлеба. Когда и так его не хватает. Я встала и бросилась на колени и стала молиться, молиться со слезами. Иконы не было, да я и не знала ни одной молитвы. Дети мои были некрещеные, да и сама я не верила в бога. Правда, во время тревоги я иногда мысленно шептала: «Господи, спаси, не дай погибнуть». Но в этот раз я к богу обращалась с другой просьбой и с другими словами. Я горячо шептала: «Господи, ты видишь, как я страдаю, как голодна и как голодны мои маленькие дети. Нет больше сил. Господи, я прошу, пошли нам смерть, только чтоб мы умерли сразу все. Я не могу больше жить. Ты видишь, как я мучаюсь. Господи, пожалей ни в чем не повинных детей» — и тому подобные слова.
…На следующий день во входную дверь кто-то стал стучать. За хлебом я не пошла и была как раз дома. Я побежала и спросила кто. Мужской голос спросил, здесь, ли живет Лидия Георгиевна Охапкина. Я впустила его. Это был посланец с фронта, от мужа. Он передал Мне небольшую посылочку и письмо. Вася писал: «Милая Лида…»; прочитав только это, я заплакала и сказала: видел бы, какая стала его Лида. Дальше он писал, что посылает один килограмм манной крупы, один килограмм риса и две пачки печенья. Я почему-то читала вслух. Толик после слова «риса» жалобно пропищал: «Мама, свари кашку, только погуще». Это дословно его слова. Военный, он был лейтенант, вдруг стал громко сморкаться и вытирать слезы, которые у него показались, глядя на всех нас. Он сказал: «Это ужасно, когда так голодают дети. Мы вас вывезем, потерпите еще немного. Я расскажу вашему мужу о вас. А они, т. е. фашисты, за все заплатят. За все ваши слезы, за то, что вы так голодаете, за все».
Я только один раз сварила кашку погуще, как просил Толя, а потом опять стала экономить. Но как ни тянула, все скоро съели. Да к тому же не было дров опять и мы просто замерзали. Дома я была в пальто и валенках. Дети тоже одеты в зимних пальтишках и укрытые ватными одеялами.
Как-то пришла Роза и сказала, что в райисполкоме дают ордера на дрова. И в первую очередь тем, у кого есть дети.
Я сразу пошла, и мне дали ордер на один кубометр дров. На другой день попросили у дворника санки, и мы с Розой поехали. Дрова где-то были за Смоленским кладбищем.
Мы с большим трудом, по полену, втащили дрова на кухню. Они были метровой длины. Сразу же растопили печку. Она топилась из коридора, как раз выходила в нашу комнату и в Розину. Она еще мне дала для растопки несколько книг из профессорской библиотеки. Первый раз у нас было так тепло. Я очень устала и хотела спать. Трубу закрыла немного раньше, отдушину в комнате открыла. Мы все страшно угорели. Я проснулась оттого, что дочка заплакала. Голова трещала. Я встала, покачиваясь, и упала. Но, падая, я как-то открыла дверь. Из коридора пошел прохладный воздух. Я лежала без сознания, сколько минут — не помню. Затем как будто кто-то меня толкнул. Дети, как они? Я, шатаясь, схватила дочку, она молчала и чуть дышала. Отнесла ее на кухню, затем взяла Толика, из последних сил перетащила его и сама села возле них. Мы все чуть не умерли от угара. Толя долго был без сознания. Мы опять стали голодать, кончался уже февраль 1942 года. Посылочку мы давно уже съели. Мне Толик предлагал не раз: «Мама, — говорил он, — давай сделаем опять угар и умрем. Будет вначале больно головке, а потом и уснем». Слышать это от ребенка невыносимо. Уже который раз он мне предлагает, чтобы его или убили, или уморили угаром».
Лидия Охапкина продолжала бороться за жизнь своих детей. Она даже мысли не допускала, что имеет право выбирать, кого из детей спасти, кем пожертвовать, такой вопрос она отвергала, хотя понимала, что могла погибнуть сама и тогда погибнут оба ребенка, Что двоих детей ей не вытянуть, не отстоять. Все понимала и продолжала бороться. Материнское чувство было сильнее логики.
Е. С. Ляпин, доктор физико-математических наук, рассказывал о людях, которые теряли карточки и погибали на глазах у всех. И логически поведение окружающих было объяснимо, оправданно, так как каждый сам находился на грани смерти. Но вот подобная история с потерянными карточками произошла в Радиокомитете, о чем рассказал Георгий Пантелеймонович Макогоненко. Ольга Берггольц день, второй смотрела на невольного убийцу семьи — работника радио, потерявшего карточки, — не выдержала и отдала ему свою, хотя сама уже страдала дистрофией. То есть человек взял и отдал другому, малознакомому и даже малоинтересному ему человеку свою жизнь. Ольга Федоровна, зная жестокую реальность, никак не рассчитывала на то, что произошло потом: другие работники стали ей помогать продержаться до конца месяца. И помогли…
И это тоже правда блокады. Не отменяющая ничего другого, но всему придающая иное звучание — возвышенно-трагическое. Человек способен на многое, на очень многое, но как это горько, что жизнь снова и снова требует от него немыслимых жертв.
НА ЧТО ОПИРАЛАСЬ ДУША

Ольга Федоровна Берггольц никак не мотивировала свой поступок. Благородство не нуждается в обоснованиях. Обоснования нужны подлости, низости, даже слабость часто драпируется под необходимость, а уж всякая корысть, эгоизм и тем более бесчестье — все они убедительно красноречивы, у них множество причин, они привлекают в оправдание и психологию, и экономику, и историю.
Удивительно, как блокада срывала все драпировки, раздевала человека, беспощадно высвечивала в каждом все в нем заложенное.
Стоит продолжить рассказ Г. П. Макогоненко, активного тогда работника ленинградского Радиокомитета. Рассказ этот интересен и значителен и по тем событиям, о которых в нем говорится, и по отношению автора к происходящему.
«— Радиокомитет эпохи блокады — это сотни людей, которые своей работой обеспечивали духовную пишу города. Это учреждение, которое непрерывно работало, оно не знало остановки… Там были разные люди. Среди них был один очень хороший человек, мой старый друг, мы вместе с ним учились, человек ясного ума, честнейший, образованный, обаятельный. В нем было сочетание университетского образования с хорошей рабочей закалкой. Это рубаха-парень, это рабочий парень, и это очень тонкий философ, это изящный ум, это обаятельный человек. Он сделал очень много для ленинградского радио. Я не буду говорить более конкретно о нем только потому, что, если буду называть его реальные дела, станет известна его фамилия, а мне бы этого не хотелось. Я хочу использовать случай с ним лишь как пример того, что делала блокада, какие устраивала испытания, проверки людям. Еще и еще раз я хочу сказать, чтобы поняли вы и все, кто будет думать об этом, что это был редкостный, кристальной честности человек. Он, помимо всех прочих своих качеств, был влюблен в Ольгу Федоровну Берггольц — без какой-либо надежды. Эта любовь проявлялась в его необыкновенной нежности в отношении к ней, деликатности, в его внимании, которое так подкупало Ольгу Федоровну. И вот — роковое испытание!
Четвертого декабря сорок первого года я простился со своими товарищами, ибо рано утром пятого уезжал на ту сторону кольца по приказу Политуправления. Я простился со всеми. Но так случилось, что документы, предписывающие мне выезжать пятого, я получил только в десять часов вечера в Смольном и вернулся оттуда только в одиннадцать. А на всякий случай с Ольгой Федоровной я простился раньше. Она уже ушла (она тогда еще не жила в Доме радио). У меня срок командировки — две недели, но у меня карточки, и эти карточки нужно отдать Ольге Федоровне, потому что она последнее из своего пайка носила мужу в больницу. Но я не знал, где она. Ночевать у себя на улице Рубинштейна она не могла — там холодно, — она ходила к разным подругам. Поэтому где
убрать рекламу
ее искать, я не знал. К кому обратиться? К председателю нашего Радиокомитета Ходоренко Виктору Антоновичу? Но мне показалось, что, может, это будет не очень тактично: я, сотрудник радио, уезжаю, карточки не отдаю в коллектив, а хочу отдать «на сторону» (хотя Ольга Федоровна и сотрудничала с нами). Я решил, что лучше всего отдать их вот этому моему другу, человеку, влюбленному в нее. Кому же еще? И я ему отдал, с тем чтобы он завтра же утром передал их Ольге Федоровне (она должна была прийти сдавать свое выступление, она каждый день у нас бывала). На всякий случай я еще спросил у него: «Честное слово ты отдашь?» Он сказал: «Ну как не стыдно даже спрашивать?!»
Вернулся я через две недели. Я был в той ской дивизии, которая вела бои в месте прорыва, бои, к сожалению, безрезультатные. Это была дивизия Краснова. Когда я уезжал из дивизии — все ведь знали, что я возвращаюсь в Ленинград, — меня снабдили двумя вещевыми мешками с продовольствием: концентратами, хлебом. Правда, хлеба было мало, ибо гвардейская дивизия ела не черный хлеб, а ела калачи — пышные, высокие! Я помню такие только в детстве на Волге. Я сказал: «Братцы! Ведь я же не могу только один калач везти!» (Столько он занимал места.) «А хлеба нет. Вот калачи — пожалуйста». Пришлось мне эти калачи в лепешки превращать, тогда больше входило…
Как я возвращался — это целая история. Поразительная ситуация сама по себе. Скажу только несколько слов. Ехать озером я, признаюсь, не осмелился, хотя уже ходили машины. Поскольку я уже раз искупался, мне ужасно не хотелось это делать вторично. Тогда я поехал в летное соединение и выяснил, какие машины и откуда летят на Ленинград. Мне дали адрес. Я прибыл туда и столкнулся с поразительным явлением! Вот что такое ленинградское и всероссийское братство! Я был в помещении, которое отвели для эвакуированных семей летчиков, работающих на разных участках фронта. Эти летчики слали такие письма: «Волховский фронт. Летной части. Братцы! У меня жена (у меня отец, у меня семья) в Ленинграде. Вывезите! Адрес…» И эта воинская часть посылала самолеты в Ленинград искать людей. Часто находили трупы. Живых вывозили. И целый дом им отвели, чтобы перебрасывать потом в тыл (правда, неизвестно куда!). Они появлялись в Ленинграде как добрые духи, эти ангелы! Добирались к семье военнослужащего, даже не знавшей, где находится муж или отец, стучались в дверь, говорили: «Я за вами», — и везли на машине, потом самолетом отправляли! Это вообще удивительная страница в жизни города! Я сутки пробыл среди этих вывезенных из Ленинграда женщин, детей, стариков. Они меня спрашивали, особенно женщины: «А ты-то куда?» Я говорю: «В Ленинград». И было что-то такое пронзительное в том, как они уговаривали меня: «Куда ты, ты же молодой, зачем ты на смерть туда? Не лети ты туда!» И это с плачем, со слезами, хоть впервые видели меня. И когда я говорил, что я там был, я же оттуда, я возвращаюсь, они говорили: «Нет, ты неправду говоришь! Если бы ты видел, что там, ты бы никогда не поехал!» Но это деталь.
И вот я вернулся. И когда я прежде всего принес еду Ольге Федоровне, то в первый раз увидел что-то изменившееся в ней — не худобу (в ней не было худобы, она начинала пухнуть), но какую-то непривычную, не свойственную ей жадность к еде. Я говорю: «Оля, что с тобой? Тебе же легче было!» Она говорит: «Отчего?» — «Ну карточка, рабочая же моя карточка!» Она сказала: «Ты жестокий человек. Ты же знал, как мне трудно. Ты уехал и не отдал мне карточку». — «Как не отдал? Я отдал ему!» — «Не может быть! Он бы мне передал». — «Но я же с собой не увозил карточки! Ну вот завтра, — говорю (я приехал поздно вечером), — мы пойдем к нему и…» — «Нет, нет! — сказала она. — Ты плохо поступил, и не надо говорить гадости о таком человеке!» Я сказал: «Мы не будем спорить. Завтра поговорим».
И вот наступил этот страшный судный день нашего разговора. Он не отпирался. И в том, что он не отпирался, и в том, как он мотивировал, — вот в чем было самое страшное!.. Маленькое отступление. Он действительно был одержимым человеком в хорошем смысле. Но в нем уже тогда было то, что я называл робеспьеризмом. Я ему говорил: «Дорогой мой, это тебя к хорошему не приведет!» А идея у него была такая. Много дурного вокруг. И все дело в том, что так складываются обстоятельства, что нет возможности выявить настоящих людей и случайные попадают на нужные и важные места. Война, блокада — квинтэссенция всех трудностей, самое тягчайшее испытание. Всем будет ясно: тот, кто пройдет это испытание, должен руководить! И вот была его идея: «Я пользуюсь глубочайшим уважением интеллигенции. Я прохожу через это испытание, и — естественно, другого выхода нет — меня делают руководителем идей!» Вот почему он сказал: «Извини, родная Оля, но то, что я должен сделать, важнее. И потому я не отдал карточку. Я взвешивал, взвешивал — нет, не личное, общественное: я нужнее!»
— А талант Ольги Берггольц?
— К этому времени Ольга Федоровна еще не была тем поэтом, которым она стала потом. В это время, в декабре, она была одним из рядовых деятелей, очень хорошо выполнявших поручения Радиокомитета.
— А он был пишущий или только администратор?
— Вообще он мог писать. Но он всего себя отдавал другой цели, о которой я говорил. Ольга Федоровна ему сказала: «Я тебя понимаю, но ты глубоко ошибаешься. Ты заблуждаешься, и мне тебя жалко». Вот такой был эпизод, такой характер. А вот второй случай и второй человек, — продолжал Георгин Пантелеймонович Макогоненко. — Тот же Радиокомитет. Председатель Радиокомитета — Виктор Антонович Ходоренко. Это человек для меня поначалу необычного, неожиданного склада. Была в нем какая-то солдатская, офицерская повадка (хотя он никогда не служил в армии): такая в нем была собранность, решительность, необыкновенная оперативность, мгновенность реакции. Но больше всего он меня покорил своей сердечностью, пониманием людей, доверием. Он много доброго, хорошего сделал для Радиокомитета, а значит, для радиовещания, а значит, для того, чтобы ленинградцы слушали и поистине чувствовали этот пульс радиовещания. Но я хочу сказать не столько о нем, сколько о моменте испытания его характера. Где-то в ноябре — не сразу, а только в ноябре — он был причислен соответствующими организациями к числу работников, наверное, среднего звена, которые питались в Смольном, в столовой номер двенадцать. Питание было там трехразовое. Ну, ходить три раза он не мог — и работа не позволяла, да и сил не было, а ездить было не на чем. Он ходил туда один раз, сам безумно отощавший к тому времени, ибо был на общем пайке. Наверное, дня три он все съедал, что там давали. И затем — испытание! Я помню, как он пришел в десять часов, вызвал меня и этого моего товарища и сказал: «Положение такое: я хожу туда, меня кормят, вот такое меню. Я не могу все это есть сам, не считаю возможным, тем более что я могу там есть хлеб. Мне запретили (это предупреждение всем!) выносить хлеб, но эти вещи можно». Вынимает из портфеля завернутые два куска сахара, две котлеты, гарнир, пирожок. «Вот у меня есть предложение: от себя лично давать — это унизительно. Вы руководите отделом. Давайте составим список, я каждый день буду что-то приносить, и мы будем выдавать одному сахар, другому то, третьему другое».
— А семья у него была?
Кто-то был, но это не мешало ему… Думаю, что и чисто практически, материально, если представить себе наш паек (до весны большинство работников не имели даже рабочей карточки, а имели служащие, а это сто пятьдесят, а потом и сто двадцать пять граммов хлеба), получить в неделю кусок сахара, или котлетку, или две ложки хорошей каши — это такая помощь для организма, что ни с чем сравнить нельзя. Но какое огромное значение это имело нравственно, трудно даже передать!»
Русские понятия «интеллигент», «интеллигентность» определить трудно, толкования этих слов всегда кажутся неточными, неполными. Так же как понятие «порядочность»; оно вроде бы и изменчиво, и в то же время совершенно исторически определенно, оно узнаваемо, то есть всегда, если сказать: он порядочный человек, — то все довольно точно понимают, что за этим стоит. Интеллигентность тоже безошибочно различима. В блокаду она проявлялась по-разному, но в дневниках и воспоминаниях ее можно было распознать по особому свету мысли, духовной работы, по совестливости, по тому, наконец, как личность с помощью всего этого отстаивает себя в борьбе с голодом, отчаянием.
Александр Григорьевич Дымов, режиссер театральной студии при Дворце культуры, в самое безнадежное время заставлял себя думать, вглядываться, осмысливать.
«12 января, 12 часов дня. Мороз усилился, в комнате стужа. Мила ушла в магазин, надеется получить что-нибудь по карточкам, давно ничего не получали. Больно на нее смотреть, так она похудела, бедная.
Чувствую себя плохо. Вещество из подозрительной смеси, которую употребляю я под псевдонимом «хлеб», желудок мой категорически отказывается переваривать.
Люди иногда улыбаются. И тогда становятся необычными их лица: улыбки их приобрели новый и странный ракурс, туго обтягивая кожей кости лица. Кстати, об улыбке. Чудесная вещь — юмор. Его осталось мало. Как и смех, он отпускается скупо, как другие продукты — по карточкам. Но он существует еще. Вчера в столовой пожилая женщина сказала официантке, подавая крупяной талон: «Вот вам крупозный талон». И много сидевших неподалеку от нее людей беззвучно заулыбались. Несколько месяцев назад у них получился бы смех, вероятно, громкий, в разной тональности. Теперь смех их беззвучен и так же скуп, как пища, которую едят эти люди: в микроскопической дозе.
У всех мечта: эвакуироваться. Уехать из Ленинграда. Куда угодно, только бы получить кусок настоящего хлеба. Эвакуация давно прекращена: нет пути, по которому можно увозить людей, — но люди сладко мечтают об этом, сидя во тьме своих морозных комнат, шагая пошатывающейся походкой по мертвым, заснеженным улицам города, стоя в очередях у пустых полок магазинов, на работе, в столовых.
Удивительная вещь — чувство го
убрать рекламу
лода. К нему можно привыкнуть, как привыкают к хронической головной боли. С тупой покорностью по двое суток я ожидаю кусочка клейкого хлеба, не ощущая жгучего голода. Это значит, что болезнь (т. е. голод) перешла из острой в хроническую форму.
…Темно. Не выдержал — вытащил заветный огарок свечи, спрятанный на крайний случай. Темнота угнетает ужасно. Мила дремлет на диване. Она улыбается во сне, вероятно, ей снится бутерброд с полтавской колбасой или перловый суп. Она каждую ночь видит вкусные сны, поэтому пробуждение для нее особенно мучительно.
…Во всей квартире страшный мороз, все замерзло, выходить в коридор — значит надевать пальто, калоши, шапку. Мерзость запустения. Водопровод умер, воду надо носить за три версты. Канализация — в далеком прошлом: весь двор полон нечистотами. Это какой-то другой город — не Ленинград, всегда гордый своим европейским, щеголеватым видом. Он напоминает сейчас человека, которого вы всю жизнь привыкли видеть в шикарном коверкотовом пальто, в свежих перчатках, в чистом воротничке, в добротных американских ботинках. И вдруг вы встречаете этого человека в совершенно другом облике: рваного и загаженного, небритого, с дурным запахом изо рта, в опорках вместо ботинок, с грязной шеей.
…Во вчерашнем номере «Ленинградской правды» помещена беседа председателя Ленсовета т. Попкова «О продовольственном положении Ленинграда». После призыва граждан к мужеству и терпению т. Попков говорит о фактах воровства и злоупотреблений в системе продовольственного снабжения Ленинграда.
…Огарок почти догорел. Сейчас погружусь во тьму — до утра…
17 января. Старость. Старость — это усталость изношенных деталей человеческой машины, истощение внутренних ресурсов. Не греет кровь, не ходят ноги, не гнется спина, слабеет мозг, тускнеет память. Ритм старости — медлительный, как ритм горения почти догоревших дров в печи: все тише и бледнее пламя, вот рассыпалось на золотые куски одно полено, другое — и вот уже последние синие огоньки: скоро закрывать трубу.
Сейчас все мы старики. Независимо от возраста. Наши тела и чувства живут ритмом старости… Я видел вчера на рынке девочку лет девяти в огромных дырявых валенках. Она меняла кусок подозрительного студня, — вероятно, собачьего — на 100 граммов хлеба. У нее были смертельно усталые глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, согнутая спина, медленная, шаркающая походка, морщинистое, с опущенными углами рта лицо. Лицо усталой пожилой женщины. Разве можно это забыть когда-нибудь? Разве можно это простить?..
…То, что я записываю, — жвачка. Тяжелая и однообразная. Но для меня эти записи — отдушина, вентилятор для растущего в душе отчаяния, для томительных дней голода. Хотел записывать только простые, суровые факты, но не вышло. Сие от меня не зависит. Чем убить время, отвлечь себя от страшной повседневности?..
23 января, 11 часов утра. Медленно, тяжело, как истощенные люди в гору, ползут дни. Однообразные, замкнутые в себе, больные для замолкшего города. Сердце Ленинграда, заведовавшее его кровообращением, дававшее ему жизнь — электростанции, перестало работать, остановилось. И все члены огромного тела города похолодели, омертвели, стали неподвижными. Не горит свет, не ходят трамваи и троллейбусы, не работают фабрики, кино, театры. В пустых магазинах, аптеках, столовых, где с осени забиты досками окна (от осколков снарядов), кромешная тьма. Лишь слабеньким, чахоточным огоньком мерцает на прилавке коптилка… Над улицами застыли трамвайньк и троллейбусные кабели, радиопровода, густо заросшие снегом. Они висят над головой сплошной белой сетью и не осыпаются, потому что их ничто не заставляет осыпаться…
Остановилось сердце великого города. Но мы знаем — это не смерть, а летаргический сон. Придет час — и побуженный в летаргию великан сначала слегка вздохнет, потом очнется…»
Бросается в глаза литературная отточенность записей Дымова. Как будто он впоследствии тщательно обрабатывал их. Местами дневник похож на рассказ, написанный много лет спустя. Мы проверили это у вдовы покойного — Людмилы Владимировны Шенгелидзе. Оказалось, что дневник подлинный, без поправок и переделок. Именно так писал Александр Дымов при свете коптилки зимой 1942 года, пока его не увезли в больницу. Мы, очевидно, встретились с тем редким в блокадных условиях случаем, когда автор осознанно стремился к художественности, он подбирал краски, сравнения, оттачивал фразы. Этим он занимал себя, сохранял свою духовность, питал ее. Работа духа у каждого проявлялась по-своему: в дневниках Князева — через историю, философию, у Рябинкина — через самоанализ, у Дымова — через литературное творчество.
«24 января, 12 ч. дня. Сегодня день радости. Радиосводка сообщила веселым голосом диктора, что войска отбили Ржев, Холм, Старую Руссу. Может было это сообщение поддержит сломленный дух Милы. Она теряет способность бороться — это самое скверное. Мне тяжело смотреть на нее — молчаливую, прозрачно-бледную, смотреть в ее смертельно усталые глаза…
25 января, 11 ч. утра. Первобытная жизнь. Без воды, без света, без тепла. Блокада, как фантастическая Машина Времени, отбросила нас далеко назад: к началу 18 века — в смысле уровня культуры. Но ведь в начале 18 столетия было несравненно лучше. Жители Санкт-Петербурга не знали центрального парового отопления, но у них было много дров — и они жарко топили свои патриархальные изразцовые печи. Жители Санкт-Петербурга не знали, что такое электрическое освещение. Но — у них ярко горели в горницах масляные плошки и были в избытке сальные толстые свечи. У нас — нет ни электричества, ни масла, ни свечей. Петровский «Питербурх» не имел водопровода, но в каждом квартале были колодцы, были оборудованы водоемы и проруби на Неве, Фонтанке, Мойке. Воды хватало всем. Мы же забыли, что такое водопровод, но у нас нет и колодцев, нет водоемов, нет коромысел. Сотни людей уныло стоят в длинной очереди за водой с кувшинами, чайниками у какого-нибудь крана в уцелевшей прачечной за три квартала от дома. Стоят часами.
Жители Петербурга 200 лет назад понятия не имели о трамвае и троллейбусе. Но у них были лошади, сани, возки, теплые куньи и лисьи шубы. Город был мал — и пройти его вдоль и поперек тепло одетому человеку было нетрудно.
Мы забыли, что такое трамвай и троллейбус, а об извозчиках забыли 15 лет назад. Но у нас нет ни лошадей, ни саней, ни возков. Мы плохо одеты. Мы голодны, но вынуждены ходить пешком огромные расстояния: город за 200 лет вырос неузнаваемо и средний его диаметр — 30 километров.
25 января, 8 ч. вечера. Черт его знает до какой степени повысилось значение в эти дни такого до сих пор скромного, малоуважаемого органа, как обыкновенный человеческий желудок. Вследствие безработицы и частых простоев из-за отсутствия сырья этот пищеварительный орган взял на себя не свойственные ему функции: все мысли и чувства выходят под его редакцией. Во всяком случае, качество чувств и мыслей сейчас у меня явно желудочного происхождения. И не только у меня. Действительно, грубое вмешательство желудка в мою интеллектуально-чувственную сферу я ощущаю постоянно. Я не желаю его опеки. Ведь кроме пищеварения существуют мировая литература, философия, искусство, техническое изобретательство. Берешь книгу. Перелистываешь страницу. Роман. «Брайтон равнодушным жестом пригласил их к столу. На белом пятне скатерти…» Нет, дальше читать мне запрещено. Противопоказано. Это случай прямого воздействия идеологической надстройки (литература) на базис (желудка). Берешь другую книгу. «Твое поведение, моя милая, дает пищу для всевозможных толков…» Дальше читать нельзя. «Пищу!» Многоуважаемый редактор моих ощущений (мой желудок) немедленно направил их по пути съедобных ассоциаций, хотя в книге слово «пища» употреблено как явная метафора. «Меня пожирает тоска» — написано на 35-й странице. Это тоже метафора. Но моему неумному редактору нет никакого дела до этого. Ему важно вызвать в моем представлении пожирание жирных кусков жареного мяса. Может быть, с давно забытой румяной картошкой. Это — случаи ассоциативного воздействия надстройки на базис.
«Многоуважаемый гражданин редактор! Товарищ Желудок! Я слаб и немощен. Я с великим трудом передвигаю ноги, и лицо мое давно разучилось улыбаться. Я голоден давно, застарелым, хроническим, как ревматизм, голодом. Но я борюсь, чтобы не упасть, потому что упавшего очень скоро затопчет смерть. Я держусь пока и даже пишу записки — «Записки из мертвого города». Все это так. Но я не разучился еще мыслить, читать книги, я хочу пофилософствовать. Вы мешаете мне, гражданин редактор, заниматься всем этим. Я ежеминутно ощущаю вашу власть, ваш гнет, ваше вмешательство в мои внутренние дела. Давайте будем друзьями, не надо меня мучить. Вы хотите, чтобы я смотрел на все окружающее вашими глазами. Вы на этом настаиваете. И в большинстве случаев вам это удается. Но это ненормально, я протестую, я требую, чтобы вы снова работали по своей основной специальности, освободив от своей опеки и прямого влияния сферы, вам недоступные. Я хочу читать книги и воспринимать их содержание так же, как прежде, а не в вашей интерпретации и не с вашей узкотенденциозной точки зрения. Я хочу думать не только о жратве, а о многом другом, не имеющем к ней никакого отношения. Я хочу мечтать о будущем. Прекрасном будущем. Но прекрасном не потому, что оно доверху переполнено картошкой, хлебом и подсолнечным маслом. Вы понимаете — я хочу быть человеком. Не мешайте мне в этом. Поверьте, и вам будет легче. Иначе и вам и мне будет стыдно за эти дни.
Откажитесь от своей роли диктатора. Делайте добросовестно свое скромное дело, отдыхайте — ведь у вас сейчас так мало работы. Будьте же здоровы. Примите мое искреннее уважение. Ваш покорный слуга А. Дымов».
Много болтаю. Это скверно. Но так хочется заполнить чем-нибудь зияющую пустоту бесконечных вечеров.
Сейчас тоже вечер. Такой же, как и десятки других, — ледяной, молчаливый, медленный. За окном тьма и стужа. Гремят дальнобойные орудия — враг не забыл о нас. Блокада. Передо мной —
убрать рекламу
крохотная коптилка, она дает мне иногда возможность писать, иногда не хочет гореть и, подергав хитрым желтеньким глазком фитиля, гаснет. Тогда я погружаюсь во тьму».
Надо было обладать глубоким чувством юмора, самоиронии, чтобы в таком критическом состоянии сочинить это обращение к своему желудку. Чувство юмора в ту пору сохранялось редко, правильнее, пожалуй, считать, что у Дымова был безусловный талант юмора. Как в каждой трагедии, в блокадном Ленинграде то и дело возникали ситуации смешные, их просто не замечали, не отмечали и только потом иногда, задним числом, понимали. Так, один майор ПВО, демобилизованный по ранению, рассказывал о своей женитьбе:
«Взял я ее из мартовского блокадного Ленинграда старушкой — серой, сухонькой, скрюченной. Еле ходила. Кости, обтянутые кожей. Взял с собой на Большую землю. А там через полгода она окрепла, выправилась, стала месяц за месяцем молодеть. Глаза заблестели, поднялись из впадин, волосы тоже ожили, погустели. Кожа натянулась. Потом и румянец появился. Помолодела. Превратилась из старухи в приятную женщину и чем дальше, тем больше все молодела, превратилась в девушку такую молодую и красивую, что мне стало неудобно на ней жениться».
Остатки давнего смущения кое-где еще сквозили в его рассказе, но все это давно превратилось в занятную историю, анекдот, который он рассказывал со смехом…
КРУГ СУЖАЕТСЯ

С начала декабря Юра Рябинкин перестает встречаться с друзьями, нет уже ни сил, ни возможностей для общения, в школу, конечно, он тоже не ходит, да и наверняка она закрыта, остается семья — мама с Ирой — и соседи по квартире. И он, слабея, временами соскальзывая в полубредовое состояние, устремляет свое пытливое внимание на этих людей. Мир сузился, но все равно он бесконечно интересен для него в любой своей малости, каждый человек — вселенная, каждый человек — загадка, тайна, достойная размышления. Все настойчивей пробует он вникнуть в характер Анфисы Николаевны, понять его. Стоит матери заболеть — и все претензии к ней отпадают, юношеский эгоизм отбрасывается, чтобы вновь проявиться спустя день, два. Но в эти «отливы» как бы обнажается основная порода Юры Рябинкина: совестливость, требовательность к себе и, что более всего поражает, отчаянная борьба его души за то, чтобы сохранить себя, не поддаться, устоять… Для этого он хочет понять — кто же он, какой он?
«2 декабря. Что за пытку устраивают мне по вечерам мама с Ирой?.. За столом Ира ест нарочито долго, чтобы не только достигнуть удовольствия от еды, но еще для того, чтобы чувствовать, что она вот ест, а остальные, кто уже съел, сидят и смотрят на нее голодными базами. Мама съедает всегда первой и затем понемножку берет у каждого из нас. При дележке хлеба Ира поднимает слезы, если мой кусочек на полграмма весит больше ее. Ира всегда с мамой. Я с мамой бываю лишь вечером и вижусь утром. Быть может, и поэтому Ира всегда правая сторона… Я, по всей видимости, эгоист, как мне и говорила мама. Но я помню, как был дружен с Вовкой Шмайловым, как тогда я не разбирался, что его, а что мое, и как тогда мама, на этот раз мама сама, была эгоисткой. Она не давала Вовке книг, которых у меня было по две, и т. д. Почему же с тех пор она хотела так направить мой характер? И сейчас еще не поздно его переломить…
Я раньше должен был съесть 2 или 3 обеда в столовках за день плюс еще сытный ужин да завтрак, да так, подзакусить, чтобы быть сытым день. А сейчас я удовлетворяюсь 100 г. печенья утром, ничем днем и вечером тарелкой супа или похлебки. Кроме того, вода. Вода под названием чай, кофе, суп, просто вода. Вот мое меню.
А насчет эвакуации опять все заглохло. Почти. Мама боится уже ехать. «Приедешь, — говорит она, — в незнакомый край…» — и т. д. и т. п.».
Эвакуация! Слово это повторяли не только Рябинкины. Тысячи семей стремились уехать, старались попасть в первые эшелоны отъезжающих, чтобы спастись от голода. Сами добивались, хлопотали. Но были и другие, которым надо было сказать — эвакуируйтесь! Надо было выявить тех, кто нуждался в этом срочно, немедленно. Кроме того, что делалось по устройству «Дороги жизни», райкомы проводили еще малоизвестную, но огромную работу внутри города: коммунисты обходили за домом, квартиру за квартирой.
«Я была внештатным инструктором Выборгского райкома, — рассказывает Екатерина Павловна Янишевская, — и с уполномоченным Воробьевым помогала зимой 1942 года эвакуировать людей на Финской улице. Пришли в один дом вместе с дворником. Темно. В одном углу тусклое пламя коптилки. Лежит гражданка. Осветила ее бледное лицо. Она молчала, смотрела без жизненными глазами, махнула рукой в угол. Там лежала девочка. Как скелет. Обессиленная. У Воробьева было с собой немного спирта. Дали несколько капель. Эти капли сразу же согрели. Обе ожили, повеселели. Глаза вспыхнули. Их, конечно, везти эвакуировать было нельзя. Отправили в спецбольницу… Когда в апреле «Дорога жизни» перестала работать, меня вызвали в райком и предложили поехать директором подсобного хозяйства в Коломяги и провести там сев».
А дела у Юры Рябинкина все хуже.
«3 декабря. Заболела мама. Сегодня она не вышла и на работу. Температура, ломит кости, тяжесть в ногах… Не водянка ли? И так тяжело, а… Больше ничего не могу писать. Такое упадочное настроение. Сижу в кухне, трещат дрова в печке, а на сундуке рядом лежит больная мать… Боже мой!
По сводке Тихвин взят немцами. Севастополь продолжает обороняться.
Мама больна, Ира — ребенок, от Тины ничего нет, неизвестен и ее адрес, я изнемогаю, изнурен, еле держусь на ногах… Что-то будет дальше?..
4 декабря. Весь день в работе. Встал рано, обегал булочные, достал сахарного печенья, затем ходил на ул. Правды в поликлинику, хотел вызвать врача для мамы — не тот участок, к которому мы принадлежим. Пришлось съездить еще на пер. Матянина, в другую поликлинику. Затем опять очередь, колка дров, страдания.
Мама уволена из обкома (в связи с ожидавшейся эвакуацией. — А. А., Д. Г.). Насчет ее эвакуации и теплой одежды (…). Лежит больная. Врач, приходивший к ней, нашел у мамы грипп, сердечную слабость, откуда опухоль на ногах, боли в боках и т. д. Лечение — питание. А его нет. Итак, мама слегла, у нее тяжелая болезнь, она лишена работы; возможно, что эвакуация пешком будет, но маме с ее опухшими ногами и болезнью, Ире с ее малой силой, мне со всеми остальными заботами о них и о себе, людям с 60-килограммовым, если не больше, багажом, не пройти далекого трехсоткилометрового снежного пути, не пробыть месяца в дороге… И вот финиш всей нашей жизни: замерзшие в дороге и оставшиеся больными в какой-нибудь захолустной больнице или истощенные ежедневным голодом, опухшие, еле влачащие свое ставшее жалким существование…
Вот и все, что сегодня я могу сказать, вернее, смог написать. Остаюсь равнодушен к вестям на фронте, удачные они или нет, безразличен ко всем событиям в политике. Что делается вокруг нас здесь, в квартире? Соседи 6 декабря улетают, 5 и б улетают Тураносовы, а днях эвакуируется с семьей Громов, выезжает в Ташкент семья Кацуры… А мама больна, ей необходимо питание, которого негде взять, необходим покой, я изнурен, истощен, Ира измучена также. Что делать?
5 декабря. Мама права, надо верить всегда в лучшее. Сейчас надо верить, что мы эвакуируемся. Так должно быть. И будет. Хотя мама еле ходит — она поправится, хотя Ира жалуется на боли в левом боку — пройдет! Хотя я и мама не обуты, у нас нет валенок и теплых вещей — мы вырвемся из этого голодного плена — Ленинграда. Но сейчас уже вечер, идет тревога, бьют зенитки, рвутся бомбы… Разыгрывается жутчайшая лотерея, где выигрыш для человека — жизнь, а проигрыш — смерть. Такова жизнь. И. завтра не уезжают. Они уедут на днях. Счастливые люди…
Голод. Жестокий голод!
Понемногу, мало-помалу передо мной встает образ Анфисы Николаевны. Из ее ссор с мужем, во время которых оба раскрывают часть своей жизни, из разговоров с ними, а теперь из глубины души исходившего горестного рассказа И. несколько встал из тумана передо мной этот образ.
Анфисе Николаевне 27 лет. 14-ти лет она уже любила, вернее, была любовницей какого-то грубого человека, который силой и грубостью приучил ее еще тогда к алкоголю. С тех пор она уже не могла оторваться от вина, водки и т. д. С ней были горячки, она валялась пьяная под забором… Но она была дьявольски красива и обворожительна в трезвом виде. Такой, по всей видимости, встречает ее И. Он бросает для нее свою прежнюю жену и дочь, получая письмо, в котором она умоляет его под влиянием какого-то обновления «вырвать ее из этой грязной ямы», жениться на ней. И вот жизнь для нее наступает новая. Муж получает 2000 в месяц, жена тратит по 40 р. в день. Езда по санаториям, всевозможные попытки отучить жену от пьянства, ссоры из-за денег… И. сам по себе человек немного неуравновешенный, когда-то он был даже в психиатрической больнице. А жена часто оставляла его перед зарплатой совершенно без денег, пропивая их. Но вместе с тем Анфиса несомненно человек, который в трезвом виде изумителен по характеру. Возможно, что это, конечно, притворство, но все-таки… Во всяком случае, Анфиса Николаевна — это очень трудный по раскрытию характера человек.
6 декабря. Одиннадцать часов утра. И. не уехали. Отъезд их отложили на 2–3 дня. Мама с Ирой отправились в обком. Маме теперь нужно хлопотать о многом. Разрешение на выезд, вылет на самолете или присоединение к партии И., теплая одежда для мамы и бурки мне, приделать замок на дверь. Но у мамы уже совсем мало энергии. Для энергии нужна еда. Еда прежде всего. Она — источник единственный энергии в организме.
Конечный пункт эвакуации у мамы намечен. Это Барнаул, его окрестности. Все дело лишь сводится вообще-то к двум вещам: как ехать и в чем ехать. Тураносов
убрать рекламу
а должна была вылететь сегодня утром. Ответ из Смольного, наверное, еще не получен. Это плохо. Хорошо бы, если б нас приписали к группе И.
Маме еще предстоят две трудности. Первая — это обеспечить финансовое наше положение за счет обкома и продажи некоторых вещей, а вторая — договориться насчет увольнения, что гораздо проще.
Итак, задержка из-за теплых вещей — раз и из-за способа эвакуации — два.
Но еще главный вопрос — это еда. Без нее нам не двинуть ног… Мы можем продержаться лишь до числа 13,14, не позже, или до числа 9, 10…
Анфиса Николаевна дала нам вчера граммов 300 гороха, думая, что сегодня уедет. Вот дала бы граммов 800–900!
Мне предстоят еще очень большие трудности. Очиститься от вшей, сходить в баню, в парикмахерскую, убрать книги, достать дрова, выкупить продукты, свести концы со школой. Чувствую, что уже очень недолго осталось мне до того дня, когда я надорвусь и слягу. Но если я слягу, то уж слягу.
Вчера газет не читал, ничего не знаю, не ведаю о событиях. На нашем-то Ленинградском фронте дела плохи, это-то и я хорошо знаю. Даже слышал вчера в какой-то очереди, что запрещена пешая эвакуация, которая производилась по льду Ладожского озера. Людям давали белые маскировочные халаты, и они проходили в них сквозь пургу, по льду, без остановки, без еды 80 километров. Многие не выдерживали и погибали.
Известна песенка: «Кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет». Попробую ей следовать.
От Тины нам, разумеется, помощи никакой ждать нечего. Ей есть теперь куда тратить свою зарплату. Самый счастливый из нашей семьи человек. В последнем письме из Кирова она писала, что состояние у нее удовлетворительное. А два или три месяца назад в письме из Бокситогорска жаловалась на недостачу сладкого. Значит, сейчас насчет еды у нее все в порядке. Выбор всех лакомств перед нею, на хлеб и внимания не обращает. А думает ли она о нас? Думает ли? И как думает? Знает ли о голоде в Ленинграде, о бомбежке, артобстрелах? А то, быть может, предалась чревоугодию сейчас?.. Все возможно. Я так оголодал, что не могу заставить себя поделиться крошкой хлеба с мамой. Просто больно, так тяжело за сегодняшнее утро у меня на душе, и я знаю, что так и впредь будет, если я не остановлю себя сейчас… Но как остановить. Больно, больно…»
Вот и любимице семьи, тетке Тине, досталось от бедного, мечущегося в голодной безнадежности Юры! Он и сам знает, что несправедлив. Не могла она «забыть» про то, как им плохо, не похоже это на нее. Тетка Тина всегда им помогала, Юре было даже неловко (судя по прежним записям), что они так широко пользовались щедростью и добротой тетки. (А нам известно и то, чего Юра уже не узнал: как эта женщина после войны отыскала в далеком детском доме под Вологдой осиротевшую Иру, привезла в Ленинград, заменила ей родителей, выучила ее.)
Но сейчас Юре так плохо, так плохо, и все вокруг ему кажутся (и он сам себе тоже) такими эгоистами, что ему не хочется делать исключение и для далекой Тины. О ней он пишет даже слова особенно обидные («предалась чревоугодию»), потому что и надежда на нее была особенная, даже, может быть, единственная… И еще: мать больна, а Юра не в силах («…не могу заставить себя») поделиться с ней крошкой хлеба. И он ищет, кого еще — но сытого, но благополучного — уличить в этом же грехе. И находит любимую тетку!..
Есть, конечно, страдания, которые смягчают душу, помогают видеть чужое горе, более того, понять его, отозваться ему, на что ранее упоенный своим благополучием человек не способен был. Но есть страдания иные, ожесточающие: за что, почему я должен их нести, почему другие не несут, а я (или мы) мучаемся? Подобные вопросы восстанавливают против других людей, а не против зла.
Сколько обвинений возводил Юра на соседку Анфису Николаевну. Но стоит вдуматься в факты, отбросив Юрины эмоции, — и оказывается, что Анфиса делится с Рябинкиными едой, подкармливает мальчика, несмотря на его колкости, до поры до времени не хочет замечать, как он таскает еду из кастрюли.
Время от времени Юра старается восстановить справедливость, признает доброту и даже щедрость этой женщины, интересуется ее судьбой. Видимо, и она рассказывает о себе достаточно самокритично… Стараясь понять Юру, мы не можем не заметить, как порой под дается душа его темному и жесткому.
«7 декабря. Вчера произошло несколько интересных событий. Мама незаконным образом, договорившись с Громовым, взяла служащую карточку Сухарева, которого отчислили из списков обкома. Вчера мы купили по этой карточке 200 г. макарон, 350 г. конфет и 125 г. хлеба. Все это, за исключением макарон, вчера и съели. Маме еще дали записку к председателю райсовета об отпуске ей жмыхов. Ну да из этого-то ничего не выйдет. Тураносова обещала сегодня приготовить для мамы старые валенки, но я не смог за ними утром сходить — такой сильный мороз. Вчера еще заходила без мамы Бушуева, собирается завтра эвакуироваться пешком, обещала зайти сегодня к 6 вечера.
Эта декада будет решающей для нашей судьбы… Главнейшие задачи, которые следует разрешить, это в чем ехать и с кем ехать. Эх, если бы я хоть раза два подряд покушал досыта! А то откуда мне взять энергию и силу для всех тех трудностей, что предстоят впереди… Мама опять больна. Сегодня спала всего-навсего три часа, с трех до шести утра. Мне просто было бы необходимо сейчас съездить к Тураносовой за обещанной теплой одеждой. Но такой мороз на улице, такая усталость в теле, что я боюсь даже выйти из дома.
Начал вести я дневник в начале лета, а уже зима. Ну разве я ожидал, что из моего дневника выйдет что-либо подобное?
А я начинаю поднакоплять деньжонки. Сейчас уже обладаю 56 рублями наличности, о наличии которых у меня ведаю один лишь я. Плита затухла, и в кухне мало-помалу воцаряется холод. Надо надевать пальто, чтобы не замерзнуть. А еще хочу ехать в Сибирь! Но я чувствую, что дай мне поесть — и с меня сойдет вся меланхолия, все уныние, слетит усталость, развяжется язык и я стану человеком, а не подобием его…
Каждый вечер к нам приходит Игорь, брат Анфисы Николаевны. Анфиса Николаевна его тут кормит как на убой, отдала ему весь запас сухарей. Теперь, если она куда-нибудь поедет, так нам ровным счетом ничего не оставит. Может быть, еще оставит пропуск получать по пол-литра молока каждый день в тубдиспансере за себя у Клинского рынка, месте, которое каждый день подвергается обстрелу, так что идти туда не только далеко, но и опасно для жизни.
Сейчас я похудел примерно килограммов на 10–15, не больше. Быть может, еще меньше, но тогда ужа за счет чрезмерного потребления воды. Когда-то раньше мне хватало полтора стакана чая утром, но сейчас не хватает шести.
8 декабря. А сегодня… сегодня я потерял карточку на масло Сухарева, ту самую, которую мама нелегально себе присвоила на первую декаду. И вот… что теперь делать? Боюсь, смертельно боюсь, что вся эта история с присвоением карточки Сухарева всплывет, и тогда… Жизнь моя обрушится, так же как и жизни мамы и Иры… Я ее потерял — точно знаю — в столовке треста. Быть может, оставил в руках у буфетчицы. Только бы дела не пошло дальше… Только бы… Не знаю, говорить ли с мамой на эту тему. Если у мамы хорошее будет настроение — это малоочевидно, — то поговорю, если нет — об утере умолчу.
Боль, жестокая боль во мне от этой карточки!.. Больше ни о чем не могу и думать.
И еще финал (возможный. — А. А., Д. Г.): карточка оказывается потерянной дома и ее находит Анфиса Николаевна. У нее становится ясный вопрос: как к нам (больше не к кому) могла попасть эта карточка? Обращает внимание на печать — обком союза!.. А эта печать хранилась до последних чисел у мамы. Доводит обо всем до сведения Николая Матвеевича, тот дознается, кто такой Сухарев, — и вот мама идет в трибунал, а там изгнание из партии, расстрел и т. п.
Сейчас три часа дня, а мама ушла на работу в пять утра. Чем-то она занята? Неужели ни на шаг день не подвинет к нам эвакуацию? Ехать, ехать, ехать! Насущный вопрос. Теплая одежда, без теплой одежды никуда не выедешь.
9 декабря. Карточка нашлась у мамы. Я по ней вчера выкупил 200 г. сметаны. Вчера и съели. Да, сегодня еще вот подъели вчерашние 100 г. жира, да дай бог, чтобы 15 г. осталось.
Вчера мама достала и принесла два ватника и теплых штанов. Очередь за валенками.
С самолетом вопрос не решен. Но я имею надежду, что мы полетим. Правда, вот И. с женой отказали в вылете, но Кацуре, жене, разрешили лететь до самой Вологды. Во всяком случае, это дело весьма спорное. Одно время отправка производилась, но сейчас, как мне сказал И., дело замолкло. Списки эвакуируемых резко сокращааются, желающих эвакуироваться — почти все, кому ни скажешь, так что дело становится серьезнее, чем раньше. По словам И., раньше эвакуировали на грузовиках-трехтонках, а теперь идут только полуторатонки».
За «Дорогу жизни» кипело сражение и на Волховском фронте и на Ленинградском, за нее бились зенитчики, и водители, и железнодорожники, никто не жалел себя.
Саму ладожскую трассу все время бомбили, машины гибли, горели, уходили под лед, опускались в воду, и оттуда, из глубины, еще светили зажженные фары, пока мороз не затягивал полынью. Сто с лишним машин потеряно было за эти дни. Беды ледовой трассы происходили не только от нехватки водителей, ремонтников, от плохого льда, от организационной неурядицы. Шла война, где противник тоже наблюдал, думал, и придумывал, и обманывал, и мог перехитрить и превзойти. Фашисты воевали не только с армиями, они воевали и с «Дорогой жизни». Они все интенсивнее бомбили и обстреливали ладожские трассы. А там к тому же задувал сиверик — ветер, который окутывал озеро непроницаемой белой мглой. Ветер морозил машины, срывал мешки, фонари. Что такое трасса? Это пункты обогрева, это медицинские палатки, пункты питания, это склады, это связь, это ремонтные летучки, мостостроители. Все это на льду, на берегах…
Теперь шоссе от Ленинграда до Осиновца асфальтировано. Вместо километровых столбов стоят обелис
убрать рекламу
ки с надписью: «Дорога жизни». Ныне они мелькают один за другим за стеклом машины, тогда каждый километр был огромным расстоянием. Это был путь к спасению, Но путь, обозначенный горелыми машинами, выкинутыми вещами, санитарными землянками, могилами…
Недалеко от Всеволожской на этом шоссе стоит памятник «Дороге жизни», и рядом посажена березовая роща: девятьсот берез — девятьсот блокадных дней. А в Осиновце — большой музей «Дорога жизни». Залы его всегда полны народу. Приезжают из Ленинграда, из других городов. Экспонаты деловые — фотографии, карты, портреты, картины, модели кораблей, барж, пирсов, — конкретно рассказывают, как моряки, а потом бойцы «Дороги жизни» обеспечивали город во время блокады, поддерживали его связь со страной. На дворе вокруг музея стоят на постаментах полуторка, трехтонка и автобус. Машины тех лет кажутся трогательно слабыми, маленькими, старомодными. Между тем на них вывезли из города по льду озера больше полумиллиона женщин, детей. На них привозили продукты. Смотришь на них и думаешь, что эта, казалось бы, жалкая техника в то время была могучей в руках людей, воодушевленных идеей спасения и защиты города. В залах музея сохраняется память о тех, кто работал на трассе «Дороги жизни», — зенитчиков, гидрографов, медиков, летчиков, железнодорожников. Лежат их ордена и медали, их часы и пистолеты. В живых остались немногие. Но музей не похож на мемориал. Его экспозиция разворачивается, как сюжетная история со множеством действующих героев.
Полуторка на постаменте как будто прямиком перенесена из дневника Юры Рябинкина, так напряженно думающего о возможности выехать из города. Продолжим его записи.
«Обком выдал маме на эвакуацию денег. Вчера мы считали деньги», у нас наличностью было 1300 с лишним рублей. С 10 декабря мама лишается работы. Я думаю, что если бы был положительный ответ из Смольного, то я бы был так счастлив, как никогда. Этот ответ должен быть, обязан быть, он будет, потому что… да и как ему не быть?! «Кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет!»
Хорошо бы улететь 12-го. 11-го выкупить все конфеты на новую декаду и улететь, грызя их. Пожалуй, тогда у меня даже воспоминания об этой жуткой голодовке как-то смягчатся. А ведь что со мной было? Ел кота, воровал ложкой из котелков Анфисы Николаевны, утаскивал лишнюю кроху у мамы и Иры, обманывал порой их, замерзал в бесконечных очередях, ругался и дрался у дверей магазинов за право пойти и получить 100 г. масла… Я зарастал грязью, разводил кучу вшей, у меня не хватало энергии от истощения, чтобы встать со стула, — это была для меня такая огромная тяжесть! Непрерывная бомбежка и обстрелы, дежурства на школьных чердаках, споры и сцены дома с дележом продуктов… Я осознал цену хлебной крошки, которые подбирал пальцем по столу, и я понял, хотя, быть может, и не до конца, свой грубый эгоистичный характер. «Горбатого одна могила исправит» — говорит пословица. Неужели я не исправлю своего характера?»
Редкое свойство у этого мальчика — он умеет видеть себя со стороны. В записи от 9 декабря он обличает себя, прямо по-толстовски, ничего не опуская, ничего не обходя. Он из той породы русских мальчиков, из какой был толстовский Николинька Иртеньев. Да и раньше: и карточка потеряна — это он виноват, и стыд оттого, что карточка незаконная, чужая. Он наворачивает на себя страхи, ужасы, казнит себя, придумывает наказания себе и матери. Это совесть раскачивает фантазию, это как бы бред совести.
В начале декабря «Дорога жизни» еще не стала дорогой жизни для Ленинграда. Она всего лишь ледовая дорога, и лед на ней плохой, устает, ломается; грузить как следует машины нельзя. Немецкая авиация бомбит дорогу, в воздухе все время идут бои, наши части ПВО пытаются отбивать атаки, несмотря на нехватку истребителей. Машины на Ладоге из-за воронок идут под воду. Доставлять продукты к Ладоге тоже стало трудно, потому что дорога на Тихвин перерезана и надо везти машинами по бездорожью. В результате пока что по ледовой дороге город получает ничтожно мало. Но части 54-й армии наступают в направлении на Войбокало. 9 декабря наши освободят Тихвин. Теперь можно будет наладить подвоз продуктов к Ладоге и эвакуацию населения. Ледовую дорогу через озеро надо будет еще обеспечить надежным прикрытием с воздуха, зенитными частями, прикрыть ее с берегов армейскими частями. Предстояло наладить движение машин, эксплуатацию их, не хватало бензина, смазки, ремонт не был обеспечен. Дорога не справлялась с перевозками, не оправдывала надежд. И только с двадцатых чисел декабря начнет доставлять в город по 700–800 тонн грузов ежедневно. 25 декабря наши войска овладеют районом Войбокало, и тогда начнутся восстановительные работы на железной дороге и можно будет продовольствие везти к Ладоге поездами и людей эвакуировать. Совсем немного остается Юре дотянуть до этих дней. Вот это ощущение быстро тающих сил ленинградцев и вело бойцов 54-й армии в наступление на Тихвин, а водителей автобатальонов и отдельной автобригады заставляло совершать на своих хлипких полуторках, сквозь пургу, заносы, по два, а то и по три рейса в день.
После войны один из авторов работал в Ленэнерго. В кабельной сети. Однажды, это было уже году в сорок седьмом, произошла авария в начале Лиговского проспекта. Пробило кабель, и целый квартал остался без света, без энергии. Искали место повреждения до вечера — не нашли. Стояла зима, мерзлый грунт били ломами, успели проверить одну муфту, она была в порядке. Стемнело. Работы продолжались, потому что без света сидели детская больница и фабрика.
Вел работы мастер Акимов. Это был низкорослый неразговорчивый человек, отличный знаток всего подземного хозяйства. Он, как и другие мастера, работал еще в блокаду. Мастеров было несколько, и каждый знал, что и где на его участке происходило. И на синьках у них все было отмечено. Помимо отметок на синьке, хороший мастер должен был держать в памяти все подробности случившегося. Что за воронка была, был ли тогда мороз или оттепель, и как снаряд разорвался, и если кабель уже ремонтировали, то кто его ремонтировал, потому что у каждого кабельщика своя манера, своя степень добросовестности. Дело в том, что бомбы и снаряды, падая даже в стороне от кабеля, могли взрывной волной нарушить изоляцию, могли сдвинуть грунты так, что постепенно начинало кабель тянуть, рвало его из муфт. Несколько лет после блокады продолжались такого рода аварии. Убраны были развалины, заделаны все пробоины, отремонтированы фасады домов, а под землей как бы продолжался обстрел, падали снаряды и бомбы, и в огромные воронки, давно засыпанные, залитые асфальтом, вдруг рушился электрический ток. Давний взрыв снаряда пробивал кабель. И термин был — пробой, как пробоины на корабле.
Я не знал, как они жили в блокаду, как работали, как питались. Я пришел в район с фронта, демобилизованный, да и они не очень-то рассказывали, это теперь вспоминают, а тогда поскорее забыть старались. В 1943–1944 годах, когда город стал оживать, им, чтобы дать энергию, свет, приходилось наспех под обстрелом латать перебитую осколками сеть, подкидывать времянки. Да и позже, после войны, кабельщикам еще долго доставалось от всех. Мощностей не хватало, трансформаторы выходили из строя, за время блокады они пострадали так же, как страдали дома и люди, подстанции были в ужасном состоянии, все требовали света — магазины, конторы, школы, гостиницы. Сети перегружались, кабели пробивало один за другим. Приборы определяли место повреждения весьма приблизительно, и все решало чутье мастера, умение видеть, что происходит там, под землей.
У Полякова, у Косолапова, у Полежаева — у каждого из мастеров были свои методы, свои приметы, которые ни передать, ни определить словами нельзя. Никто из них не мог помочь Акимову хотя бы потому, что никто из них не знал его участка, истории этого кабеля, его ремонтов, не знал капризов этой трассы с ее пересечками. И главный диспетчер Кирсанов, который знал весь район, который работал здесь чуть ли не с двадцатых годов, тоже ничего не мог посоветовать. Подвижный его висячий нос на мятом лице принюхивался, мы ходили по трассе взад-вперед, но глаза Кирсанова оставались грустными. Метров сто, а то и полтораста были под подозрением. Это значило еще копать, резать, прозванивать, снова копать, резать… Это значило еще два, три дня работы.
И Акимов и Кирсанов сходились на том, что авария блокадного происхождения. Горел костер на мостовой, кабельщики грелись и грели массу, чтобы заливать муфту. Кругом было темно, дома стояли темные, без света, и уличные фонари не горели, только проезжие машины включали фары. Над котлованом горел фонарь «летучая мышь» с красным стеклом. От этой холодной темноты, от скрипучего снега что-то всколыхнулось в моей памяти. Я почему-то перешел на другую сторону улицы, стал в подворотню, потом пошел в следующую подворотню.
Пожалуй, это было здесь. Только наискосок, на пустыре, стоял тогда небольшой дом. Он развалился на глазах. Как же это все было? Меня, наверное, загнала сюда бомбежка. До этого я шел по Невскому. А еще раньше по бесконечному Московскому проспекту. До штаба армии меня подвез старшина. У Обводного из черного репродуктора звучал женский голос, чуть хрипловатый, неповторимый голос, который с того дня запомнился навсегда. Это Ольга Берггольц читала стихи. Впервые слышал ее. Я постоял у железного столба. Было безлюдно, солнечно. Угловой дом, снесенный бомбой, дымился, пахло паленым. Две женщины сидели на обугленной балке, в ногах у них на санках лежали обломки стульев и золоченая рама от картины. Значит, потом я очутился на Садовой, в квартире Гали, школьной нашей подруги. Комнаты ее были занесены снегом. Оттуда я пошел к Боре Абрамову. Соседи сказали, что он умер. Тогда я отнес продукты матери Вадима… И тогда я очутился у Суворовского.
Все правильно, я восстановил в памяти тот день, это было не так уж сложно; тогда я впервые получил увольнительную в город. Блокада преобразила город неузнаваемо, поэтому все поражало и отпечатывалос
убрать рекламу
ь в памяти прочно.
Когда началась бомбежка, вернее, когда она приблизилась, я укрылся сперва в одной подворотне, потом перебежал в следующую. Зенитки захлопали рядом, прожектора шарили по небу. Все, что на передовой мы обычно наблюдали издали, сейчас происходило над головой. Неподалеку упала бомба, следом завыла следующая, на этот раз ближе, громче. Вой ее нарастал. В подворотню вбежала женщина с каким-то большим свертком. «Ложись!» — крикнул я, толкнул ее в снег и сам упал на что-то мягкое. Раздался удар, грохот. Дом наискосок стал разваливаться. Женщина закричала. Она кричала от страха. Судя по взрыву, бомба была небольшая; я хотел подняться и вдруг увидел под собой человека — румяное лицо старика. Это было так неожиданно, что я вскочил на ноги, потом нагнулся, потрогал завернутую в простыню фигуру, тронул лицо, волосы — я не сразу сообразил, что в свертке был большой елочный дед-мороз. Женщина, глядя на мой испуг, стала смеяться громко, истерически, освобождаясь от собственного страха.
Я тоже рассмеялся. Этого деда-мороза она несла для большой елки в Дом пионеров…
— Здесь падала бомба, — сказал я Акимову. Мы посмотрели синьку. Там напротив этого дома не было никакой отметки.
— Это было в конце декабря, — сказал я.
В конце декабря Акимов лежал. Он пролежал до середины января, и этот промежуток времени у него на карте остался без отметок.
Бомба упала как раз на той стороне, влево от подворотни. Осколками пробило створку железных ворот. Это я запомнил хорошо. У меня отпечатался этот момент с фотографической точностью. Наверное, из-за деда-мороза. Авария извлекла его из глубин памяти, где он хранился вместе с прочими подробностями того блокадного дня. Повседневное стирается в памяти: если б я часто бывал в городе, все позабылось бы.
Мы проверили с Акимовым — в створке ворот сохранилась рваная дыра от осколка. Тогда мы стали копать и работали до утра. Я оказался прав. Кабель пробило точно по кратчайшему расстоянию до центра взрыва. Очевидно, тогда появилась волосяная трещина в свинце, и помаленьку туда проникла сырость. Шесть лет она пробиралась. Вот как долго летят осколки блокадных бомб.
Пока копали и ремонтировали, мне вспомнилось, как я проводил женщину с дедом-морозом до Таврического. Я нес ее деда-мороза стоймя, при виде его краснощекого лица и шубы в блестках прохожие удивленно останавливались. У некоторых появлялась слабая улыбка. Так что нести его было приятно. Время от времени я вспоминал свой испуг и смеялся.
Эта история несколько исправила мое тяжелое впечатление от прихода в город. Когда я рассказал в батальоне о своем путешествии, дед-мороз тоже поразил всех и приободрил. «Дед-мороз!» — повторяли все со значением. Меня упрекали за то, что я не зашел к пионерам, не увидел елки и не мог ничего рассказать, как радовались дети и что был у них за праздник, хотя бы как это выглядело. Но зато я запомнил стихи Ольги Берггольц. Тогда у меня была хорошая память на стихи. Я Запомнил и прочитал их.
Конечно, я жалел, что не увидел елки. Особенно я Жалею об этом сейчас. Ничего нельзя исправить в том блокадном вечере, ничего больше не удается увидеть, рассмотреть в нем. Впрочем, он все же пригодился тогда, в сорок седьмом году, когда мы ликвидировали аварию на Литовском проспекте.
В конце декабря, а точнее, 25-го, будет объявлена прибавка: рабочим на 100 граммов хлеба, служащим, иждивенцам и детям на 75 — им теперь не по 125, а по 200 граммов хлеба в сутки!
В начале января будет построена дорога, которая позволит машинам прямо от железнодорожной станции ехать на Ладогу без перегрузки. А в начале марта в городе пойдет первый трамвай: очистят пути, восстановят сети — и по рельсам, звеня, покатятся красные вагоны. Люди будут кричать «ура».
Будет выдаваться клюква.
Суп станут давать в столовых без вырезки талонов.
А затем каждому горожанину дадут дополнительно полтораста граммов жиров.
Весь январь шла огромная работа по налаживанию дороги через Ладогу.
Однако в январе она работала еще плохо. График не выполнялся. Много машин ломалось. Ремонтировали медленно, недоставало запчастей.
Задача была вывезти из Ленинграда в феврале 100 тысяч человек, в марте — 200 тысяч. Это против 11 тысяч фактически эвакуированных в январе.
А Юра Рябинкин живет еще в декабре. Ему дотянуть бы до конца года, а потом как-нибудь до февраля, до марта! Но для него теперь день — за месяц, неделя — за год…
ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ


«9 декабря (продолжение). Сколько еще чистых страниц осталось в дневнике? Раз, два, три… Тридцать шесть… А было… было двести. Через полмесяца уже полгода этому дневнику, полгода войны. Много я писал в этом дневнике. Сперва мои записи носили описательный характер, затем сменились лирическими. Каждый прожитый мною день дает еще одну страницу, а то и две. И сколько раз запись дня начиналась о голоде, о голоде и холоде? Сейчас, когда я вижу перед собой перспективу эвакуации, я как-то замалчиваю эти мысли. Но вот исчезни эта надежда… Что будет? Чем я буду жить? А сейчас опять не то обстрел, не то тревога. Что-то где-то бьет, слышно. Мама во Дворце труда. Там, под обстрелом… Ей надо опечатать имущество обкома, фонд. Разрешится ли сегодня наша надежда о вылете? Или нет?..
Пора кончать. И без того целый лист перемарал без толку своими «лирическими» отступлениями. Вернусь-ка к реализму. Что нам сегодня поесть придется? Хорошо, если в столовке отпустят по талонам за 2-ю декаду. А то без ничего будем сидеть весь день. Весь день… Сутки…
10 декабря. Декада к концу. А дела наши с эвакуацией… Вопрос все еще остается открытым. Как это мучительно! Знаешь, что с каждым днем твои силы иссякают, что ты изнемогаешь от недоедания день ото дня все больше и больше, и дорога к смерти, голодной смерти, идет параболой с обратного ее конца, что чем дальше, тем быстрее становится этот процесс медленного умирания… Вчера в очереди в столовой рассказывала одна гражданка, что у нас в доме уже пять человек умерло с голода… А самолеты летят до Вологды… Каждому прибывающему дается целых 800 г хлеба и еще сколько угодно по коммерческой цене. И масло, и суп, и каша, и обед… Обед, состоящий не из жидкости, а из твердых тел, именуемых: каша, хлеб, картофель, овощи… Какой это контраст с нашим Ленинградом! Вырваться бы из этих чудовищных объятий смертельного голода, вырваться бы из-под вечного страха за свою жизнь, начать бы новую мирную жизнь где-нибудь в небольшой деревушке среди природы… забыть пережитые страдания… Вот она, моя мечта на сегодня.
«Кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет!» Но когда Лебедев-Кумач составил слова к этой песенке, не думал он… Правильна народная мудрость: «Человек закаляется в несчастье», «Весь характер человека проявляется у него полностью лишь в несчастье». Таков и я. Несчастья не закалили, а только ослабили меня, а сам характер у меня оказался эгоистичным. Но я чувствую, что сломить мне сейчас свой характер не под силу. Только бы начать! Завтра, если все будет, как сегодня утром, я должен был бы принести все пряники домой, но ведь я не утерплю и хотя бы четверть пряника да съем. Вот в чем проявляется мой эгоизм. Однако попробую принести все. Все! Все! Все!!! Все!!! Ладно, пусть уж если я скачусь к голодной смерти, к опухолям, к водянке, но будет у меня мысль, что я поступил честно, что у меня есть воля. Завтра я должен показать себе эту волю. Не взять ни кусочка из того, что я куплю! Ни кусочка! Если эвакуации не будет — у меня живет-таки надежда на эвакуацию, — я должен буду суметь продержать маму и Иру. Выход будет один — идти санитаром в госпиталь. Впрочем, у меня уже созрел план. Мама идет в какой-нибудь организующийся госпиталь библиотекарем, а я ей в помощники или как культработник. Ира будет при нас».
Дневник для Юры все более становится средством, помогающим во что бы то ни стало удержать себя от сползания, которое уже началось! Стыдом удержать себя! Нет у Юры другого оружия в борьбе с голодом, в борьбе с тем, что, как утверждали многие, «правит миром». И чтобы заострить свое оружие, Юра заостряет свою вину. Мало того: специально записывает в дневник все, за что будет и после смерти стыдно. Мать (или кто-то еще) прочтут ведь! А смерть — вот она, рядом. И она отдаст дневник в руки матери. Саму мысль о смерти Юра использует, чтобы укрепить себя, свою волю. Теснимый, обгладываемый голодом, Юра сдает позицию за позицией. А дневник — как последнее средство! — становится все более откровенным, страшным. Вот что ты делаешь, вот что будет читать мама, люди будут читать, узнают о тебе… Он и маму начинает любить больше, чем в мирное время. Совесть одолела страдания, раскрыла его сердце, сделала его еще более отзывчивым.
«Сегодняшний вечер даст мне лишь одни слезы. Я это знаю. Мама голодная, холодная. Дров у нас мало, почти нет, теплого она ничего не достанет, съестного также, измучается, издергается… Из Смольного придет отрицательный ответ, или вопрос все еще останется открытым. Жмыха и дуранды не достанет. Утром, перед ее уходом, плакала Ира — плохая примета, неужели и я стал верить в приметы? Наверное, так. Какие мрачные мысли лезут мне в голову! Все горько, все уныло, голодно, холодно стало на этом свете. Все мысли стремятся к одной еде да еще к теплу. На улице мороз — 20–25 градусов. В комнате, хотя и топилась печка, холод такой, что у меня замерзли ноги и по спине бегает дрожь. И ведь дай мне съесть буханку хлеба!.. Я оживу, я засмеюсь, я запою песни, я… что говорить…
На часах одиннадцать утра… А впереди — день, вечер, ночь. А там… там новый день, новая порция хлеба в 125 г. Новая декада. Конфеты… Медленно угасн
убрать рекламу
ет во мне жизнь, как медленно перевертываются страницы этого дневника… Но медленно и верно!
У меня такое скверное настроение и вчера и сегодня. Сегодня на самую малость не сдержал своего честного слова — взял полконфетки из купленных, а также граммов 40 из 200 кураги. Но насчет кураги я честного слова не давал, а вот насчет полконфеты… Съел я ее и такую боль в душе почувствовал, что выплюнул бы съеденную крошку вон, да не выплюнешь… И кусочек маленький-маленький шоколада тоже съел… Ну что я за человек! У мамы вчера сильно распухла нога, с эвакуацией вопрос открытый, в списки треста № 16 маму включить нельзя, одна надежда на Смольный. Смольный даст нам троим, маме, мне и Ирине, жизнь или смерть. У нас после сегодоняшнего дня осталось только 200–300 граммов крупы на вторую декаду да 300 граммов мяса. Конфет тоже всего 650 граммов, правда, еще сахара Ирине 200 граммов должны получить. У мамы ее карточка уже полуиспользована на 2-ю декаду, в запасе лишь Иринина (150 г.) да моя — 180 граммов… А внешне мы готовимся к эвакуации, собираем вещи, приготовляемся…
Меня уже не радует начавшееся по всему фронту наше наступление, отбит Тихвин, Елец, немцы бегут на ростовском направлении к Мариуполю и Таганрогу, на московском направлении наши части начинают гнать немцев с завоеванных ими областей, из-за отсутствия антиобледенителей сотни немецких самолетов бездействуют, почему немцы и не бомбят Ленинград эти дни, развертывается все шире партизанская война в Югославии, немецкие части несут большой урон от англичан в Ливии, лишь Япония продолжает бить США, нанося чрезвычайно эффективные удары, но ее постигнет участь та же, что получит и Германия от нас. Эх, если бы только разрешили вылет на самолете! Только перенесший большое горе, большие страдания может ощутить в полной мере счастье, какое только существует на земле. Через две декады Новый год. Где-то будем мы, что будет с нами? В эту новогоднюю ночь осиротеют новогодние игрушки в диване, не будет для них елки, негде им будет показаться во всем своем блеске и наряде. Не до елки будет каждому человеку в Ленинграде в эту ночь. Как сон мы вспомним, если будем живы, прошлогодние рождественские вечера, елки с горящими свечами, обильный пряностями, закусками и другими сладостями ужин, какой всегда имел место на 1 января… Может быть, а впрочем, что загадывать наперед, что с тобой может случиться?.. Как проведет эту ночь Тина? Где будут ее мысли ровно в 12 часов ночи 31 декабря 1941 года, когда сорвется последний листок календаря и откроется новый чистый свежий календарь 1942 года?.. Время летит, летит…»
Юра не понимает, какое значение для Ленинграда Тихвин. Освобождение Тихвина сразу сокращало маршрут подвозки продуктов к Ладоге, сам Тихвин становился главной перевалочной базой…
Но все равно Ладога еще не справлялась с заданием, не хватало дорожных частей. Количество машин сократилось из-за потерь, много было разбито, ушло под воду, ждало ремонта. А ремонтников не хватало. На железной дороге от Тихвина до Войбокало надо было восстановить разрушенные мосты.
«Сейчас мама ушла в трест № 2 к Тураносовой осведомиться насчет отправки из Ленинграда и валенок.
Анфиса Николаевна ходит злая и угрюмая. Понятно отчего. Запасы сухарей и крупы у нее кончились, послезавтра она последний раз получает молоко в тубдиспансере, а об эвакуации ее вопрос также остается открытым. Вот и бесится, боится, что будет недоедать. Ну что ж, смеяться над чужим несчастьем не нужно, дай бог, чтобы наступило на всем земном шаре такое время, когда ни один человек не знал бы, что такое голод.
Страницы моего дневника подходят к концу. Кажется, что сам дневник определяет мне время своего ведения…
12 декабря. Сейчас мама ушла в карточное бюро. От этого зависит вся моя дальнейшая жизнь. Если история эта всплывет наружу, я могу даже покончить с собой. Впрочем, что так бы и вышло. Мне тогда, выросшему в почти беззаботной, счастливой, райской, как мне кажется, обстановке, жить мне тогда — значит вечно мучаться, пока голод или немецкая пуля не прекратят мое жалкое влачение. Что-то будет тогда с Ирой, с мамой… Выехать из Ленинграда, даже вылететь, если бы ответ из Смольного был бы положителен, удалось бы только в январе месяце. А опухнуть и умереть от водянки можно в неделю, а отправиться на тот свет от шального осколка или грядущих быть ОВ и в одно мгновение.
Но наружно я должен не унывать. Иначе — все. Все не для меня (для меня все уже настанет, быть может, через… ну, время назвать не могу — в любое мгновение), но все для мамы, Ирины. Прольет Тина слезы на дальней стороне, вспомнит всю нашу прошлую жизнь, пожалеет кое о чем, да и через полгода станет опять такая ж… Пройдет полгода, год, война кончится, настанет прежняя счастливая жизнь в нашем городе. Истлеют наши трупы, в пыль рассыплются кости, а Ленинград будет вечно стоять на берегах Невы гордый и недоступный врагу.
Сколько людей каждый день умирает в Ленинграде! Сколько голодных смертей! Только сейчас я представляю себе город, осажденный врагом. Голод несет смерть всему живому. Только на себе испытавшие голод могут понять его. Вообразить же его неиспытавшему человеку невозможно.
Но зачем такие грустные мысли, столько меланхолии? Вспомянешь, бывало, оду Державина «На смерть кн. Мещерского» да и задумываешься над концом. Раз нам дали жизнь, этот бесценный дар природы, так зачем же думать о плохом в ней? Думай лишь о хорошем, бери от жизни все те удовольствия, какие она может дать. Что терять?
Все это так, но какой-то тайный червь грызет втайне мою душу. Человек никогда не удовлетворяется настоящим. Ему надо еще хоть самое мизерное улучшение, что-то новое в будущем. Можно вправе сказать, что «надежды юношей питают», внося еще одну поправку, а именно: под юношами подразумевать всех людей.
Третий час ночи. Ира спит, я пишу дневник».
Странно, он вспомнил стихотворение, которое в русской поэзии, может, с наибольшей силой раскрывает философию смерти:
…Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет
И дни мои, как злак, сечет…
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.
Ему, Юре, хотелось бы проникнуться этим высоким отношением к жизни и смерти. Но и взрослому это трудно, а уж юноше тем более.
Подступили вплотную дни отчаянной борьбы, самого тяжелого испытания, которое Юра Рябинкин успеет еще пройти. Неокрепшая душа его стала ареной борьбы между совестью и голодом. Это просто сказать — борьбы. Но надо представить себе все реально. Конечно, долг, любовь к маме и сестре, стыд, воспитанная порядочность, честность — все это противостояло голоду; но голод — он рос с каждым днем, он не считался ни с чем, и какие бы запреты ни воздвигал себе Юра, голод не подчинялся. Заставлял брать, запихивать в рот довесок хлеба — чужой!
Ничего Юра не мог поделать с собой. Как мучается он, корчится от стыда и отвращения к себе, клянется и снова не выдерживает, нарушает клятву, он падает, низвергается и все же не сдается, он продолжает казнить себя, следит за собою… Вот эта борьба, почти безнадежная, но которую Юра вел до конца, — самое дорогое в истории его короткой жизни.
«12 декабря (продолжение). Мамы нет дома. Через полчаса, а то и немного раньше надо сходить в столовку треста. Итак, сегодня уже 12 декабря. Кстати, это, кажется, уже IV годовщина дня выборов в Верховный Совет СССР. Сегодня я прямо заявляю, что больше месяца мы в Ленинграде не проживем. Это как 2X2 = 4. Сейчас стук в дверь — бегу отворять, сердце тревожно забилось в груди, отворяю… не мама, а Анфиса Николаевна…
5 часов вечера, а мамы нет. Значит, это что-то плохое. Либо дело с карточкой всплыло, маму, быть может, даже задержали в бюро, либо с мамой произошел какой-нибудь несчастный случай, быть может, она сейчас уже в больнице или даже морге… Чем не играет судьба?..
И все это из-за карточки. А почему мама взяла эту карточку? Из-за меня, из-за моего голодного вида. Это я толкнул ее на преступление, я виновник смерти, быть может, или же будущей нищенской жизни мамы и Иры, горя Тины, не говоря уж о зле, причиненном самому себе. Я виновник всего этого! Если бы я не впадал в меланхолию, уныние, было бы не то. Под моим влиянием мама пошла на преступление, я должен перенять кару с нее на себя. Если и это не выйдет, если я погубил все наши жизни, я лишу себя жизни, я должен и могу это сделать. Пойти добровольцем в ополчение и хоть на фронте сделать доброе дело, погибнуть за родину. Погибнуть, не забыть отдать свой долг, «Любишь кататься — люби и саночки возить», «Что посеешь, то и пожнешь».
Если история с карточкой вышла, то я отправлю Тине следующую телеграмму-молнию: «При смерти. Помощь не нужна. Забудь нас. Юра». Но я так писал бы, коли был один. А ведь Ира. Наконец, мало ведь как можно испортить всю их жизнь? Умереть-то легко, а вот поставить Иру на истинный путь!.. Пишешь и чуть не плачешь. Вчера мама говорит: «У меня вся надежда на бога. Вот я и коммунистка, а в бога верую. И Ира тоже». Но на бога надейся, а сам не плошай. И все-таки я чувствую, что, пожалуй, я тоже становлюсь религиозен, смотрю на икону и молю бога, чтобы отвлек от нас это несчастье.
А мамы нет и нет… Шестой ведь уже час вечера, ушла и вот до сих пор нету… А сегодня как раз артобстрел был где-то…
Единственный человек, которому мы дороги, который не покинул бы нас в минуту несчастья, Тина — далеко-далеко, в Канске, в Красноярском крае, за блокадой, за фронтом, за Уралом, за Енисеем, в самой глуши Сибири…
Еще подожду полчаса или час, а затем пойду в трест № 2. Я должен знать, где мама. А если ее там после часу не видели, придется завтра наводить справки по больницам, съездить в морги».
И сползшей вниз по странице рукой: «Что за ужас я пишу, я не могу больше. Боже мой, боже».
«13,14 декабря. Пишу за два дня, ч
убрать рекламу
то редко со мной теперь случается. Полдня провалялся в постели, вечером сходил в магазин и купил 6 плиток какао с сахаром из сои по 30 р. (пачка — 100 г.) да еще 300 г. сыру по 19 р. кг. По дороге домой случилось несчастье, так что я вернулся домой, имея при себе лишь 350 г. какао да сыр. Была сцена с мамой и Ирой. Мама, вернувшись из райкома, сообщила, что мы занесены в список эвакуирующихся на автомашинах в колонну Наркомстроя, которая по обещанию райкома да райсовета пойдет 15–20 декабря. Завтра как будто еще решится о самолете. Дома еды нет никакой, кроме 100 г, хлеба, которые мама выменяла на пачку табаку. Болит зуб, общее недомогание, в отъезд из Ленинграда как-то не верится, все думы о еде, еле держусь на ногах, так что, несмотря на вести об эвакуации и хорошие новости с фронта (разгром немецкой армии под Москвой, Ростовом, Тихвином), настроение упадочное. Если бы только чем-нибудь подкрепиться, что-нибудь поесть! Как бы я ожил…
15 декабря. Каждый прожитый мною здесь день приближает меня к самоубийству. Действительно, выхода нет. Тупик, я не могу дальше продолжать так жить. Голод. Страшный голод. Опять замолкло все об эвакуации. Становится тяжко жить. Жить, не зная для чего, жить, влачить свою жизнь в голоде и холоде. Морозы до 25–30° пробирают в 10 минут и валенки. Не могу… Рядом мама с Ирой. Я не могу отбирать от них их кусок хлеба. Не могу, ибо знаю, что такое сейчас даже хлебная крошка. Но я вижу, что они делятся со мной, и я, сволочь, тяну у них исподтишка последнее. А до чего они доведены, если мама вчера со слезами на глазах говорила мне, что она искренне желала бы мне подавиться уворованным у нее с Ирой довеском хлеба в 10–15 грамм. Какой страшный голод! Я чувствую, знаю, что вот предложи мне кто-нибудь смертельный яд, смерть от которого приходит без мучений, во сне, я взял и принял бы его. Я хочу жить, но так жить я не могу! Но я хочу жить! Так что же?»
И снова через всю страницу детское, незащищенное: «Где мама? Где она?»
«Ну вот и все… Я потерял свою честность, веру в нее, я постиг свой удел. Два дня тому назад я был послан за конфетами. Мало того, что я вместо конфет купил какао с сахаром (расчет на то, что Ира его есть не станет и увеличится моя доля), я еще половину «всего» — каких-то 600 г. полагалось нам на всю декаду — присвоил, выдумал рассказ, как у меня три пачки какао выхватили из рук, разыграл дома комедию со слезами и дал маме честное пионерское слово, что ни одной пачки какао себе я не брал… А затем, смотря зачерствелым сердцем на мамины слезы и горе, что она лишена сладкого, я потихоньку ел какао. Сегодня, возвращаясь из булочной, я отнял, взял довесок хлеба от мамы и Иры граммов в 25 и также укромно съел. Сейчас в столовой я съел тарелку супа с крабами, биточки с гарниром и полторы порции киселя, а домой маме и Ире принес только полторы порции киселя и из них еще часть взял себе дома.
Я скатился в пропасть, названную распущенностью, полнейшим отсутствием совести, бесчестием и позором. Я недостойный сын своей матери и недостойный брат своей сестры. Я эгоист, человек, в тяжкую минуту забывающий всех своих близких и родных. И в то же время, когда я делаю так, мама выбивается из сил. С опухшими ногами, с больным сердцем, в легкой обуви по морозу, без кусочка хлеба за день она бегает по учреждениям, Делает самые жалкие потуги, стараясь вырвать нас отсюда. Я потерял веру в эвакуацию. Она исчезла для меня. Весь мир для меня заменился едой. Все остальное создано для еды, для ее добывания, получения…
Я погибший человек. Жизнь для меня кончена. То, что предстоит мне впереди, то не жизнь, я хотел бы сейчас две вещи: умереть самому, сейчас, а этот дневник пусть прочла бы мама. Пусть она прокляла бы меня, грязное, бесчувственное и лицемерное животное, пусть бы отреклась от меня — я слишком пал, слишком…
Что будет дальше? Неужели смерть не возьмет меня? Но я хотел бы быстрой, не мучительной смерти, не голодной, что стала кровавым призраком так близко впереди.
Такая тоска, совестно, жалко смотреть на Иру…
Неужели я покончу с собой, неужели?
Есть! Еды!
24 декабря. Не писал я уже много дней. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Целых 8 дней не брал в руку перо.
Со мной произошли перемены. Появилось что-то хорошее, как мне кажется, в моем характере. Поворот этому дала потеря мною Ириной карточки на сахар. О, как я тогда подло поступил с мамой и Ирой. Зазевался в магазине и потерял 200 г. сахару, 100 г. шоколада для Иры и мамы и 150 г. конфет. Я хочу перемениться, хочу выковать из себя иной характер, но я чувствую, что без поддержки мамы и Иры мне не протянуть на моей честной новой жизни. Пусть бы они как-нибудь сглаживали, ну, дальше я не могу просто выразиться. Сегодня я в первый раз за много уже дней принес домой полностью все конфеты, выкупленные в столовой, делюсь с Ирой и мамой хлебом, хотя иной раз еще украдкой стяну крошку. Но сегодня я почувствовал к себе такое теплое обращение от мамы и Иры, когда они взяли и отделили мне от своих конфеток: мама — четверть конфетки (впрочем, потом опять взяла себе), а Ира — половину конфетки за то, что я ходил за пряниками и конфетами и лепешками из дуранды в столовую, что я чуть было не расплакался. Это люди, те люди, которых я так обманывал раньше и которые знают теперь про мои прошлые обманы! Да, чего только не может сделать хорошее обращение! Но затем… та же мама у меня взяла пряник, пообещав лишнюю конфету (а лишнюю конфетку получила сама), а та же Ира плакала, что мама дала и ей и мне одинаково по конфетке, а я потом еще Ире от своей конфетки дал, так что конфеток-то Ира съела больше. Правда, сегодня мой грех: утаил от мамы и Иры один пряник… Ну… это вот плохо.
Маме что-то обещают в райкоме, что ее эвакуируют 28/ХII… Сейчас мама пошла в райком насчет этого дела, если эвакуация будет отложена на 1 января, мы погибли, т. к. у нас осталось только талонов на два дня, еле-еле на три. Не больше.
Мамино здоровье все более ухудшается. Опухоль у нее идет уже к бедру. Я завшивел окончательно… Я и Ира немного опухли на лицо. Сегодня кончили конфеты. Завтра — крупу. Послезавтра — мясо и масло. А затем, затем…»
Реальность такова, что человеку порой хочется ущипнуть себя, проверить: я ли это, не сплю ли я, со мной ли это происходит? Но это ты, ты — и деваться некуда от правды. Твоя, а не чья-то жизнь оканчивается, почти окончилась в шестнадцать, в каких-то шестнадцать лет! Юра то уклоняется, прячется от этих мыслей, от очевидности, то вдруг бросается навстречу правде, всей правде — с горечью, с жалобой, с отчаяньем.
И — с благодарностью. За то немногое, что он успел, познал, за все, что совсем не ценил вчера, благодарит Юра жизнь, которая так безжалостно от него отвернулась…
Пройти ее из конца в конец — такую недолгую — совсем не сложно. Это как по квартире пройтись. И Юра, завершая свой дневник, свой крестный блокадный путь, ощутил эту потребность — еще раз, может быть, в последний раз обойти страшную, стылую, блокадную квартиру, в каждом уголке которой теплится воспоминание о совсем другой поре, когда жизнь была бесконечной.
Это последний Новый год Юры Рябинкина…
«Тихая грусть, гнетущая. Тяжело и больно. Печаль и тяжкая безотрадная скорбь. Может быть, и еще что. Только вспоминаются дни, вечера, проводимые здесь, когда я выхожу из кухни в нашу квартиру. В кухне есть еще какой-то мираж нашей прошлой довоенной жизни. Политическая карта Европы на стене, домашняя утварь, раскрытая порой для чтения книга на столе, ходики на стене, тепло от плиты, когда она топится… Но мне хочется обойти опять всю квартиру. Надеваешь ватник, шапку, запоясываешься, натягиваешь варежки на руки и открываешь дверь в коридор. Здесь мороз. Изо рта идут густые клубы пара, холод забирается под воротник, поневоле поеживаешься. Коридор пуст. Один на другом стоят поставленные Анфисой Николаевной четыре стула ее, да у стенки поставлены доски от расколотого на дрова шкафа. У нас было 3 комнаты. Сейчас вправе назвать себя владельцами лишь двух из них. Крайняя к кухне занята И. О них нечего говорить. Весело топится у них в комнате буржуйка, вкусный запах идет из-под их дверей, счастьем, чувством сытости светятся лица жильцов этой квартиры. И рядом… пустая комната, оклеенная коричневыми обоями; окно разбито, гуляет холодный ветер с улицы, голый дубовый стол у стены и голая этажерка в углу. Пыль и паутина по стенам… Что это? Это бывшая столовая, место веселья, место учебы, место отдыха для нас. Здесь когда-то (это кажется давным-давно) стояли диван, буфет, стулья, на столе стоял недоеденный обед, на этажерке книги, а я лежал на диване и читал «Трех мушкетеров», закусывая их булкой с маслом и сыром или грызя шоколад. В комнате стояла жара, а я, «всегда довольный сам собой, своим обедом и…», последнего у меня не было, но зато были игры, книги, журналы, шахматы, кино… а я переживал, что не пошел в театр или еще что-нибудь, как часто оставлял себя без обеда до вечера, предпочитая волейбол и товарищей… И наконец, каково вспоминать ленинградский Дворец пионеров, его вечера, читальню, игры, исторический клуб, шахматный клуб, десерт в его столовой, концерты, балы… Это было счастье, которое я даже не подозревал, — счастье жить в СССР, в мирное время, счастье иметь заботившуюся о тебе мать, тетю, знать, что будущего у тебя никто не отымет. Это — счастье. И следующая комната — мрачная, унылая полутемная клеть, загруженная всяким добром, что осталось у нас. Стоит комод, разобранные кровати, два письменных стола один на другом, диван, все в пыли, все закрыто, упаковано, лежать тут хоть тысячу лет…
Холод, холод выгоняет нас и из этой комнаты. Но когда-то здесь была плитка, на ней жарился омлет, сосиски, варился суп, за столом сидела мама и долго ночами работала при свете настольной лампы…
Здесь, бывало, вертелся патефон, раздавался веселый смех, ставилась огромная, до потолка елка, зажигались свечи, приезжала Тина, приходил Мишка, на столе лежали груды бутербродов (с чем их только
убрать рекламу
не было!), на елке висели десятки конфет, пряников (никто их не ел), чего только не было! А ныне здесь пусто (кажется, что так), холодно, темно, и незачем мне заглядывать в эту комнату.
Кухня, одна кухня — место, где протекает наша домашняя жизнь. Здесь мы едим (если есть что положить на язык), здесь мы согреваемся (если есть чем топить плиту), здесь мы спим (когда немного меньше покусывают вши), здесь — наш уголок.
Квартира запустела. Жизнь в ней совсем затихла. Она как бы застыла, превратилась в сосульку, а таять ей только по весне…»
После этой записи в общей тетради с черным корешком — дневнике Юры Рябинкина — еще три страницы.
«3 января. Чуть ли не последняя запись в дневнике. Боюсь, что и она-то… и дневник-то этот не придется мне закончить, чтобы на последней странице написать слово «конец». Уже кто-нибудь другой запишет его словами «смерть». А я хочу так страстно жить, веровать, чувствовать! Но… эвакуация будет лишь весною, когда пойдут поезда по Северной дороге, а до весны мне не дожить. Я опух, каждая клетка моей ткани содержит воды больше, чем нужно. Распухли все, следовательно, внутренние органы. Мне лень передвинуться, лень встать со стула, пройти. Но это все от избытка воды, недостатка еды. Все жидкое, жидкое, жидкое… И опух. Мама порвала со мной с Ирой. Они оставят меня, у мамы уж такая сейчас стала нервная система, что она готова позабыться, и тогда… Как это уже бывало, как она мне каждый день говорит, тогда она с Ирой как-нибудь выберутся отсюда, но не выбраться мне. Какой из меня работник? Какой из меня ученик? Ну проработаю я, проучусь неделю, а там и протяну ноги… Неужели это так и будет? Смерть, смерть прямо в глаза. И деться от нее некуда. В больницу идти — я весь обовшивел… что мне делать, о господи? Я ведь умру, умру, а так хочется жить, уехать, жить, жить!.. Но, быть может, хоть останется жить Ира. Ох, как нехорошо на сердце… Мама сейчас такая грубая, бьет порой меня, и ругань от нее я слышу на каждом шагу. Но я не сержусь на нее за это, я — паразит, висящий на ее и Ириной шее. Да, смерть, смерть впереди. И нет никакой надежды, лишь только страх, что заставишь погибнуть с собой и родную мать, и родную сестру.
4 января… А впереди еще целый месяц до улучшения с продовольствием и отъездом. Что с нами будет к концу этого месяца, в каких нищих мы превратимся, если только нас не вырвет отсюда какой-то наисчастливый дар фортуны, милость бога, небесное спасение даст нам эвакуацию завтра, послезавтра, до середины 2-й декады… Только какой-то именно, только бог, если такой есть, может дать нам избавление. Пусть он спасет нас теперь, никогда, никогда не придется мне уж обманывать мать, никогда не придется мне порочить свое чистое имя, оно опять станет у меня священным, о, только бы нам была дарована эвакуация, сейчас! А я клянусь всею своей жизнью, что навечно покончу со своей гнусной обманщицкой жизнью, начну честную и трудовую жизнь в какой-нибудь деревне, подарю маме счастливую золотую старость. Только вера в бога, только вера в то, что удача не оставит меня и нас троих завтра, вера на ответ Пашина в райкоме — «ехать» — только это ставит меня на ноги. Если бы не это, я погиб. Но я хочу остаться, вернее, хотел бы, да не могу… Только завтрашний отъезд… Я сумею отплатить хорошим по отношению к Ире и к маме. Господи, только спаси меня, даруй мне эвакуацию, спаси всех нас троих, и маму, и Иру, и меня!..
6 января… Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит — я уж себе даже представить этого не могу, как она ходит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может вынести моего никудышного вида — вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и «притворяется» больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет! Это не притворство, силы (…) из меня уходят, уходят, плывут… А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. О господи, что со мной происходит?
И сейчас я, я, я…»
Нам легче читать не про сами страдания, а про их преодоление, в этом мы признаем смысл — в борьбе, которая выиграна, в гибели, которая оправданна. Но жизнь не всегда дарит нам такие оправдания. Юре оно не было дано. Мы ничем не можем помочь Юре, мы можем только сострадать ему. И оттого, что помочь нечем, и оттого, что самому Юре не найти выхода и нам не в чем упрекнуть его, — от этого сострадание сильнее.
Мы следим за его борьбой с собственными слабостями, его победами, а ему плохо, ему очень плохо. Ему так нужно, чтобы его кто-нибудь пожалел. Просто пожалел. Мать издергалась до предела — на грани голодного безумия; Ира — истощенный замученный ребенок; ну а соседям И. не до него… Кому же во всем, во всем мире он нужен, кому до него дело? Юра уже и сам не верит, что кому-то он нужен вот такой — сонно-вялый от водянки, обовшивевший, со всем его «преступным» прошлым (тайком съеденные кусочки хлеба, ложка каши из кастрюли Анфисы Николаевны вырастают в его сознании до проступков непростительно тяжелых). И этот мальчик всем, всему миру (даже богу, «если он есть») обещает искренне, трогательно, что всегда будет честен, добр, заботлив, а у матери будет счастливая, спокойная старость. Это не хитрость погибающего существа. Он искренне мучится сознанием, что его слабость, бессилие (а мы уже знаем, что он в этом действительно неповинен: мужчины раньше женщин соскальзывали к подобному состоянию) погубит и мать и сестренку, и готов собственной жизнью заплатить за их спасение. Но виноват ли он, что ему так хочется жить, жить?..
Юра, как и все его сверстники, никогда не считал, что надо чем-то доказать, заслужить право на высокие мечты, надежду на счастливое, содержательное будущее, а тем более право на жизнь. Что может быть естественнее этого права? Мечты — пусть, надежды — ладно, но чтобы и право на жизнь, просто жизнь, нужно было доказать, заслужить?!. Но именно такое время пришло, такой момент подступил: смерть, смерть на каждом шагу. Все отнято у него: тепло, пища, даже любовь матери, которая (как Юре кажется) все больше сживается со страшной мыслью, что если еще и можно спасти хотя бы Иру, то лишь задавив в себе жалость к налитому водянкой, обессилевшему сыну, который уже неспособен даже выйти, выехать из города, если они и получат разрешение на эвакуацию… (Повторим, так кажется Юре, так зафиксировано в его дневнике, а как и что на самом деле чувствовала мать, как узнаешь об этом?)
На что, на кого ему, обессилевшему, опереться, как уйти от смерти, вырваться туда, где жизнь, где какое-то будущее?.. И не какое-то, а выверенное страданиями немыслимыми, муками тяжелейшими! Это будущее, жизнь свою — если ему ее подарят — Юра видит как служение другим, честность, скромность, доброту. Он и сейчас готов — хотя так хочется жить, жить! — пожертвовать собой, только бы не помешать матери и Ире спастись…
Тем, кто рядом с ним (и Юре самому), кажется, что он опустился, потерял себя, а он поднялся как никогда прежде, обрел себя высшего…
Что же до обращения к богу, то чувство это совсем не церковное — откуда оно могло взяться у Юры? Скорее это обращение к судьбе, мольба к провидению, надежда на случай и на какого-то вполне реального Пашина из райкома. Конечно, тут есть своя сложность. Признаемся, в дни войны были такие страшные, отчаянные минуты, когда невольно обращаешься к чуду; ребенок, тот твердит: «Мама!» — а мы, уже солдаты, правда еще не обстрелянные, тоже тогда взывали к судьбе, к надежде, к видению… Было это, и никуда от этого не денешься.
И вот наступил этот момент — день эвакуации. То немногое, что нужно в дорогу и что можно увезти, уложено на саночки. Юра приподнялся с кровати, поискал свою палочку (дневник при нем?), попытался встать, не смог, не сумел, упал на кровать…
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Блокада была противоборством с фашизмом, противостоянием ему на всех уровнях и по всем возможным направлениям: от Ставки в Москве до малого радиуса Г. А. Князева или Юры Рябинкина.
Тот немецкий офицер, который навестившую его невесту «угостил Петербургом» — несколькими орудийными выстрелами, сделанными любопытной и боязливой ручкой патриотки фройляйн (факт, записанный Ольгой Берггольц), — и бывший работник Публичной библиотеки артиллерист Сергей Миляев, у которого в этом «Петербурге» умирающие от голода дети, — оба офицеры-артиллеристы, но один на стороне бесчеловечности, второй — защитник человека и человеческой культуры во второй мировой войне.
Люди, которые изыскивали, изобретали пищу и витамины из бог знает каких заменителей, люди, добывавшие топливо, тепло, оберегавшие детские жизни, культурные и научные ценности, — их вклад в героическое противостояние Ленинграда фашизму, может быть, был не столь очевидным, как залпы Кронштадта. Но это тоже было противостояние, и не менее важное для исхода борьбы на северном фланге бескрайнего фронта.
Работник Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина «неисправимый интеллигент» С. Г. Миляев стал опытным артиллеристом; профессор лесотехнической академии В. И. Шарков создает пищевые дрожжи и прочие заменители, спасшие жизнь тысячам людей; рядовой техник Б. И. Шелищ, понуждаемый самой обстановкой (не стало бензина, электроэнергии), изобретает «водородный двигатель» из подручных материалов, с помощью которого поднимались и опускались аэростаты заграждения.
А врачи! Им приходилось многое открывать заново. Обнаружилось, что мировая медицина поразительно мало знает о голоде, о дистрофии. Иногда кажется, что человечество совершенно по-детски спешит забывать неприятные переживания, обидные, унизительные, к которым относится и массовый голод.
В письме-отклике на пуб
убрать рекламу
ликацию первой части «Блокадной книги» один из ленинградцев рассказал, как он попал в стационар, лежал там десять дней и удивил врача тем, что сильно потерял в весе. Он терял воду (был опухший), приходя в норму, но тогда об этом не сразу догадались. Или трагические случаи в Кобоне, когда вывезенные за Ладогу дистрофики набрасывались на пищу и погибали… На одной из станций, мимо которой проезжали эвакуированные, они прочли плакат: «Горячий привет ленинградцам-дистрофикам!» Люди, это написавшие, начисто забыли даже значение самого слова «дистрофия». Будто и не было 1921 или 1933 годов!..
Жозуа де Кастро сообщает в книге «География голода», что при освобождении заключенных из фашистских концлагерей обнаружилась все та же поразительная забывчивость людей, даже медиков, в отношении болезни, именуемой дистрофией. Заново и не сразу открыли, вспомнили, что наилучшее и первое средство — снятое молоко. А пока вспоминали, освобожденные дистрофики продолжали погибать, несмотря на весь уход и старания врачей.
«До самого последнего времени, — утверждает автор книги «География голода», — вопрос этот, поскольку он затрагивает проблемы социального и политического характера, был одним из табу нашей цивилизации. Это была наша в высшей степени уязвимая ахиллесова пята — тема, которую было небезопасно обсуждать публично…
Для организованного заговора молчания имелось несколько причин. На первом месте стояли соображения морального порядка; голод относится к числу примитивных инстинктов, и на рационалистическую культуру, пытавшуюся всеми средствами утвердить в поведении человека господство разума над инстинктом, сама постановка подобного вопроса действовала шокирующе…»
Блокадные ленинградцы многое изобретали заново — в условиях самых стесненных. С чем только не приходилось сталкиваться, бороться рядовому блокаднику, которого Г. А. Князев называет пассивным героическим защитником Ленинграда! Голодному, среди трупов, во тьме кромешной…
И он тоже стал специалистом, этот невооруженны защитник Ленинграда, — и не только в деле, к котором его приставил фронтовой город.
О том, как бывшие блокадники относятся к хлебу, об этом писали. Но вот как они по-особому понимают, ощущают человека — об этом сказать стоит. Люди такое пережили, такое видели, узнали о себе и о других, что почти каждый задумывался о человеке, его возможностях и об их пределах и каждый может высказать вам свое суждение об этом. Г. А. Князев судит о человеке со стороны прежде всего духовной. Для него это естественный, «профессиональный», если хотите, угол зрения. От медика вы услышите и о физических возможностях, пределах человеческого организма.
Но чаще, нежели о физических возможностях, блокадники свидетельствуют о духовных проявлениях, резервах человеческих, как это им открылось в те дни и месяцы.
Людмила Николаевна Бокшицкая вспоминает:
«Я пережила блокаду в самом суровом смысле: без запасов, без помощи, но с верой, что скоро кончится. Но наступил момент, уже в декабре 1941 года, когда стало безразлично: не могли пойти выкупить хлеб, не вставали с кровати. Лежали трое: мама, сестра и я. Не реагировали на сигналы тревоги, не слышали, что летят бомбардировщики. И как вы пишете: «У каждого был свой спаситель»… В нашу комнату вошла соседка Надежда Сергеевна Куприянова. Она решила, что и мы уже мертвые, так как в квартире, где было много жильцов, живых уже не было… Увидев, что и мы уже «залегли», что мы уже безразличны к тому своему состоянию, Надежда Сергеевна со словами, что она не даст погибнуть семье такой замечательной женщины, ушла. Скоро она вернулась с дровами. Затопила печку, принесла воду. Сказав, что им в госпитале дали кролика, поставила в печку кастрюлю с кроликом. Варился суп, она нас мыла, отгородив одеялом от основного холода. За эти дни наша угловая комната первого этажа так промерзла, что тепло было только у печки в радиусе одного метра. Только после обеда мы узнали, что это кошка, последняя, наверное, а не кролик. Этот обед и это внимание позволили продержаться до 10 января 1942 года.
8 и 9 января мы опять без ощущения, что с нами происходит, лежали с мамой, две дочери, во всей одежде, не выкупая хлеб, и уже не говорили о нем, как это было раньше. Мама начала шевелиться, что-то, как мне показалось, во сне начала тихо спрашивать. А потом мама как бы с испугом задала вопрос: какое сегодня число? И по тому, что мы два дня не выкупали хлеб, установили, что было 10 января 1942 года. И вдруг мама сказала, что в этот счастливый для нее день мы не должны умирать, сегодня же день рождения Люсены, т. е. мой день рождения. Мы должны сегодня встать и устроиться на снегоуборочную работу. Очевидно, услышала по радио, что требовались рабочие… И теперь эту дату я считаю не только своим вторым днем рождения, но и днем рождения общим, для мамы и сестры. Мы пошли на улицу Скороходова, где был пункт по трудоустройству… Сначала мы делали по три шага и останавливались, но ненадолго, затем по десять шагов… Я помню, как мы считали, чтобы не больше, боясь, что можем не справиться, как мы останавливались, проявляли бдительность, чтобы не замерзнуть»…
Когда слушаешь иные рассказы блокадников, кажется, что все ленинградцы начитались Достоевского! Тут и «бездна», тут и «небо» души человеческой — все одновременно.
Конечно же не из книг взято это знание пределов человеческих, понимание человека, его взлетов и падений. Знание, понимание, которому блокадник ничуть не радуется: слишком дорогой ценой оно куплено, с очень горькой памятью оно связано.
Блокадник порой даже не соглашается с литературой — великой, бесспорной для нас. Прожив под обстрелами, бомбежкой почти три года, учительница Ксения Владимировна Ползикова-Рубец в своем дневнике спорит «с самим Львом Толстым» о психологии человеческой.
«Я иду пешком до вокзала Новой Деревни. Езжу в поликлинику через день… И никогда не приходит мысль — а может быть, я не дойду? Это не храбрость, а привычка. Лев Толстой не прав, когда говорит: «Прежде Ростов, идя в дело, боялся, теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасностью…» Мы именно привыкли. Мы ложимся спать под звуки сирены, под вой зениток, под звуки обстрелов, и мы засыпаем без усилий, от физической усталости, от привычки засыпать в эти часы, и будит нас только сила звука. Разумом мы знаем, что опасность нам угрожает, но чувство молчит».
В любом другом случае мы взялись бы отстаивать абсолютный авторитет Толстого. А здесь промолчим. Бывший блокадник знает о себе порой такое, что человеку лучше бы не знать. О себе и о человеке то, что мучит, как осколки в теле.
Это «осколки» — в памяти.
Но блокадники, все испытавшие, в массе своей сохранили глубочайшую веру в человека, в человечность. Память их удерживает всю правду обстоятельств, которые бывали порой сильнее конкретного человека. А потому редко кто говорит с пренебрежением, а не с жалостью о людях, потерпевших моральное поражение. Даже о тех, кто у него выхватывал хлеб в магазине. Слишком жестокими были муки голода, и не каждый в силах был их выдерживать. Особенно снисходительны в своих рассказах женщины, и особенно к мужской части населения, которая вымирала в первую очередь.
«Да, бывало, что выхватывали хлеб (у меня в том числе), но ведь это больные голодом, безумные люди, — пишет Екатерина Васильевна Вовчар. — Ни тогда, ни теперь у меня нет сил обвинять их. Я тоже однажды хотела отнять хлеб, когда у меня дома все умирали и я никак не могла раздобыть хлеба на два дня вперед. Вдруг увидела в булочной женщину карликового роста с целой буханкой хлеба и начала ее преследовать, искать удобный момент, но все-таки опомнилась и пришла в ужас от своих намерений. Очевидно, я была еще не совсем безумная…»
Да, не только о других, но и о себе такое, и очень откровенно, рассказывают некоторые блокадники: память мучит. Это не то знание, которому рады, не то открытие, которым захочешь хвастаться. Но люди рассказывают: их сегодняшний взгляд назад, на себя вчерашнего, на свои вчерашние поступки, переживания выражает и боль, и горестное удивление, недоумение. Неужели я, неужели мы могли так думать, так чувствовать?!! Вот отец ушел и нет его долго — сначала о нем беспокойство, тревога, мать послала дочку по его маршруту искать — не встретила, не нашла, теперь только сожаление о карточке: пропала, кто-то заберет!.. Да и когда посылала, сказала: «Приведи, а если не сможешь — забери карточку».
Или: муж упал на улице, жена с горечью, с болью вспоминает, что первое чувство было не сожаление, что умрет, а испуг — как я его, мертвого, буду тащить, как довезу?
Многое способен вынести человек и остаться человеком. Об этом говорит большинство блокадных рассказов, дневников. Нужно только учитывать всю сложность проявления человеческого… В семьях, где отношения между людьми и до войны были ясные, определенные, высота поведения человеческого достигалась проще и легче, с меньшими потерями. Вот еще одна ленинградская семья, судьба — Светланы Александровны Тихомировой.
«…25 марта сорок второго года мне хотелось маме какой-то подарок сделать, в свои 14 лет что-то купить ей. Кускового сахара не было, пиленого не было, был сахарный песок. Не помню, по какой норме мы получали. Утром, когда пили чай, мама насыпала сахарный песок в блюдечко отцу, мне и себе. И надо было как-то незаметно от этой порции отделить какую-то часть, ссыпать ее иногда в кулак, иногда оставить в блюдечке, иногда переложить в карман и потом куда-то ссыпать. У меня была такая старинная вазочка. Я собирала сахарный песок в нее. Месяца два, наверное, ушло на это — не всегда удавалось. Отец делал вид, что не замечает, а мама когда шла к буржуйке чай налить — вот в это время я ссыпала. У нас всегда в это время отмокал клей в тарелках на окне — такой, в виде плитки из шоколада, отмокал несколько дней. И этот клей был на завтр
убрать рекламу
ак, на обед. Прятала я этот сахарный песок. Когда он мне попадался на глаза, то мне все хотелось палец в него обмакнуть и попробовать. Был случай, когда мне хотелось ночью встать и босиком дойти До этой вазочки.
Когда наступил этот день, я, помню, очень волновалась, и даже ладони были мокрые. Хотелось встать раньше мамы. Я поставила на стол полную вазочку с сахарным песком: накопилось, наверное, граммов 300! Ну, конечно, были слезы. Тут же разделили опять сахарный песок. Так праздновали день рождения.
А отцу еще до этого, в день Красной Армии, я подарила полсухаря. Не помню, как я его сэкономила».
И сегодня поучительно, как блокадник открывал, познавал свои духовные возможности. И их также использовал — взамен сил физических, хлеба насущного. Последнее не фраза, не слова только. Записи Г. А. Князева чем дальше, тем больше раскрывают, как это практически происходило. И самое удивительное, что такая замена хлеба насущного хлебом духовным, компенсация такая — возможна. До определенного, конечно, рубежа, предела…
«1942.1.3. Сто девяносто шестой день войны. Поднимаюсь медленно. Бьется сердце. На каждую ступеньку отвожу до десяти секунд. Наконец и наши двери на площадке третьего этажа. Даю условные звонки: три резких отрывистых. С замиранием сердца прислушиваюсь к шагам М. Ф. Она дома и ждет. Она — моя героическая женщина, безропотно и стойко переносящая все испытания, и прежде всего голод. Как она похудела! Словно не 51 года женщина, а хрупкая тоненькая девушка. Целую ее, чувствую ее, свою родную, близкую жену-друга. Она не потеряла своей женственности и своей исключительной женской опрятности. Светятся ее темные глаза на похудевшем лице. И я гляжу на нее с большим волнением, чем влюбленный юноша на свою возлюбленную. Каким героем показала она себя. Я знал ее 24 с половиной года как жену-друга, но не подозревал в ней такого запаса духовной энергии, воли к преодолению всех трудностей. Она не потеряла ни расположения к людям, ни бодрого веселого тона, ни улыбки, ни светлых внутренней глубиной темных чарующих глаз… Русская дивная женщина?! точнее, русская по культуре, а по рождению, по натуре, по честности, исключительной правдивости и честности зырянка: мать и отец ее были зырянами. Этот замечателный народ под напором более воинственных, жестоких грубых народов был отодвинут в тайгу и тундру, чуть не к самому берегу бескрайнего студеного моря. Я еще в детстве читал в учебнике географии: «Зыряне отличаются особой честностью». Это оказалось правдой. Родная, честная, чистая моя жена-друг!.. Как я счастлив, что мы вместе, дома.
В передней, где мы живем, мигает лампочка. Топится плита. Начинаем обедать… Тарелка воды с какой-то крупкой и катышками из черной муки, смешанной с дурандой. Два-три по 10–15 граммов кусочка подсушенного хлеба, в покупном виде подобие замазки. И сегодня больше ничего. М. Ф. мечтает, что получу же я наконец как директор Архива Академии наук СССР и зампредседателя комиссии по истории Академии наук и ученого совета академических научных архивов карточку первой категории, т. е. рабочего, о которой мы хлопочем, и тем буду сравнен ну хотя бы с нашей уборщицей-истопницей Урманчеевой.
Особенно не останавливаемся на трудностях питания, говорим с М. Ф. о том, что Шахматова и ее сын Алеша совсем ослабели и погибают, что у нас во дворе около Архива целую ночь у окна пролежал какой-то несчастный, умерший от истощения, и с него уже успели стащить сапоги, что некоторые продукты за декабрь так и не удалось получить в лавке… М. Ф. бодрится мыслью, что наконец-то при Академии открывается свой распределитель… Но, несмотря на все усилия, она не может больше есть катышки из смешанной с дурандой черной муки, полученной нами в декабре вместо крупы. И я доедаю с трудом, больше потому, чтобы не волновать ее… Так кончается наша трапеза.
1942.1.5. Сто девяносто восьмой день войны. Погибли от истощения и испытаний С. А. Шахматова-Каплан и ее шестнадцатилетний сын Алеша, внук академика Шахматова, мальчик особенно одаренный и большой любитель астрономии, несомненно проявивший бы себя в излюбленной области и, вероятно, в будущем был бы выдающимся ученым, а может быть, даже и академиком. На меня и всех наших сотрудников эта весть произвела потрясающее впечатление.
Отца погибшего мальчика — ученого и мужа С. А. — нет с ними. Чтобы разыскать его, отнести ему еды, мать и сын тратили все свои выходные дни и отдавали свои последние крохи. Потом силы их ослабли и оба они слегли беспомощными и обреченными.
1942.1.6. Сто девяносто девятый день войны. В научном заседании комиссии по истории Академии наук я сделал доклад «К истории замещения академических кафедр за все время существования Академии (1925–1941)». Заседание происходило под председательством академика И. Ю. Крачковского. Присутствовали А. И. Андреев, Л. Б. Модзалевский, П. М. Стулов, М. В. Крутикова и другие.
Может быть, это мой последний научный доклад».
Да, жестокую, но и высокую правду узнали люди, пережившие ленинградскую блокаду. Правду о человеке, о его пределах.
«Даже не веришь, что это было с тобой…» — писали нам после публикации первых глав «Блокадной книги». Не верится самим блокадникам, что могли такое вынести. И знание — на всю оставшуюся жизнь: да, все превозмогли ленинградцы!.. Удивление это и знание это хорошо передает, выражает случай, рассказанный Евдокией Николаевной Глебовой, — о ней мы уже упоминали. Евдокия Николаевна, сестра талантливого советского художника Павла Николаевича Филонова, вспоминает, как она спасала его картины:
«Осенью 1941 года, в конце октября, неожиданно пришел к нам брат. Пришел и принес четыре картошечки. Принес в то время, когда они буквально на вес золота. Оторвав их от Екатерины Александровны, от себя, когда все голодали. Запасов у них не было никаких.
Когда 22 июня 1941 года Молотов по радио произнес свою речь о войне, я позвонила брату и просила сделать какие-нибудь запасы. Он с возмущением сказал: «Если такие люди, как вы и мы, будут делать запасы, это будет преступление». А может быть, думай он иначе, он и не умер бы так рано, через полгода после объявления войны.
Было очень холодно, на нем была его куртка, теплая шапка и петины лыжные брюки (наверное, Екатерина Александровна настояла, заставила его надеть эти брюк поверх своих, бумажных, которые он носил и летом и зимой).
Как мы ни отказывались от картошечек, как ни просили взять обратно, он не хотел и слушать нас, он заставил взять их. Что мы говорили тогда, к сожалению, теперь я уже не вспомню. Дома у нас было очень холодно. Он не разделся, оставался у нас недолго. Может быть, он думал, что это его последний приход к нам, но мы никак не предполагали, что видим его последний раз. И сейчас я не могу понять, не могу простить себе, что мы не отнесли эти картошечки к ним обратно, а оставили себе. Закрыв за ним дверь, мы подошли к окну, ожидая, что он, как всегда бывало, остановится, помашет нам на прощанье рукой, улыбнется, но на этот раз этого не случилось… Шел он по двору своим широким шагом, но медленно, низко опустив голову. Когда он зашел под ворота, мы так и остались у окна, растерянно глядя друг на друга.
Что он думал тогда, что чувствовал?
Это был последний его приход к нам.
Во время войны брат добровольно охранял дом, в котором жил, от зажигательных бомб. Голодный, как должен был он мерзнуть в своей куртке, которую из-за холода нельзя было снять и дома.
Однажды в темноте он упал с лестницы. К врачу не обратился, полагаясь, как всегда, на свои силы. А сил-то уже не было… Не знаю, как в этот раз, но обыкновенно, заболевая (болел он очень редко), он садился в кресло и дремал, но не ложился в постель. Правда что и здоровому-то на этой «постели» было бы трудно, не то что больному (матраца на его кровати не было). Ни врачей, ни лекарств он не признавал.
3 декабря 1941 года утром нам дали знать, что брату очень плохо. Мы сразу же бросились к нему. Трамваи еще ходили. Войдя в комнату, мы увидели брата, лежавшего на постели, стоявшей не на своем обычном месте. Он лежал в куртке, теплой шапке, на левой руке была белая шерстяная варежка, на правой варежки не было, она была зажата в кулаке. Он был как будто без сознания, глаза полузакрыты, ни на что не реагировал. Лицо его, до неузнаваемости изменившееся, было спокойно. Около брата была его жена Екатерина Александровна и ее невестка М. Н. Серебрякова. Мне трудно объяснить почему, но эта правая рука с зажатой в ней варежкой так поразила меня, что я и сейчас, более чем через тридцать лет, вижу ее. Если бы я могла рисовать, я нарисовала бы ее — и стало, может быть, ясно, чем так поразила меня эта рука. Написать же об этом очень трудно. Но все же я постараюсь сделать это. В правой руке была зажата варежка, рука немного откинута в сторону и вверх, эта варежка казалась не варежкой… Нет, это непередаваемо. Рука большого мастера, не знавшая при жизни покоя, теперь успокоилась. Дыхания его не было слышно. В глубокой тишине, не разговаривая, мы ждали прихода доктора, каких-то уколов. Но еще до его прихода мы поняли, что все кончено. Он так тихо и так медленно дышал, что его последнего вздоха мы не заметили. Так тихо он ушел от нас….
Плакали мы или нет — не помню, кажется, так и остались сидеть в каком-то оцепенении, не в силах осознать, что произошло, что его нет! Что все, созданное им, осталось — стоит его мольберт, лежит палитра, краски, висят на стенах его картины, висят его часы-ходики, а его нет.
Только приход писателя Николая Аркадьевича Тощакова, жившего в том же коридоре, зашедшего узнать о здоровье брата, вывел нас из какого-то странного состояния оцепенелости. С помощью Николая Аркадьевича мы начали готовить его в последний путь. Николай Аркадьевич один перенес его с постели на стол. Лежал он в сером костюме, единственном за всю его жизнь. Но он был такой худой, такой неузнаваемо другой, что его бывший ученик скульптор Суворов, пришедший проститься и снять маску, должен был отказаться от эт
убрать рекламу
ой мысли. В это страшное время, когда нельзя было найти гроб, когда хоронили в простынях, мы решили во что бы то ни стало найти доски, заказать гроб. Нам это удалось, правда после целой недели поисков. Помог нам в этом Союз художников. На девятый день после смерти мы хоронили его…
В день похорон мы — сестра и я — достали и привезли двое саней: большие и детские, для Екатерины Александровны, так как идти за гробом она не могла. Везли брата на кладбище без меня, так как я должна была позаботиться о месте, куда через несколько часов должны были опустить тело брата. Придя на Серафимовское кладбище, я нашла человека, который за хлеб и какую-то сумму денег согласился приготовить место. Какой это был нечеловеческий труд! Стояли сильные морозы, земля была как камень. Но еще больше, чем мороз, затрудняли работу корни акации, около которой он должен был рыть землю. И, как я помню, и забыть это невозможно, он больше рубил корни топором, чем работал лопатой. Наконец я не выдержала и сказала, что буду ему помогать, но минут через пять он взял лопату от меня и сказал: «Вам не под силу». Как я боялась, что он бросит работу или, продолжая работу, станет ругаться! Но он только сказал: «За это время я вырыл бы три могилы». Добавить что-то к сумме, о которой мы договорились, я не могла, с собой у меня было только то, что я должна была отдать ему за работу» и я сказала ему: «Если бы вы знали, для какого человека вы трудитесь!» И на его вопрос: «А кто он такой?» — рассказала ему о жизни брата, как он трудился для других, учил людей, ничего не получая за свой очень большой труд. Продолжая работать, он очень внимательно слушал меня. Человека этого я вижу и сейчас очень ясно, кажется, если бы я встретила его, узнала бы. Он не был кладбищенским работником, но, чтобы прокормить семью, он пошел на эту тяжелую работу. И как я благодарна ему за его труд, за то, что он терпеливо, а главное, без брани проделал эту страшную работу.
Когда привезли тело брата, все было готово.
Везли его так. Сестра Мария Николаевна, невестка Екатерины Александровны и ее племянница Рая попеременно: две — тело брата и кто-то один саночки с Екатериной Александровной.
Опускали тело брата не совсем обычно, так как половина могилы была подрыта внутри, а верхняя часть оставалась нетронутой.
Что было после того, как могила была зарыта и остался холмик, на котором не было ни венка, ни хотя бы одного цветочка, я как-то не помню. Екатерину Александровну мы довезли до дома. С ней остались ее невестка и Рая. Зашли мы к ней или нет — не помню. Кажется, не заходя к ней, повезли сани их владельцу. Но помню, что, когда совершенно закоченевшие пришли домой и хотели затопить печку, чтобы согреться, дров на месте не оказалось, кто-то за время нашего девятидневного отсутствия их унес.
После смерти брата Екатерина Александровна осталась жить в той же комнате, где они жили когда-то вместе. Через комнату от нее, в том же коридоре, жила невестка, жена старшего умершего сына, со своей племянницей Раей. Они обе ухаживали за Екатериной Александровной, помогали ей, насколько это можно было в то страшное время. С Екатериной Александровной мы встречались — сестра и я — не часто. Мы обе работали, очень уставали и, понятно, голодали.
Все картины оставались у Екатерины Александровны. Сказать ей, что лучше было бы перенести их к нам, где они были бы сохраннее, так как у нас тогда была еще отдельная квартира, мы не решались, а Екатерина Александровна ничего по этому поводу не говорила, так они и оставались у нее. Единственное, что я могла в этих условиях сделать, это с большим трудом снять их со шкафа, где они лежали, и в присутствии Екатерины Александровны пронумеровать все картины.
Когда я по возвращении из эвакуации стала составлять каталог, зная, что картин было 400 с чем-то, я в тетради-каталоге проставила цифры от 1-й до 400-й, но когда начала заполнять, а заполняла не по порядку, чтобы не беспокоить картины, а так, как они лежали у брата, я обнаружила, что несколько номеров остались незаполненными…
Прошло около пяти месяцев со дня смерти брата, не меньше. Однажды к нам позвонили. Открыв дверь, мы увидели двух девушек, державших под руки Екатерину Александровну. Она была в своей старенькой меховой шубке, опоясанная белым вышитым полотенцем, на котором висела алюминиевая кружка. Екатерина Александровна еле держалась на ногах. Девушки, приведшие ее к нам, объяснили, что увидели ее совершенно обессиленную на Аничковой мосту и предложили проводить ее. Надо сказать, что после болезни она очень плохо говорила. Правда, брату удалось восстановить ее речь, но после его смерти, голода, одиночества ей опять стало трудно говорить. Поэтому трудно стало и понимать ее. Но все же она смогла объяснить этим добрым девушкам свой путь, и они довели ее до нас. Оказалось, что она ушла из дома еще накануне, не сказав никому ни слова о своем намерении уйти; где она провела почти сутки, осталось неизвестно, она не могла это объяснить нам. Екатерина Александровна осталась у нас, и я начала хлопотать, чтобы устроить ее куда-то.
…После смерти брата 3 декабря 1941 года, после того как я отвезла в конце апреля 1942 года жену брата в Дом хроников — это все, что мне удалось после долгих усилий сделать, — мы, сестра и я, перевезли все работы брата к себе на Невский проспект.
Голод все больше давал о себе знать. Уехать из Ленинграда мы не могли, имея у себя все картины, все рукописи брата и не имея сил отдать их на хранение.
Работали мы это время в госпитале, где сейчас помещается Институт Герцена, на Мойке. Устроила сестру на работу Анжела Францевна (фамилию ее я не знала), жившая в одном с нами доме. Сделав это, она буквально спасла нас. Вскоре сестре удалось и меня устроить туда же. Мы получили две рабочие карточки! Это было настоящее счастье! Но это было уже поздно, так как, немного подкрепившись, вскоре мы почувствовали, что и этого мало. К тому же у сестры украли талоны на хлеб, к счастью, только те, которые давали право получать часть хлеба на работе. Сестра ничего об этом мне не сказала, чтобы я не стала делиться с ней своим хлебом. Сестра была удивительный человек, отдавший всю свою жизнь сестрам. А мне она была и сестра, и мать, и друг. Понятно, кража карточки сразу сказалась на ее состоянии. А я, не понимая причины, не знала, что делать. Да и что можно было тогда делать? Только эвакуироваться. Но как, если у нас на руках все наследие брата?
И вдруг неожиданно с фронта приехал Виктор Васильевич — муж нашей племянницы. Семья его была уже эвакуирована, и он зашел узнать, живы ли мы. Увидев нас, он сразу же спросил: «Почему же вы не уехали, почему до сих пор в Ленинграде?» Мы сказали, что уехать не можем, так как у нас на руках картины и рукописи брата. Когда же из дальнейшего разговора он узнал, что у нас нет сил донести картины до музея и нет никого, кто бы помог нам, и в этом весь вопрос, он сказал, что может помочь нам. Он приехал с фронта в командировку, и сделать это надо тотчас же.
Работы брата, давно уже упакованные, лежали в этой же комнате, где шел этот незабываемый разговор. Упакованы они были так: один пакет с 379-ю работами и рукописями и второй — вал, на нем накатано 21 полотно. Когда мы поняли, что это может быть отнесено в музей, и сейчас же, счастью нашему, радости не было границ. Он взял и понес вал, а я, оказывается, пакет, в котором лежало 379 работ! Узнала я о том, что несла пакет, через двадцать пять лет. А в течение этих лет я была уверена, что пакет нес кто-то, а я только шла с ними.
Узнала об этом зимой 1967/68 г. Вот каким образом. Я собираю все, что могу собрать о брате, чтобы все это, собранное мною, присоединить к тому, что сдано в ЦГАЛИ в Москве… Но предварительно я сделала фото со всех этих рукописей, а с этих фото микрофильм. Я как-то попросила Виктора Васильевича написать о том, как это все тогда, в блокаду, происходило. Он исполнил мою просьбу и передал мне написанное им. Каково же было мое недоумение, когда я прочитала, что «второй, легкий пакет несла Евдокия Николаевна». Сейчас же я позвонила ему и переспросила, уверенная, что он ошибся, но ошибки не было. Откуда же взялись силы?! Он пишет: «Второй, легкий пакет несла Евдокия Николаевна». В этом «легком» пакете лежало 379 работ, три из них на подрамниках, и рукописи!
До сих пор я не могу представить себя той поры, несущую эту тяжесть. Я не поверила ему, долго расспрашивала, но все было так, как он написал… Что же произошло? Неужели радость, что все сделанное будет спасено, будет в музее, и мы можем наконец эвакуироваться, так как сестре становилось все хуже, дала мне силы, но отняла память?..»
Откуда силы брались у ленинградцев, об этом рассказала нам дневниковая память Ленинграда, сами же ленинградцы. Верящие и не верящие, что все это было, что могло быть. И познавшие цену жизни и тепла, хлеба и человеческой солидарности, всего, что человек не умеет как следует ценить, пока это есть у него…
ОБЯЗАННОСТИ ИСТОРИКА

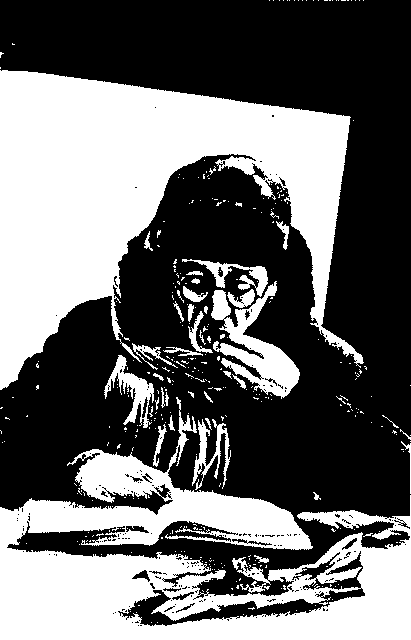
Дневник Г. А. Князева где-то на четырехсотых страницах (а всего их 1200 машинописных) начинает превращаться в мартиролог: жизнеописание тех, кто на его малом радиусе умер, замученный голодом, блокадой. Но это одна сторона его записей. Чем больше и подробнее о мертвых, тем радостнее записи о живом, о красоте и богатстве жизни, спрессованной в остающиеся блокаднику недели, дни. И в то же время растянутой — каждая секунда нагружается ощущением: а все-таки живу, живем, что-то получаем от жизни, гораздо больше, чем в обычное, обыкновенное время, когда и месяцы и годы не ценили, ни во что не ставили! Именно в это время в «Февральском дневнике» Ольга Берггольц писала: «…такими мы сч
убрать рекламу
астливыми бывали, такой свободой бурною дышали».
Чем больше обесценивает голод, блокада человеческую жизнь, тем важнее и дороже она для гуманиста Князева. В первые дни, недели войны в своих записках не всегда бывал справедлив, не всегда щадил окружающих: слишком давали о себе знать сложные отношения в ученой среде. Сейчас о тех же людях, о тех же фактах судит мудрее, человечнее, различая вину и беду человека. Это не всепрощение. Это понимание. Что значат вчерашние страсти, порой мелочные, низменные, если всех по очереди забирает «первый миллион» умерших?! В каком, в первом или втором, окажешься ты сам?
«1942. 1. 13 и 14. Двести шестой и двести седьмой дни войны. Вчера и сегодня передают по радио речь Попкова: «Все худшее позади. Впереди освобождение Ленинграда и спасение ленинградцев от голодной смерти». Так передают из уст в уста содержание этой речи. Сам я ее не слыхал: радио у нас не работает.
Люди живут последней надеждой… Январь, дескать, может быть, дотянем, но февраль, если не будет улучшения, не пережить. Ослабевшие гибнут и гибнут».
Верный своему «заданию»: не позволять блокадной мгле (хотя бы на его малом радиусе) сразу же стирать память о погибающих, — Г. А. Князев рассказывает о всех умерших, близких и дальних знакомых, людях, которых и имени никто и никогда не вспомнит. Ни один из них не попал ни в список 607 награжденных, ни в список «геройски погибших». Он готовится и свое имя занести в поминальник, пока еще в состоянии это сделать. С той же добросовестностью и объективностью записывает он плюсы и минусы Князева Георгия Алексеевича.
«1942. I. 18. Двести одиннадцатый день войны. Раз кругом валятся люди, стал и я приводить свои дела и бумаги в порядок на всякий случай. Сегодня я закончил систематизацию всех моих материалов сперва на бумаге; по этой схеме подберу все мои папки.
Главная цель и значение моего архива — материалы для истории быта среднего русского интеллигента в дни войн и революций первой половины XX века. Среди этих материалов на первом месте должны быть поставлены: «К истории моего времени», записки и приложения к ним, как рукописные, так и печатные…
1942.1.19. Двести двенадцатый день войны. В Ленинградском отделении Института истории гибнут один за другим научные сотрудники. Умер мой сотоварищ по университету Лавров. Он так же, как и я, служил в Центрархиве (в областном ленинградском Архиве), потом перешел на работу в Академию наук. Заведовал одно время Историческим архивом в Институте истории АН в Ленинграде. Много поработал над последним академическим изданием «Русской правды», был исключительно скромен и как-то мало приспособлен к жизни. За страшную черту перешел в начале января. Ослабевши, лежал беспомощным полумертвецом, покуда жизнь не оборвалась окончательно.
…Вчера М. Ф. мне призналась, что она устает. Действительно, она очень похудела, а за последние дни побледнела. Только еще темные глаза горят светлым огнем.
Сколько мы потеряли сил, на какой грани находимся, где черта, та страшная черта, переступив которую человек уже не возвращается назад. Взяли за нормальное состояние 100 %, провели страшную черту — 50 % жизненной энергии, и М. Ф. определяет свое место между 40 и 50 процентами, т. е. где-то около страшной черты.
После потери 50 % сил начинается быстрое затухание и после 60–70 процентов утраты их — агония и смерть.
— Надо как-нибудь выжить, — настойчиво говорит М. Ф., — не перейти за роковую черту.
1942 I. 21 и 22. Двести четырнадцатый и двести пятнадцатый дни войны… Второй день из-за морозов не езжу на службу; не идет коляска, масло стынет. М. Ф. проводить меня не может туда и обратно, силы ее заметно слабеют, бодра только духом.
…Неужели не доживем до весны? Кругом слишком много умирают, и не где-нибудь, а около, в нашем доме, на службе. Каждый из нас слышит лязг косаря. Поднять глаза к потолку не хотелось: там крюк, такой добротный, обративший мое внимание еще при входе в первый раз в комнату, лет 12 тому назад. Страшная мысль промелькнула тогда в мозгу: неужели он пригодится? Если что случится с М. Ф., может быть, да, пригодится.
Но кто знает, как повернется судьба. Никто не знает, что будет не только завтра, но и сегодня, вот сейчас…
Разбирая свои бумаги, ненапечатанные, законченные и начатые работы, с любовью раскрывал и прочитывал из любимых книг».
И у Охапкиной и у Рябинкина все надежды были связаны с эвакуацией, с «Дорогой жизни». Так было с большинством. Еще недавно эвакуация воспринималась как несчастье, теперь она стала спасением. Труднее всех свыкались с необходимостью уехать Князевы, для самого Георгия Алексеевича расстаться с Архивом было немыслимо, он не представлял свою жизнь вне стен Архива.
«Дороге жизни» помогали воины Ленинградского фронта, медики, шоферы, моряки, ремонтники, тысячи людей отдавали ей свои силы. Из многих наших записей приведем лишь рассказ старого питерского врача-белоруса Михаила Михайловича Ковальчука. Когда он рассказывал нам, ему было уже девяносто три года. Трудился он с утра до вечера в своем саду, растил там великолепную смородину, крыжовник, цветы и все это раздавал детям и соседям. Человек он был редкого бескорыстия и трудолюбия.
В 1942 году горздрав направил его на восточный берег Ладоги, в Жихарево, в эвакопункт, наладить медицинское обслуживание переправляемых через озеро горожан.
«Начал я принимать и сортировать больных. Вижу — многих надо оставлять, нельзя им ехать.
Тогда я сделал стационар. Где мог ставил койки, оклеивал, забивал фанерой разбитые потолки. Что делать дальше? Такое питание, какое выдавали, я больным давать не мог. Желудки у людей были страшно истощенные, а эта еда была, по-моему, опасна для них. Смертность среди вывезенных была очень большая. Я стал просить горздрав дать мне разрешение вскрыть несколько трупов, чтобы понять, что творится с людьми. Они мне разрешили, поскольку я кончил Военно-медицинскую академию. Меня же учили и Иван Петрович Павлов, и лейб-хирург Федоров. Я был их любимцем, потому что я точил ножи для хирургов. Я вскрыл несколько трупов. И что я увидел? У одного желудок лопнул и все содержимое вывалилось, весь сухой паек, который там давали: кусок колбасы твердокопченой, кусок сала и хлеба кусок. После обедов он еще это съедал! И вот с тех пор я стал просить, умолять отменить сухой паек. Был там Ханин, уполномоченный Совнаркома. Я к нему:
— Помогите, будьте сознательны. Смертность высока. Надо ее хоть как-то снизить. Дайте мне разрешение не давать этот паек.
Но не шли мне навстречу, потому что были такие, которые говорили:
— Как же? Без сухого пайка людям нельзя. Ведь отправляем их в эшелон. Дорога разбита немцами, и, может быть, они должны будут где-то ждать. Чем же им питаться, может, три, а может, четыре дня?
Ну, конечно, на эту их глупость я не молчал. Но никто меня не слушал. Я им показывал:
— Смотрите, не только ваша колбаса лежит, но человек и веревочку глотает. Он даже не успевает ничего выкинуть, очистить. Все оказывается в желудке.
Я самовольно сокращал питание. И через некоторое время вижу, что у меня процент смертности падает. И на все слезы, когда меня окружали голодные и просили, требовали добавки, я не отзывался, потому что знал результат.
Так вот, приходит один раз в санчасть начальство — представители Государственного Комитета Обороны-Спрашивают у меня:
— В чем дело? Люди в Ленинграде голодные, немытые, но ползают, а приезжают к вам — и умирают! В чем дело? Я молчу. Мне говорят:
— Такая у вас прекрасная пища! Непонятно, что у вас происходит.
Я говорю, что эта прекрасная пища и есть причина их смерти. И рассказываю, что у них в желудке делается. Меня выслушали, собрали совещание и попросили все повторить. Я все рассказал на этом совещании. Со мной согласились, сказали, что эвакуированные ленинградцы — люди больные. Надо лечить их питанием. Кто этим занимается? Главный врач обязан дать лекарство и пищу, какая полагается, от которой бы они не умирали. Здесь есть врач, и он отвечает за питание. Он пусть лечит лекарствами и питает так, как считает нужным.
Но тут выступил начальник эвакопункта и говорит:
— Он ведь хочет отменить сухой паек. Не доехав до Тихвина, люди могут трое суток сидеть в эшелоне, и чем им тогда питаться?
Я говорю:
— Паровозы запасные у вас есть? Есть. Котел на каждом паровозе есть? Есть. Пусть будут кормить их похлебкой. Наварят в котлах и покормят.
— Не подступиться, — говорят, — к этому эшелону. Я говорю:
— Это другое дело. Можно вернуть часть людей, но этот сухой паек не еда. Все равно этот сухой паек не доходит у эвакуированных до эшелона: они его сразу съедают. И, кстати говоря, вот идет посадка тут же, рядом с павильоном, где мы заседаем. Пошлите кого хотите, посмотрите, что у них в мешках: есть ли у них сухой паек сейчас, когда они садятся в эшелон уезжать? Я ручаюсь, что ни у кого уже нет этого сухого пайка.
Ну, надо сказать, что послали. Проверили. И оказалось, что ни у кого сухого пайка не было: он уже весь был съеден! Я говорю тут:
— Самая легкая пища, какая у меня есть, это пшено. А мне нужна манная крупа для маленьких, потому что у меня дети такого-то и такого-то возраста и даже грудные.
— Вопрос правильный, существенный и очень трудный, — говорят мне, — но постараемся достать вместо пшена манную.
Через восемь дней пришел вагон манки.
Оставили со мной товарища Андреева, одного из этих уполномоченных, чтобы помочь мне. И действительно на следующий день приходит ко мне Андреев и говорит:
— Товарищ начальник, прибыл в ваше распоряжение!
А я думаю: это при тех полномочиях, которые ты имеешь, когда можешь расстрелять любого, ты позволяешь себе надо мной смеяться? Я говорю:
— Товарищ Андреев, если это не ирония, то садитесь а если это ирония, то ваша помощь мне не нужна.
— Какая тут ирония? — говорит он.
Первое, что мне было нужно, это какое-то помещение, куда мо
убрать рекламу
жно было положить до захоронения трупы умерших, — нужно же было списки составить, справки давать. А рядом был огромный барак. Часовой стоит там. Никто не входит, не выходит, что там находится — не видно. Я говорю:
— Я не знаю, что там такое, но мне нужен этот барак. Он спрашивает:
— А где начальник?
Приходим к начальнику. Я в полушубке, а Андреев в штатском. Выходит дежурный солдат. Спрашиваем, где начальник. Андреев говорит:
— Попросите его сюда, чтобы он пришел. Пришли поговорить с ним.
Дежурный идет за перегородку:
— Товарищ начальник, пришел военврач. Тот кричит:
— Передайте, что приема нет!
Я испугался, думаю — что будет?! А Андреев тихо дежурному:
— Пойдите еще раз и попросите. Мы не уйдем, пока он не выйдет.
Дежурный снова идет к начальнику, говорит:
— Не уходят. А тот говорит:
— Приказ получил? За шиворот их и вон.
Я боюсь страшно за этого дурака, что его еще убьют сейчас. Придется умолять, просить за него… В общем, испугался. Через некоторое время начальник выходит в мыле: половина бороды выбрита, половина нет.
— Слыхали приказ?
— Слыхали и не выполним, — говорит Андреев.
— Так вот еще раз вам говорю — приема не будет! Андреев говорит:
— Нет, будет! Вы же не спросили, зачем мы пришли. Вы думаете, что если пришли штатские, то с ними можно и не разговаривать? А если мы пришли доложить, что шпиона поймали, — неужели вас это не интересует?!
Затем Андреев вынимает свою книжечку и показывает ему. Ну, что тут было! Он сразу побледнел, испугался, стал извиняться. Андреев говорит:
— Пойдемте к этому помещению.
Пришли. Часовой стоит. Огромный сарай. Думаю: «Господи, если бы мне дали трупы положить культурно!» А начальник сразу начал говорить, что там, в сарае, хранится военное снаряжение, военные припасы. Андреев говорит:
— Откройте!
Открыли. Смотрим: одна куча белая — не то известь, не то мел, пять штук рваных противогазов и штук 200 винтовочных, патронов. И сам этот начальник смутился. Андреев спрашивает:
— А почему это называется военным снаряжением, военными припасами? Зачем же человек мерзнет и караулит это на таком морозе? Приказываю и даю три часа сроку: все вынести, закопать и принести ключи этому военврачу.
Я ушел. Через час приносят мне ключи. Я пошел и занял весь этот барак. Так я вышел и из этого положения».
«ЛИХОРАДОЧНО ТОРОПЛЮСЬ ЖИТЬ…»

Трудное досталось время Г. А. Князеву. И послевоенное было нелегким, а все ж его время — довоенное и военное — покруче да потяжелее. Особенно же для его специальности — историка. Наверное, подошел момент и место кое-что досказать о личности Георгия Алексеевича. Он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета в 1913 году и начал работать в архиве морского министерства по изданию документов времен Петра Первого, времен Северной войны со шведами. Эта работа и свела его с Марией Федоровной. И после революции он занимался архивным делом. Он создал за свою жизнь два архива. Один в 1917–1926 годах — исторический отдел Морского архива, и другой в 1929–1941 годах — Архив Академии наук. От первого ничего не осталось. В 1927–1928 годах его постепенно, как «неактуальный», свертывали и в конце концов ликвидировали. С 1929 года Князева назначают заведовать Архивом Академии наук, в котором он проработал сорок лет, отдавая ему все силы, всю энергию вплоть до своей кончины 30 июня 1969 года. Читал он лекции по архивному делу, слыл крупнейшим авторитетом не только у нас, но и за рубежом, был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени… Собирал еще с мальчишества, со времен революции 1905 года, листовки, воззвания, плакаты, собрал большую интересную коллекцию. Была у него склонность к философскому мышлению, впрочем, о своих склонностях, сокровенных своих призваниях лучше всего написал он сам с нелегкой откровенностью исповеди.

М. Ф. Князева. Фото 1908 г.
Мария Федоровна вспоминает о днях блокады: «Георгию Алексеевичу было очень трудно в те дни писать свой дневник. Делал он это обычно вечером, а освещения почти никакого не было. Самодельный светильник с ниточным фитильком, заполненный какой-то горючей смесью, скудно освещал небольшой кусочек письменного стола. Но Георгий Алексеевич считал, что дневник писать он обязан… Каждый день он посещал академический Архив. Он ездил на своей коляске-самокате. Часто камеры колес прокалывались, ехать становилось почти невозможно, а дорога — сплошные сугробы снега… А ведь у Георгия Алексеевича ко всему был паралич правой ноги. Но он был очень крепок духом… Мужественное поведение Г. А. в блокадном Ленинграде было отмечено в докладе академика И. Ю. Крачковского, представителя президиума Академии наук СССР в Ленинграде, сделанном им на сессии АН в 1942 году в Свердловске».
Г. А. Князев сожалел, что не стал писателем. Он надеялся на дневник и был прав, это произведение стоит иных романов и повестей. Сколько их с тех пор бесследно кануло в Лету! Дневник же Г. А. Князева в силу подробности, методичности, честности сберег полноту картины блокадной жизни и останется необходимым для понимания психологии ленинградца тех лет. Он насыщен фактами, точен, воссоздает внутренний мир советского интеллигента времен Великой Отечественной войны, процесс изменения его мировосприятия.
Напряжение духовной жизни позволило ему подавлять чувство голода. В обширном его дневнике почти нет записей о том, как хочется ему есть, как он голодает: то ли он заставляет себя думать о другом, то ли ощущение голода побеждают рассуждения о смысле прожитых лет, о смысле происходящего.
У Лидии Охапкиной чувство собственного голода отступает перед более острым чувством: она мать и ощущает голод своих детей сильнее, чем собственный.
Князев умеет переключать всего себя на духовную работу — уплотнение жизненных планов и растягивание мгновений, чтобы в минуту прожить часы, а за день — месяцы. Не всегда, не сразу это удается и Князеву. Слишком давит реальность, муки голода, мысли о происходящем в Ленинграде и в мире, о завтрашнем дне. Но он упрямо возвращается к этому дню, данному мгновению, снова и снова убеждая себя: у родины, народа, человечества будущее есть, у меня — лишь эти мгновения и надо ими жить! Жить мгновениями для Князева — это увлеченно заниматься своей работой, незаконченными делами, неосуществленными планами, жадно впитывая сознанием и чувством человеческую историю, ее драмы и богатства, культуру. Это не избавляет его от повседневных горьких и горестных чувств. Да он и не хотел бы отрешенности от всеобщей беды.
«1942. I. 31. Двести двадцать четвертый день войны. Последний день тяжелого месяца… Живу тем, что есть мысль, планы. Читать в полутьме невозможно, и я осмысливаю в уме свой курс истории культуры. Если переживу войну, обязательно объявлю в университете это чтение… Как при плохой игре делают хорошую мину, так и я при других людях стараюсь улыбаться, говорю только бодрые слова, поднимаю дух. Недаром меня академик Алексеев называл «великий оптимист». И только тут, на этих страницах, я позволю себе не сдерживать себя. Я весь, тут как есть.
…Встретил Свикуль, у которой только что погиб пятнадцатилетний сын, скромный юноша Вова. Безутешное горе, отчаяние — все это жалкие слова в сравнении с тем, что выражают ее глаза, впалые щеки, дрожащий подбородок. Обнял ее, прижал ее к себе, вот и все, что я мог сделать.
1942. II. 3. Двести двадцать седьмой день войны. М. Ф. вернулась из распределителя ни с чем. Выдач нет и сегодня.
…Уйдем от нашего кошмарного настоящего куда-нибудь в сторону. Вчера вечером я хорошо занимался изучением прошлого Передней Азии и хеттской культуры, перемежая эти занятия с историей Академии наук. Уйдем и сегодня…
Но еще несколько слов для будущего читателя этих строк. Есть и такие «персонажи» даже на моем «малом радиусе». У соседей на кухне, где все они живут, сидит «оборонная дама», то есть жена инженера по оборонным работам. Она имеет возможность приобретать вещи за хлеб, крупу, масло, свиную кожу. Ей нужны самые изысканные вещи: белье, туфли, скатерти, полотенца; и за них она дает: кило хлеба за большой, хорошо сохранившийся ковер, горсточку пшена и несколько кусочков сахара за лампу, за туфли — 500 граммов рису… Голодные соседи только этим и держатся. Дама же себя не обижает… Значит, есть среди нас, голодных, в Ленинграде и сытые!..
А вот кусочек нашего быта. В Архиве сегодня только двое «присутствуют», дневные дежурные (ночные дежурства, как я уже отмечал, пришлось отменить из-за слабости сотрудников и отсутствия топлива): доктор истории А. И. Андреев и Фаина, истопница и рабочая Архива, жена кочегара, взятого на войну. Сидят они в 12-й комнате около плиты. Андреев читает диссертацию докторанта Бауэра и готовится к диспуту. Фаня топит плиту и скучает. Тогда Андреев пытается ее чем-нибудь рассмешить и опять продолжает свое чтение. Фаина, или Фаня, как ее зовут у нас, мать троих детей, татарка, до сих пор, до середины января, не сдавалась. Я уже отмечал ее выдержанность и стойкость. Она давно не имеет никаких известий о муже и писем от него. Ни разу она не пожаловалась на свою судьбу. Теперь она постарела, потемнела, подурнела, а ей еще нет и тридцати. По-видимому, она была недурна в молодости. Гибкая, тонкая, с природным умом и тактом, она в 17—20-летнем возрасте, вероятно, была красивой и приятной девушкой. А еще помоложе, наверное, напоминала незабываемый образ девочки-татарки, нарисованный Львом Толстым в «Кавказском пленнике». Жизнь у Фани сложилась и без «того нелегкая с тремя детьми, а сейчас и совсем сделалась тяжелой; едва
убрать рекламу
она справляется с семьей и службой. С ней живет старуха, мать мужа, сама как дитя, требующая за собой ухода, Фаня мечтает эвакуироваться, уехать с детьми к себе на родину, в Пензенскую область. Ни одна эвакуация начиная с августа не удалась. Сейчас Фаня, как и все мы, переживает особенно тяжелые дни. Покуда ее крепкая натура выдерживала, выдержит ли теперь?
Андреев, тоже постаревший и потемневший, находит в себе силы и волю преодолевать все затруднения. Когда М. Ф. по моему поручению пришлось навестить Архив, она и нашла эту бытовую картинку новой архивной жизни.
У М. Ф. и Андреева неожиданно разговор перешел на общественные уборные.
— За килограмм хлеба пошел бы чистить уборные, — говорит Андреев, — а сейчас достаточно и того, что выношу все это добро утром и вечером из квартиры.
— А мы не все выносим, — вставляет М. Ф.
— То есть как же, разве у вас действуют уборные?
— Нет, ведь топят на юге кизяком, вот и мы сжигаем.
Самый современный разговор, правда не салонный.
1942. II. 4. Двести двадцать восьмой день войны. Еще один день войны. Ничего не знаю, что делается на земном шаре. Те крохи сведений, что сообщают в газетах, по радио, собственно, ничего не дают для уяснения происходящего в мире. «Мы заняли пункт Л., отдали пункт В. …Трофеи такие-то…» ничего действительно не говорят.
Куда идет человечество? Чем кончится эта жесточайшая бойня? Когда кончится? Страшные вопросы… И быть может, сейчас ненужные еще вследствие полной невозможности их как-нибудь разрешить, предусмотреть хоть отчасти их разрешение заранее. Несомненно то, что война продлится еще несколько лет, а мы в Ленинграде не выдержали и полгода!
Продолжать ли мне свои записи, раз ограничился еще более мой радиус? Решаюсь продолжать. Мой дальний Друг, читая эти листки, выкинет или пропустит, что ему будет неинтересно, не нужно. А я в точности не знаю, что нужно и что не нужно.
Вот, например, стоимость сейчас мужского костюма полтора-два килограмма хлеба. Кстати, соседка, променяв таким образом костюм на одну четвертую часть хлебной карточки, чтобы не делиться ни с сыном, ни с теткой, объявила, что карточку потеряла.
Если удастся покойника похоронить на кладбище, то не все удостаиваются «индивидуального захоронения», то есть своей отдельной могилы, а зарываются в «траншеи», так что теперь часто говорят: «Как бы не попасть в траншею» или «Смотри, угодишь в траншею».
Это для языковеда. А вот для режиссера. Толпа на улице. Все одеты очень плохо, но зато некоторые женщины «шикарят», выпустив из-под юбки легализованные штаны в виде шаровар красного, коричневого и даже голубого цвета. А другие просто без юбки остались в нижних штанах. Вместо головных уборов носят часто косынки. И мужчины и женщины часто закрывают платком или белой повязкой рот и нос. На ногах чаще всего валенки, иногда до чрезвычайности стоптанные. Остались еще «дамы» в обношенных каракулях или потрепанных беличьих пальто, так распространенных в последний годы. Много ходит по набережной «сухопутных моряков», самых настоящих штатских, одетых в военно-морскую форму. Некоторые и из женщин ходят в морской форме, и к ним она чрезвычайно идет.
Надо еще добавить для общего колорита, что, например, Евгения Александровна Толмачева-Карпинская ходит в длинной, до пят юбке, как ходили женщины лет сорок тому назад, так что подол волочился по земле. И на голове у нее неизменная шляпа-берет почти той же давности.
1942. II. 8. Двести тридцать второй день войны. Лихорадочно тороплюсь жить… Дивный, редкостный около меня человек, жена-друг М. Ф. Сегодня она именинница…
Сегодня ночью, как-всегда, проснулся в кромешной тьме и обдумывал свою любимейшую тему о Христе, этом удивительном учителе любви и милосердия из дальней Галилеи.
Мы, собственно, ничего не знаем о нем, кроме красивой волнующей легенды о погибшем мечтателе. Всю жизнь я был связан с этим образом-мечтой о счастье человечества, о любви, прощении. Жизнь вносила все время поправки, рвала мечту и наконец снова, еще раз жестоко распяла ее…»
Г. А. Князев не просто подводит итоги работам, мыслям своим и не всего лишь тоскует над неосуществленными своими планами. И не в том дело, что он, рассчитывая в глубине души, что «бумага живучее человека», эти планы вносит в свои записки (там есть и подробные расчеты, как преобразовать архивное дело, как рациональнее переоборудовать хранилище Архива и т. п.). Дневники Князева зафиксировали не только духовную работу одного из ленинградцев-блокадников, рассчитанную на будущее, но и тот факт, что такая работа (завтрашняя) ленинградцу необходима была ради того, чтобы остаться человеком сегодня.
Самые дорогие ему, в трудах выношенные мысли: о трагических попытках спасти мир любовью, о «простой» любви, любви мужчины и женщины, и, наконец, о смысле человеческого существования — все, все идет в работу, чтобы противостоять обидной, оскорбительной ситуации, когда от каких-то «граммиков» хлеба зависит столь многое…
«…М. Ф. не хватает пищи. Она собирает вещи, идет на рынок «отоваривать» их. Опять «вспылила». Покрылась вся красными пятнами, когда посомневался, что при ее слабости и простуде вряд ли целесообразно — по моей теории «разумной экономии» — ей будет стоять на ветру на рынке. Хлеб-то или крупу она, может быть, и добудет, но зато и совсем сляжет. Говорили друг с другом в нервном напряжении, все силы напрягая, чтобы сдержаться…
Так люди сходят с ума. Умно или безумно они тогда поступают, поди разбирайся! Вот М. Ф. ушла на рынок, а я снял с себя пояс, давно припасенный, и примерил его… Так, на всякий случай…
М. Ф. вернулась. Принесла 100 граммов (/4 фунта) хлеба за платье. И счастлива. Глаза повеселели… А мне легче, что ей лучше стало, и еще больнее, грустнее от сознания, от чего мы, наше состояние, настроение, отношения зависят!.. От четверти фунта хлеба!..
Вчера я» и М. Ф. были выбиты из колеи. К нам явилась Валя, которую мы хотели сделать своей воспитанницей. Мы были на службе, и она прошла к соседям. Там объяснила, что голодна, ослабла, у ней нет сил и пришла ночевать к нам. Мы живем в передней, и у нас даже метра нет свободного, на котором можно было бы положить человека. Сама Валя опустилась, не мылась несколько месяцев, черна от грязи, волосы слиплись в комки, завшивела, глаза помутившиеся, лицо отекло от большого употребления воды. Покуда сидела у них, свалилась со стула.
Что нам было делать? М. Ф. твердо объявила, что у нас ночевать негде. Тогда она объявила, что у ней нет сил идти домой. Она пришла по делу. Они с матерью эвакуируются и им нужны деньги, вещи, продукты!.. С собой она хлебной карточки не принесла. Пришлось накормить ее; дать денег, не столько, сколько просила она (600–700 руб.). Сперва М. Ф. дала 50 р., но та выпросила еще 20. М. Ф. предлагала свезти ее на санках домой, но оказалось, что мать ее куда-то, должна была уйти и Вале все равно нельзя было бы попасть домой. Она осталась на ночь у соседей. Рассказывала, что все вещи продала или променяла, а то, что еще оставалось, погорело. К сожалению, пальто, которое ей подарила М. Ф., не было на ней, несмотря на мороз. Пальто не сгорело, но и неизвестно, что с ним стало…
Ужасная тоска и раздвоенность овладели мною и М. Ф. Что мы могли бы сделать? Взять ее — это значит ускорить свой конец и ничего, в сущности, не устроить. Отдать ей последний кусок, деньги… Совесть, совесть, то, что вместе ведает, со-ве-дает, требовала ясного и честного решения. Мы ничего не могли сделать, кроме того, что дали ей. И сегодня утром она ушла. Я так и не видел ее».
Эта ситуация мучит Князева не меньше голода. Да, обстоятельства, да, блокадная реальность. Они вполне способны заглушить и сомнения, и муки совести. Но этого он тоже не желает — даже в облегчение себе. Накормить человека, даже если только кусочком хлеба и стаканом кипятка, в те дни значило много. Нам, читающим это сегодня, хотелось бы, чтобы он сделал еще больше, чтобы, рискуя своей жизнью, оставил у себя Валю. Но не было этого, не было, и кто решится осудить за это Князева? К тому же оставить Валю у себя значило возложить новую заботу на гаснущую от дистрофии М. Ф.: сам-то он был беспомощен.
«Никогда я не мог примириться с мыслью о простом существовании, быть только существователем, как не мог принять и другую крайность — быть навозом для будущего. Тут много еще нерешенного, в особенности в наши дни, когда десятки миллионов человеческих жизней должны погибнуть, чтобы жили их народы, к которым они принадлежат по рождению. Всю жизнь я решал вопрос о боге, о природе. Признаюсь, все эти вопросы так и остались открытыми. Правда, я неверующий. Но правильнее — я, отстранивший от себя решение этих вопросов. Они выше меня. Я знаю только, что бога, управляющего миром согласно законам любви, нет. А другого бога я не знаю и знать не хочу. Я сам себе бог… Бог же как тождество с природой, самотворчество природы для меня непостижим. Слишком грандиозна вселенная, велики и сложны ее законы, загадочно начало жизни, так замысловато устройство животного тела и страшна иррациональность природы. Часто природа и мой человеческий разум несовместимы. Природа непонятна мне. В особенности теперь, в эти страшные годы и дни человеческой бойни разумных существ. Я преклоняюсь перед величием и красотой природы, но и содрогаюсь от ее жестокости, от ее слепоты, от ее иррациональности.
Природа диалектична и, повторяю, иррациональна. Может быть, это только на земле случилось, что человек — произведение природы — осознал эту самую природу и содрогнулся в страхе и ужасе перед неизведанными тайнами ее.
И тут мне непонятны те мысли, которые звали от разума к природе, к отказу от культуры. Вся моя жизнь — служение ей, и весь смысл жизни в Созидании ее, в исправлении, в обработке культуры.
Будущее человечества — это культурное будущее, расцвет культуры. Человечество достигнет этой степени своего развития и поистине станет культурным человечеством.
Вот что б
убрать рекламу
одрит меня в тяжелые, мрачные дни, переживаемые человечеством. Вот что поднимает меня на борьбу с тем вместе, кто борется за это будущее культурное человечество. «Наша эра», ведущая счет от «рождества Христова», или должна оправдать себя (а она не оправдала и не может оправдать!), или должна смениться новой «нашей эрой», рождением нового культурного (поистине культурного) и гуманного человечества. Многим, и мне в том числе, казалось, что такая эра началась 25 октября (7 ноября) 1917 года. Будущее покажет, так ли это.
Во всяком случае, для меня другой эры пока нет. С этой же эрой у меня есть будущее, я говорю смело «у меня», пусть я даже завтра погибну: тут «у меня» и «у нас» сливается.
1942. II. 10. Двести тридцать четвертый день войны. Февральский снежный день. Редкие орудийные залпы. Прохожие. Саночки. Покойники. Бурые пятна на снегу. Обвалившиеся упоры у дверей магазинов; фанерные листы вместо стекол в домах. Развороченный кузов грузового автомобиля против сфинксов. Столб со старыми афишами, оставшимися от лета. Стеклянная витрина на университетской решетке с последним сообщением Информбюро от 1 ноября и очень устаревшими карикатурами. Часы, показывающие фантастическое время… Вот и весь мой путь.
На днях должна состояться вторая эвакуация академических сотрудников. Уезжают все, кто может! «Петербургу быть пусту»… Неужели исполнится старое и страшное пророчество!
…Я тороплюсь жить. Мысли наполняют мой мозг: вот, например, вчера и сегодня я набрасывал мысли о Монелле — Мгновении. Есть такая поэма у Марселя Швоба, поразившая меня еще лет 35 назад своей оригинальностью и изощренностью самого изысканного упадочничества. Читал я ее, помнится, в изложении А. Амфитеатрова. И мне почему-то захотелось изложить эту поэму по-своему…
Сейчас ночь; где-то, и, по-видимому, не так далеко от нас, падают тяжелые снаряды. Ахнет, вздохнет где-то земля от удара, и заходят, дрогнут стены дома. Потом опять напряженная тишина. Выстрелов мне не слышно в том коридоре-передней без окон, где мы живем.
И вот в эти напряженные минуты, когда достаточно одного такого случайного попадания, чтобы ни от этих листков, ни от нашего жилища, может быть, от нашего дома ничего не осталось, я пишу поэму о Монелле. Увлекаясь, я не вслушиваюсь в жуткую ночную тишину, прерываемую глухими ударами и вздрагиванием стен дома. Вот почему дорога мне сейчас эта совсем как будто не к месту здесь, в записках о войне, такая далекая тема.
Мы живем нервно. Многие от голодного или полуголодного состояния отупели или поглупели. Другие опустились, нервничают, ругаются. Надо же как-то жить, подавать признаки жизни. Уж лучше сочинять поэму о Монелле, чем проклинать всех и вся и мучиться от бессилия что-либо исправить кругом, изменить в своей жизни.
Умереть не трудно, умирать очень тяжело…»
УЕЗЖАЮТ 900 ТЫСЯЧ[39]

В дневнике Г. А. Князева уже двести сорок четвертый день войны.
«1942. II. 20. Пятница. Жители нашего злополучного города бросают все свое имущество, жилище, где они все-таки имели крышу, близких, если они слабы, оставляя их умирать, и покидают Ленинград. К Финляндскому вокзалу идут и идут молодые, старые, мужчины и женщины, везя на саночках захваченный скарб, по нескольку пакетов на человека. Великое выселение. А тот, кто остается, сжимает губы и молчит. В глазах затаенная тоска и тревога. А у других, наоборот, полное равнодушие. Будь что будет!
Я исполняю свой долг бытописателя. Я в каждое лицо, в каждые глаза встретившегося мне человека заглядываю. Силюсь все заметить, все записать, что вижу на моем малом радиусе. А сейчас предо мною задача — подготовить к сдаче в Архив Академии наук мои рукописные и печатные материалы. Хочется и записать некоторые свои давно задуманные литературные произведения, отрывки воспоминаний, освещающих прошлое. Словом, подвести итоги. …«Покуда Архив Академии наук будет цел, и ваши рукописи будут в полной сохранности», — успокаивал я эвакуирующегося с университетом доцента.
Надо и мне торопиться приводить в порядок свои рукописи и бумаги. Холод мешает работать в моем кабинете, в той дыре, где я сейчас живу, не повернешься. Мои рукописи за малым исключением никому не известный материал, никогда не печатавшийся. Теперь, когда много погибает материальных и культурных памятников особой ценности, имеют значение и менее важные документы. Мои рукописи, пожалуй, тоже заслуживают в таком случае охранения и сохранения. В них вся моя жизнь. В январе я создал окончательную схему для приведения всех моих бумаг в порядок и принял решение сдать их на временное, а в случае моей смерти на постоянное хранение в Архив Академии наук. Сохранится ли только и он?
Сейчас все мои мысли сосредоточены на том, как бы сохранить потухающую жизнь в Архиве Академии, которым я ведаю, и сохранить его как один из самых замечательных архивов по истории русской культуры и в особенности науки за два с лишним века.
А сил становится и у меня и у сотрудников все меньше…
1942. II. 22. Двести сорок шестой день войны. Худеет не по дням, а по часам М. Ф. Сейчас она в распределителе, где должны дать кусок мяса. Ушла с утра, не евши. Вчера с утра до вечера работала, бегала на рынок менять, в столовую за кашей. Боюсь, не хватит у нее сил. А у меня хватит? Креплюсь. Но порою совершенно теряю силы.
Зашла студентка А. В. Нехорошева-Карпинская. У нее осталось всего три экзамена — и университет был бы закончен. Она не эвакуируется, и ее отчисляют. В университете очень много волнений: ехать, не ехать? Нехорошева не едет из-за матери, которой трудна была бы дорога сама по себе. Там не лучше будет, здесь не хуже. «Там мы беженцы, здесь у нас есть крыша, кое-какие вещи, которые мы можем менять». Две ее тетки, мать и она борются цепко и крепко за жизнь. Дед их, Александр Петрович Карпинский, вложил в них большую волю к жизни, жизнеспособность.
«Мой прежний ужас сменился злостью, — сказала она мне. — Если я переживу войну и мне будет лет 50, я напишу воспоминания. Я все напишу, что люди забудут. Или не захотят вспоминать. Ведь сейчас никто ничего не записывает: не время, а те, которые бегут из Ленинграда, будут только о себе рассказывать. Поэтому я все стараюсь запомнить, чтобы потом записать».
Я ни словом, конечно, не обмолвился, что именно сейчас пишу все, что вижу, что думаю, что переживаю. Сейчас, непосредственно, не боясь противоречий, длиннот, повторений. Ибо такова жизнь. А то, что будет писаться-потом в виде воспоминаний, будет далеко не то, что мы переживаем сейчас.
…Наискосок от нашего дома, у самого моста поставлены три тяжелых морских артиллерийских орудия. На набережной опять военное оживление, напоминающее сентябрь. Все время, покуда ехал на службу, стреляли. Снаряды разрывались где-то в районе Невского, Садовой.
Впечатление все виденное оставило очень тяжелое. Предстоят нам большие впереди испытания… И надорванный организм М. Ф., напряженная нервная воля ее не выдержали сегодня: заплакала… Я гляжу на нее с тихим затаенным страхом — почернела, осунулась, вчера пожаловалась на нижнюю десну… Сегодня она и утром встала весьма слабой, а сейчас работает: принесла дров из подвала в наш третий этаж, затопила печку, буржуйку, поставила варить менее полфунта гороху на двоих на два дня, все, что мы имеем по карточкам до конца первой декады. «Пожалуй, я не выдержу», — говорит М. Ф. тихо и кротко. И слезы, крупные, катятся по маленькому сморщенному, старушечьему (!) лицу моей исключительно стойкой жены-друга.
Возможно, что и не выдержим! Спрашивал сегодня на службе, чем мы можем помочь Л. В. Модзалевскому. Оказалось, ничем!.. Жена его вряд ли выживет, возможно, что и он обреченный. Страшно об этом подумать вчуже!
Жизнь наша осложняется с каждым часом. Из города спешат уехать все, кто может. А впереди?.. «Впереди, — говорит моя М. Ф., — полная безнадежность». Я ее успокаиваю. Беру себя в руки. Достаю книжки стихов. Упиваюсь ими. «Ты философски смотришь на жизнь, — говорит мне М. Ф., — а я ее люблю просто… Понимаешь, люблю жизнь»…
После полудня ослепительно сияет солнце над белой пеленой Невы и ее набережных, покрытых только что выпавшим свежим снегом. Ехал, закрывая лицо от слепящего солнца, и думал: у меня есть вот это еще — настоящее мгновение. Оно есть! А о будущем не нужно думать!
Но на службе я и виду не показал… Был бодр, оживлен; беседовал с доктором истории Андреевым, что-то стряпавшим у плиты. Пытался организовывать возобновление работ в Архиве. Из плиты от горевших «дел», как всегда, летела зола, предо мной сидели угрюмые, усталые, голодные люди вроде полуумирающей Цветниковой, пришедшей после болезни, и больно сжималось мое сердце.
Дома — и холод и развал; и самое страшное — безнадежность нашего существования. Но я еще не сдаюсь!
…Так много передумано за это время. Записывалось мною многое, но не все. Конечно, мои записи требуют тщательной редакции. Но покуда мне хотелось успеть записать хоть часть своих мыслей, переживаний, пусть без достаточной системы и выдержанности стиля… Моя торопливость оправданна.
Сегодня на тротуаре мне нужно было пропустить встретившиеся сдвоенные саночки. На них лежал чей-то труп, бережно и любовно зашитый в голубое плюшевое одеяло. И сам не знаю почему, я как-то вздрогнул. Почему? Ведь это такая привычная картина в Ленинграде наших дней. Другие из проходивших и «глазом не моргнули»! Излишняя нервозность, чувствительность? Ну, как хотите называйте. Вздрогнул. Именно от этого голубого плюшевого одеяла. На многие трупы смотрел равнодушно, завернутые в холстину или тряпье. А вот голубой цвет одеяла на морозном солнце был так ярок, что запечатлелся в глазах, как и тот голубой цвет, который слепил глаза за с
убрать рекламу
олнцем.
Встретились мы около университета, опустевшего, оставленного родного моего старого здания… Так я и доехал в задумчивости до Академии художеств, тоже опустевшей и оставленной… Около главного входа, запертого, снег, и кто-то на нем оставил темно-бурые следы испражнений. Напротив сфинксы, мои неизменные спутники в течение этих двенадцати с половиной лет моей жизни. Кругом них кучи снега. И сами они в снегу. Но стоят, покуда стоят. И мне делается спокойно. О 3500-летней предыстории человечества говорят они мне. Настоящая история человечества впереди!»
Как работали на «Дороге жизни», написано немало, да и нам рассказывали об этом многие. Ольга Ивановна Московцева тоже работала на трассе, но дочь ее оставалась в Ленинграде. При первой возможности Ольга Ивановна поехала за ней. Девочке было тринадцать лет. Ольга Ивановна попросила у своего начальника вперед, в долг, «буханочки две хлеба», капусты, не черной, какой им давали, а — «беленькой капустки, потому что девочка слабая, больная, поднять ее надо. И селедочки. Ну, в долг мне свои рабочие дали кусочки. Я набрала тарелочку и привезла ей. А она меня выгнала: не надо мне этого хлеба, я лучше буду умирать. Ты где взяла две буханки? Ты украла! Я говорю, я не украла, я командированная, вот документы и на хлеб документы… Я ее забрала. Она не могла ходить. Ее в машину отнесли, мне помогли. Везем через Ладогу — смотрим, жива она или нет? Потом стала немного похаживать. Я ее водила на кухню. Она стригла, там хвою. Для витаминов. Мы железную дорогу строили к Ладоге…»
Хотя и в первой части «Блокадной книги» и во второй встречаются рассказы, воспоминания, дневниковые записи об эвакуации детей, населения Ленинграда, мы не имели возможности сколько-нибудь связно рассказать о том, как создавали «Дорогу жизни» через Ладогу. Те факты, события, которые мы здесь приводим, были лишь частью общей трудной работы по спасению ленинградцев.
Пачка пожелтелых листков, прихваченных заржавелой скрепкой. Докладные от одного бытового отряда. Все они про М. Лазарева, двадцати одного года, живущего по Международному проспекту, 18. Девушки комсомольского отряда, судя по первой докладной, обнаружили его одинокого, лежащего в беспомощном состоянии.
«У него истощение, родных никого нет, присмотра нет. В настоящее время он лежит в чужой комнате, но и эта семья эвакуируется 31/III 1942 года. Тов. Лазарев должен остаться во всей квартире один. Дров у него нет. Сам он работает на заводе Марти, цех 22. У него нет денег, некому сходить за карточками. После смерти матери остались в ломбарде вещи. Он просит как можно быстрее отправить его в больницу».
Докладная подписана членом бытового отряда по обследованию трудящихся Крыловой 29 марта 1942 года.
Секретарь райкома пишет: «Связаться с Октябрьским райкомом, с тем чтобы последний оказал содействие т. Лазареву лечь в заводской стационар».
Пока же члены отряда продолжали посещать Лазарева. Каждый день они отмечают в рапортичках:
1 апреля: «Больному Лазареву получили заборные книжки, прикрепили их, выкупили хлеб, принесли обед из столовой, накормили. Командир звена К. Швецова».
3 апреля: «Получили деньги на заводе Марти за больничный. Принесли обед из столовой, накормили».
4 апреля Швецова и Кирюшкина выкупают хлеб, приносят обед, кормят и моют больного. И так продолжается каждый день до 9 апреля. Последняя запись: «… по его просьбе ходили в поликлинику № 28 Фрунзенского района, вызвали врача. Командир звена К. Швецова, боец Кирюшкина».
Больше рапортичек нет.
Эти отряды — чем они только не занимались! Боец Алексей Шитов просит в письме с фронта зайти в его квартиру на проспекте Маклина посмотреть, «в каком она положении, а если заселена, то кто живет в ней, чтобы я мог списаться с тем товарищем. Дело в том, что я жду писем от родных, а они, может, валяются там без ответа, ибо никто в доме моего адреса не знает».
Партком оборонного завода благодарит председателя оптовой комиссии Сидорову М. за помощь бригаде, приехавшей из тыла за семьями работников завода. Насколько можно понять из текста записки, бригада должна была разыскать 190 семей. Многие из-за обстрела, пожаров переселились, переехали, кто умер, кто лежал в больнице. Их положение и состояние сумели выяснить девушки этого бытового отряда. Объем их работы можно представить себе хотя бы по тому, что в городе транспорт не работал, надо было ходить пешком по бесчисленным адресам, посещать госпитали, жакты, детские дома. «Мы, эвакобригада, получили от вас полностью ясный и точный ответ по всем семьям. Еще раз благодарим весь коллектив бытового отряда».
Невозможно подсчитать и учесть вклад в победу Ленинграда сражающегося, Ленинграда работающего. Конечно, можно назвать количество разгромленных дивизий и частей врага, отремонтированных на Кировском заводе танков «КВ», выточенных снарядов, мин. А вот как учесть вклад тех, кого Князев называет пассивными защитниками Ленинграда, кто просто жил и старался не даться смерти в блокадном городе, спасти детей, как Лидия Охапкина и тысячи других женщин? Или таких, как Юра Рябинкин? Не будем подсчитывать погашенные им зажигалки — если бы их даже не было, Юра все равно оставался бы частью Ленинграда живущего.
Каков вклад в победу таких вот ленинградцев, которые сегодня даже не считаются участниками Отечественной войны, ее ветеранами? Поэт Сергей Наровчатов, воевавший в Синявинских болотах, сказал нам: «А ведь мы не смогли бы столько держаться там, голодные и обессиленные, если бы рядом не было живого города, огромного и живого Ленинграда! Просто лес, просто болота так защищать невозможно было бы».
И Лидия Охапкина, и Юра Рябинкин — живые, не дающиеся голоду, отчаянию, — тоже были необходимой частью Ленинградского фронта. Да и только ли одного Ленинградского?
«Москва держится, Ленинград не сдается!» — как это важно было слышать, знать в лесах Белоруссии, не задним числом, а именно оттуда, из военного времени, память одного из авторов извлекает чувства и факты, подтверждающие, как много значило для белорусских подпольщиков и партизан то, что Ленинград держится. Для нас важно было, что Ленинград не просто стоял несокрушимо, а то, что он как бы обесценивал силы и самоуверенность врага. Мы тогда не знали, не могли знать, какой ценоой, какими усилиями это дается. Важно было, что он держался — после того, как мы собственными глазами видели ошеломительное начало немецкого марша на восток. Ленинград остановил этот марш и указал на предел немецкой силы. Он был очерчен, этот предел, разгромом немецкой армии под Москвой. Город на Неве демонстрировал бессилье врага, оно тянулось годами, это кошмарное для Гитлера бессилье сделать хотя бы шаг вперед.
Тогда мы не знали, кому поклониться за эту казавшуюся нам издали, из Белоруссии, железной стойкость ленинградцев. Участие в работе над «Блокадной книгой» автора-белоруса будет таким поклоном, хотя и запоздалым, всем, кто сражался в городе. Теперь мы видим, что они не были из железа, реальные ленинградцы, но тем большего уважения заслуживают они.
«…ЗАЧЕМ-ТО ШАПКУ СНЯЛ»

Надежду на выезд Лидия Охапкина уже потеряла, когда 4 марта к ней пришел тот же лейтенант, (то приносил посылку от мужа, и попросил срочно готовиться к отъезду.
«Поедем мы через Ладожское озеро на машине. Для этого мне надо оформить проездные документы через райисполком, а потом заехать на Чайковскую улицу за посылкой. Я была так рада, так рада. В этот же день я пошла в райисполком Васильевского острова, оформила там документы. Они меня предупредили, что дорога опасна. Что были случаи, что машины проваливались через лед. А главное, добавили, что мы за это не несем ответственности. Мне было смешно это слушать, и я сказала: а если мы здесь умрем от голода, вы несете ответственность? Нет, я поеду, что бы там ни случилось, и пошла на следующее утро за посылкой, накормив своих детей и поцеловав их. Я взяла санки и пошла сначала к старшему брату мужа за чемоданом, где у меня были кое-какие вещи, как, например, костюм мужа, мое осеннее пальто. Жил он на Первой Красноармейской улице, путь опять дальний. Дошла туда без особых событий. Город по-прежнему был мрачный и седой, весь в сугробах. Но солнце уже заглядывало как на дома, так и в лица людей, и мне казалось, как будто у них стали чуть повеселее глаза. К тому же в феврале прибавили хлеба на детей и меня на 50 граммов. Забрав у них свой чемодан, я попросила их проводить меня. Пообещала поделиться тем, что будет в посылке. Я ее еще не получила. Они отказались. Вид у них тоже был истощенный. Я поехала опять через весь город на Чайковскую улицу, чтобы взять посылку. По дороге опять зашла за хлебом и весь его съела, так как надеялась, что детей накормлю тем, что будет в посылке. Все время беспокоилась о детях. Как там они одни, некормленые, наверно, лежат и плачут. Стало уже темнеть, время было 8 часов вечера. Когда я оформила все документы и взяла посылку, я поехала домой. Верней, повезла…»
Трудное, мучительное путешествие ее через весь город мы приводили в первой части и здесь позволим себе исключить из рассказа.
«Доехала наконец до дома, когда время уже было три часа ночи. Я не могла перетащить санки через высокий порог ворот. Оставила все на улице и чуть ли не ползком добралась по лестнице до двери. Открыла ее и стала звать Розу, на миг заглянула к себе. Дети, услышав мой голос, заплакали в два голоса. Ах, милые вы мои, живы, сейчас я вас накормлю. Мы с Розой скорей спустились по лестнице. Я ей говорю: беги скорей, там у ворот санки стоят, скорей! Там много еды, я накормлю тебя досыта. С большим трудом мы втянули весь багаж. Я разделась и упала на кровать обессиленная. Дети плакали, я минут двадцать не в состоянии была к ним
убрать рекламу
подойти. Потом открыла посылку, в ней оказались почти одни ржаные сухари и только две пачки пшена. Скорей растопили печку и поставили варить кашу. Накормила детей и Розу. Всю ночь собирались. Я была не в состоянии двинуть рукой. Роза позвала двух женщин, и они мне помогли, а я им дала сухарей.
На следующий день, 6 марта 1942 года, с багажом и детьми я двинулась снова на Чайковскую. Там был сборный пункт. Одна женщина мне взялась везти вещи, а я детей. Ей я уже отдала полкило пшена и четыре ржаных сухаря. Время было 11 часов, а сбор назначен на 12 часов. Она, как и я, была слабая и с трудом тащила санки. Мы обе еле передвигались. У обеих не было сил, я очень нервничала, боялась опоздать. По улице мела метель с большим ветром. Время было уже половина второго, а мы только добрались до Литейного моста. Днем там разрешалось ходить. Что, если, мы опоздаем? Все мои мучения, трата последних сил будут напрасны. Я уже раздала почти все сухари, крупу тоже. Значит, опять голодать. От этих мыслей у меня разрывалось сердце. В висках стучало. Я опять взмокла. В дорогу на себя я надела чистое белье, два шерстяных платья и еще поверх костюм мужа для тепла и сохранности. Мне стало жарко. Я расстегнула пальто; ветер обжигал мое лицо, но я ничего не чувствовала. Одно последнее напряжение, еще шаг, еще. Опять считаю шаги. От этой дороги, ветра я потом простудилась, и у меня был гнойный плеврит с высокой температурой, но об этом после.
Наконец мы доехали, было три часа. Машина стояла, не уехала. Оказывается, не только я, а другие тоже опаздывали. Когда я садилась в машину, меня еще раз предупредили, что дорога опасная. Обстреливается и тому подобное. Я сказала, что знаю и все равно еду. Проезжая по городу, мысленно с ним прощалась. Прощай, мой многострадальный город, думала я, прощайте люди.
По озеру тоже мела небольшая метель. Вначале ехали быстро, потом совсем тихо. Впереди шел человек, осматривая дорогу, и лыжей разгребал снег, так как боялись ям, которые были от снарядов, и лед там был некрепкий.
Об этой дороге я написала стихотворение:
Дороги, дороги, вас много кругом:
Широких, веселых и гулких, как гром.
Проносятся ветры, весенние грозы,
На кромках растут тополя и березы.
Я помню и знаю дорогу иную.
Дорогу по Ладоге, всю ледяную,
По ней вывозили людей из блокады…
По этой дороге в метель, на машине я ехала с маленькой дочкой и сыном.
…Нас ехало человек 10–12. Только женщины и дети. Шофер был военный, и с ним сидел в кабине тоже мужчина.
Я была самая слабая. Мне казалось, что мы едем долго, долго. Машина была обнесена фанерой, в нее набирался немного отработанный газ. У меня голова кружилась и болела. Я и дети находились в полуобморочном состоянии. Меня тошнило, несколько раз рвало, знобило. Я чувствовала, что поднялась высокая температура. Я вся горела. Мне кто-то давал какое-то лекарство. Клали на голову мокрое полотенце. Я сделалась безразлична ко всему, теряла сознание. Когда приходила в себя, спрашивала, где мы, где дети. Мне отвечали: здесь, в машине, живые дети. Их кто-то кормил, кто-то сажал на горшок. Я не могу себе представить, как я могла выдержать эту дорогу. Обессиленная от голода, от напряженных перевозок, вдобавок простудилась, с высокой температурой. Наверно, инстинкт матери боролся за жизнь детей, как говорят, до последнего вздоха.
…Первая остановка. Первый эвакуационный пункт. Нас встретили добрые, хорошие люди. Помогли сойти с машины, перенесли детей. Меня положили на лавку. Был построен большой, из новых досок, сарай. По краям, скамейки. В середине две или три железные печки, которые беспрерывно топились. Нам принесли еду. Детей кормили манной кашей на сгущенном молоке. Мне принесли мясной суп с лапшой. Но я ничего не могла есть. Весь рот и горло чем-то были обложены, были шершавые. Я не могла глотать, да и аппетит пропал. Свой обед я отдала шоферу. На другой день мы снова поехали. Мы должны доехать до города Череповца. Там временно стояла войсковая часть мужа. В пути мы еще останавливались в одной деревне Ленинградской области. Почти вся деревня была сожжена немцами. В одном из уцелевших домов мы все переночевали. Я чувствовала себя очень плохо и страшно кашляла. Жар все время держался. Но, мне давали аспирин, который был у одной женщины. Затем была еще одна остановка в городе Тихвине. Этот город почти весь был разбит.
…Наконец мы доехали до города Череповца, это было 11 марта 1942 года. Когда машина остановилась у одного дома, мой муж сразу вскочил в машину. Посмотрел кругом и выпрыгнул. Он нас не узнал, а я его, конечно, сразу. У меня от волнения перехватило дыхание, и я не смогла окликнуть. Дети его не узнали. Он был одет по-военному. Я слышу, он спрашивает, приехала я или нет. Ему отвечают, что она с детьми находится в машине. Он снова вскочил и стал смотреть. Стал узнавать, узнавать и хриплым голосом: «Вы, вы?!» — снова выпрыгнул из машины. Он заплакал и зачем-то шапку снял. Потом, наконец совладав с собой, сказал: «Лида! Толя! и снова из глаз показались слезы. Я ничего не могла ему ответить. Смотрю и молчу. В горле словно ком. Хочу сказать, а язык как онемел. Машина была завалена, тюками, и я сидела в самом углу. Тогда он позвал: «Толя, ну иди же ко мне скорей». Я как не свои голосом: «Он не ходит». Весь этот разговор был, как я его описываю. Встреча была радостная и горькая. Она на всю жизнь у меня останется в памяти. Потом по очереди Он нас вытащил и перенес в какой-то дом. Нам на четыре семьи дали пустую комнату. Каждая семья заняла угол.
…В комнате было темно. Город Череповец на ночь тоже затемняли. Мужья здоровые, а жены истощенные. Жены с мужьями тихо перешептываются, всхлипывают. Я не могла говорить. Мне мешал кашель. У меня был жар, болела голова, грудь. Хозяйка где-то достала молока и горячего дала пить мне и детям. Она сказала, что завтра можно достать еще молока и картошки. Я была очень рада. Мне не верилось. Молоко, картошка — какое счастье! Я решила сменить белье. Когда я разделась, показала себя голой мужу. Смотри, говорю, какая я стала. А была я скелет, обтянутый кожей. Особенно была страшна грудь — ребра. А я была кормящая мать, когда началась война. Ноги тонкие, чуть потолще пол-литровых бутылок. Вася взглянул, опять заморгал глазами. Ничего, сказал он, когда кости целы, будет и тело. Никакой близости между нами не было, и не могло быть об этом даже речи, хотя не виделись мы десять месяцев. В этой комнате мы прожили пять дней. Потом решили ехать в Саратов. Мужу дали отпуск на десять дней. В Саратове у меня родные — мать и две сестры. Мы сели в эшелон, который ехал из Ленинграда. Вагоны были товарные. Ехать было опять холодно и неудобно. Пассажиры были эвакуированные из Ленинграда, такие же худые и истощенные, как и я. С нами поехала жена и сын того лейтенанта, что приходил к нам в Ленинграде. И он сам. Они хотели со мной в Саратов. Во время пути истощенные и больные люди умирали.
На каждой остановке нас кормили, и муж с кастрюлькой бегал на вокзал. Приносил кашу или суп, я почти ничего не ела. Мне все больше и больше нездоровилось. На одной остановке я тоже вышла подышать свежим воздухом. Муж в это время кормил детей. Вдруг поезд без всякого свистка и предупреждения тронулся. Я побежала, задыхаясь, к своему вагону, это было недалеко, и я успела схватиться за скобку. Поезд набирал скорость, и мои ноги, пока снег был у платформы разгребен, не касались колес. Кто-то закричал: «Лида на улице!» У меня перед глазами мелькнуло лицо мужа, лица детей и мысль как молния: «Вот где я должна умереть! Не от голода, не от бомбежки, а вот сейчас». И я потеряла сознание. Вася успел схватить за воротник пальто. Ему тот лейтенант помог меня втащить в вагон. Когда я очнулась, то носки у моих валенок были отрезаны. Один большой палец правой ноги был придавлен, из него сочилась кровь. Если бы валенки мне были не велики — они были большого размера, не мои, а мужа, — то, возможно, я лишилась бы ног — по ступни, а то и выше. Если б муж хоть на секунду позже схватил меня за воротник и не оттянул от колес, меня поезд задавил бы насмерть.
После такого переживания и болезни я совсем свалилась. Беспрерывный кашель с высокой температурой меня измучил, и я думала, что умру в дороге. Поезд ехал медленно. На одной остановке вошли санитары. Врач бегло осматривал людей и приказывал слабых, особо больных выносить на носилках. Когда взглянул на меня, тоже велел забрать, сказал: «Эту в больницу — сыпной тиф». Я сказала, что сыпняком болела еще в двадцать втором году, девочкой, и что у меня, наверное, воспаление легких. Он: «В больнице разберемся».
Кожа на теле у меня была сухая, шелушилась от истощения, и на ней была как бы сыпь, как у ощипанной от перьев курицы. Вот врач и подумал, что у меня тиф. Муж мой испугался. Если меня в больницу, то куда же денутся дети? Мы решили, пока врач и санитары ушли, скорей выйти на другую сторону поезда, прямо в снег. Та женщина с мужем и сыном вышла вместе с нами. Поезд тронулся, мы остались сидеть на своих вещах на снегу. Мужья наши пошли узнать, что за станция, и достать лошадей с санями, чтобы нас довезти до вокзала. Когда они вернулись на санях, муж сказал, что это станция Семибратово Ярославской области. Мы погрузились, подъехали к вокзалу. Меня положили на лавку, я не могла ни идти, ни стоять. Нас окружили люди, смотрели на меня. По-видимому, мой вид их особо интересовал и пугал: «Какая худая и страшная и имеет грудного ребенка», «Да это, наверное, не ее», «Это, может, бабка ребенка».
В одной из деревень Ярославской области мы остановились. Нас долго никто не решался пускать, боялись меня, думали, что я заразная больная. Потом одна женщина пустила. Муж на следующий день уехал. Купил для нас мешок картошки. Достал с полкилограмма деревенского сливочного масла и молока. На прощание он меня поцеловал в лоб. Я ему сказала, что ты меня целуешь, как покойника. Он тогда поцеловал в губы. Я долго болела. Приходил деревенский врач
убрать рекламу
, который тоже определил, что у меня тиф. Хозяйка испугалась, и меня вынесли в чулан, холодный и грязный. Там я пролежала два дня. Потом, когда снова пришел врач, как следует меня прослушал, то определил легочное заболевание. Я попросила, чтобы он ставил мне банки. Он стал приходить и ставить. Я болела больше месяца. Потом стала поправляться. Когда поправилась, стала работать в колхозе колхозницей. Из сил выбивалась, чтобы что-то заработать. Все, что я привезла из одежды, меняла на молоко для детей. Я в жизни не была в деревне и не знала крестьянской работы, но жизнь научила. В деревне я прожила три года».
Такова история Лидии Охапкиной. Это история матери, которая спасала своих детей. Могут сказать — тут ничего исключительного, героического, так и должно быть… Наверное. Исключительным было только счастье матери, спасшей своих детей и победившей, казалось, саму смерть. Лидия Охапкина еще не знала, что ее Ниночка все-таки умрет от туберкулеза и тяжелого желудочного заболевания, которое привезла из Ленинграда. Умрет уже в эвакуации, как и тысячи, тысячи других ленинградцев, которым казалось, что они вырвались из ледяных объятий блокадной смерти.
Когда читаешь записки Лидии Охапкиной, думаешь о том, как столкнулись здесь любовь и голод. Говорят — «любовь и голод правят миром». В этом выражении предполагается два решающих чувства: то одно из них перевешивает, то другое. Здесь же они столкнулись в открытой лютой схватке в сердце женщины-матери. Конечно, трое Охапкиных могли умереть в Ленинграде от голода, но и это не было бы поражением любви. Материнская любовь Лидии Охапкиной устояла. Ничто не могло ее сломить.
Думая о Лидии Охапкиной, мы невольно сопоставляли ее с Юрой Рябинкиным и Г. А. Князевым. Если определить главное, что происходило в каждом из них, то, наверное, это будет: работа совести — у Юры Рябинкина, работа разума, духа — у Георгия Алексеевича Князева и работа любви — у Лидии Охапкиной. Это, конечно, упрощение, в нем многое теряется, но именно эти три начала прежде всего представлены в их дневниках, записках. Так получилось — трое наших героев воплотили три решающие опоры человеческого бытия.
ПРАВЕДНЫЕ И НЕПРАВЕДНЫЕ

Г. А. Князев:
«1942. IV. 9. Двести девяносто второй день войны. Тороплюсь жить. Проснулся сегодня рано утром, и заработала мысль. Надо сделать это, кончить то, успеть в несколько месяцев хоть частично выполнить, на что и трех лет было бы мало!
И записать многое хочется… О женщине, жене-друге хотелось бы писать гимны, поэмы. О женах, боровшихся и спасавших, но все же в большинстве потерявших своих мужей — астронома Берга, археолога Чаева и многих других, — вплоть до той простой женщины, которая мне рассказывала о последних часах своего мужа — вахтера Центрархива Блохина.
Будущий поэт, которому, быть может, попадутся на глаза эти мои исписанные листки, вдохновится и напишет такой гимн или поэму жене, беззаветно и самоотверженно переносящей все тяготы и отстаивающей всеми своими силами своего мужа… Тем, что я покуда жив, всецело обязан М. Ф. Какая она у меня без всяких красных слов самоотверженная труженица и скромная героиня!..
1942.IV.13. Двести девяносто шестой день войны. Кто-то сказал: «Слишком широк человек, не мешало бы его сузить…» Всю эту зиму я живу лишь настоящим мгновением; но в то же время живу в прошлых веках, тысячелетиях, создавая хронологическую канву для истории культуры: «По культурным вехам и кровавым провалам». Какая необъятная широта в возможностях человека: взлеты, падения, гении, подобные космическим звездам первой величины, и изверги, негодяи; чьи имена знает история и миллиарды тех безвестных, никому не ведомых, которых никто никогда не может вспомнить, потому что ничего не знает о них, но которые жили и умирали, которые, в сущности, и есть человечество!..
Вот жизнь как она есть; вот люди как они есть… И жутко, жутко делается: что они сделали с дарованной для их жизни землей, во что они превратили ее!.. Кровь, слезы, пожарища, насилия, виселицы, расстрелы, грабежи и страдания, страдания во всем мире!.. И сделали это люди, те, которые имели среди себя и Христа, и Сократа, и блаженного Августина, и Конфуция, и Лао-Тая, и Будду, и Толстого!..
1942.IV.12. Триста двадцать пятый день войны. Оказывается, у меня есть современник, который записывает слухи. Я, как уже отмечал, не записывал их, я брал лишь факты; и только тогда записывал слух, когда он касался какого-нибудь факта, который я не мог проверить. Этот мой современник — Е. Г. Ольденбург.
Сегодня она мне помогала снять со стены дома плакат с надписью о защите родного города. Плакат этот провисел всю зиму под дождем, снегом, метелями, обстрелом: «Не сдадим родного города!» Ленинградцы отстояли свой город. Через несколько лет, через 50—100, плакат этот будет музейной редкостью. Пред ним потомки наши преклонят свои головы. Этот лоскут бумаги, бережно сохраненный, будет рассказывать о пережитом в Ленинграде больше, чем сотни написанных страниц. Он живой документ своего времени…
И вот когда Е. Г. Ольденбург помогала мне снимать со стены этот плакат, то и сказала, что она исписала несколько тетрадок, записывая все свои впечатления день за днем и все, что она слышит, слухи.
Итак, не один я пишу. Но так, как я пишу, другой не пишет. Мы видим и переживаем все ведь по-своему, неодинаково…
Ромашевский с начала войны вел регулярную запись тревог (таковых он насчитал до мая 1942 г. — 359), а во время дежурств — всех случаев. То же, оказывается, записывал и В. А. Петров. Кое-что записывал я. Значит, материалы у нас выявляются, и их немало! Надо только зарегистрировать бы их, сохранить, изучить…
Узнал, что в нашем доме в течение зимних месяцев из 200 жильцов умерло 65, т. е. около 35 %».
А это читаем в другом дневнике:
«26. IV.42. Мне рассказывали, что умер один старик, он был до некоторой степени причастен к искусству. Среди его вещей нашли им сделанную медаль с надписью «Я жил в Ленинграде в 1942 году». Быть может, после войны и следовало бы такую медаль дать всем ленинградцам.
И еще: я бы на каком-либо красивом месте в городе или в одном из парков поставила бы памятник всем тем, кто умер во время блокады, и на камне высекла бы цифру смертности. Это будет звучать еще более величественно, чем Люцернский лев» (К. В. Ползикова-Рубец).
Вот о чем они думали в апреле 1942 года, чуть ожив па первом теплом солнце. Они находились еще в физической немощи, умирали от истощения, по-прежнему на улицах рвались снаряды, рушились дома, но вот уже подросток Саша Нестеров подходит к зеркалу: «…дистрофик — я увидел это слово в зеркале».
Люди стали смотреть, и оглядываться, и видеть. Среди горя, любви, подвигов самопожертвования и долга узрелось и другое.
Происходила поляризация, хорошее выявлялось, обнажалось в своей красоте, плохое — во всей безобразности. Тут было разное: и мародерство, и спекуляция, кто-то наживался на голоде, воровали продукты, выменивали на золото, на драгоценности, картины, меха, были и такие, что пьянствовали, кутили («Однова живем!»), — всякое было в многомиллионном городе. Странно, однако, что в дневниках эти случаи приводят редко, их надо выискивать, о них писали меньше и вспоминают о них неохотно, хотя и соглашаются, что, если избегать этих фактов, картина получится неполной.
Побывали мы в своих обходах у одного известного коллекционера. В его рассказе прежде всего прорывалась гордость тем, как удавалось ему во время блокады пополнять свою коллекцию. Как выменивал вещи у других коллекционеров, умирающих, на какие-то крохи хлеба. Может быть, выпрашивал у тех, кто эвакуировался и не мог забрать с собою. В его рассказе, разумеется, все выглядело пристойно. Он не выпрашивал — он «помогал»! он «сохранял» то, что могло вообще погибнуть в разбомбленных домах, он «спасал» у тех, кто умер с голода, бесценные собрания, которые соседи могли сжечь в печках. Его ни в чем нельзя было уличить, поэтому мы не имеем никакого права называть его фамилию, но ощущение от его рассказа возникло вполне определенное и неприятное. Конечно, как истый коллекционер, он был фанатичен. Коллекционеры бывают корыстны, жадны, настырны, они готовы унижаться, клянчить, даже обманывать. Но здесь было нечто иное. В этой большой квартире в закутке умерли от голода его отец, потом мать, а он все выменивал, добывал, пополнял свою бесценную коллекцию. Он показывал нам огромные шкафы, украшенные бронзовыми бюстами древних писателей, редкие монографии, гравюры, свою знаменитую картотеку. То были действительно уникальные вещи, но они уже не вызывали у нас восторга. Мы не могли ими любоваться. Слишком явственно виделась за всем этим трагедия блокады. Бессовестно и беспощадно пользовался он этой трагедией, собирая попутно не только предметы своей страсти, но, очевидно, и прочие художественные ценности.
Признаться, мы в своих розысках ни разу не встретились с блокадником — спекулянтом, хапугой, с тем, кто нажился на бедствиях войны, брал за буханку хлеба золото, картины, кто скупал меха, мебель, бронзу, фарфор — за хлеб, за крупу. Не встретились с теми, кто обирал в больницах больных, кто воровал продукты в столовых, в детских садах…
Они, конечно, были, но никто ведь не признается, не скажет это про себя. Наверное, они были среди тех, кто уклонялся от разговора с нами, кто отказывался принять у себя дома.
После войны немало было случаев, когда блокадники обнаруживали на ком-то свои вещи, у кого-то — семейную реликвию.
«И вот такой случай… У меня была маленькая брошечка в виде кортика. Муж моей тетки был морским офицером, и как-то он сделал ей на заказ такую брошечку — кортик золотой, ножны черненые и слоновая кость. Это осталось у мамы с другими вещами тети…
убрать рекламу
p>
Прошло много лет. Как-то пришла я в парикмахерскую. Сижу. И вдруг входит девушка, а у нее приколот этот кортик. Я растерялась — такое совпадение! Я не могла ошибиться, потому что это была на заказ сделанная вещь. Я очень растерялась. И все. Больше я ее не встречала. Так и пропало, конечно» (Нина Вячеславовна Сезеневская).
В те блокадные дни на здоровых и сытых лицом смотрели подозрительно, недружелюбно, заранее причисляя к жуликам.
Иван Алексеевич Савинков в сентябре сорок второго года уже замечает в своем дневнике «нуворишей», или, как он их называет, «новую аристократию», тех, кто жульничал, наживался, расхищая продукты, — он отличает их сытый вид, самоуверенность, наряды.
Но вот Г. А. Князев под фашистскими бомбами самозабвенно читал стихи Иоганна Вольфганга Гёте:
Мою ты землю не пошатнешь
И хижину мою:
Не ты ее построил…
Ни корысть, ни эгоизм, ни соблазн как-то уцелеть за счет других не поколебали таких, как Князев, не пошатнули их «землю» — их совесть.
ТЯЖЕСТЬ КНИГ

«1942.III.14. Ничего особенного. День как день… Ночь как ночь в осажденном городе, — такими представляются двести шестьдесят шестые сутки войны Г. А. Князеву. — Блокада не разорвана, и отсюда все качества… Давно решено у меня — о будущем не думать. Теперь вопрос ставится снова — что будем делать. У нас было бесповоротное решение — оставаться в Ленинграде и никуда не уезжать. Теперь сама жизнь ставит вопрос о выезде из Ленинграда. Следующей зимы, если мы и дожили бы до нее, в разрушенном городе, без дров мы не проживем. Нынешней зимой десятки, если не сотни тысяч истощенных голодом людей просто захолодели и замерзли в своих нетопленных комнатах. Ждать такой перспективы с «философским спокойствием» бессмысленно. Значит, надо решать вопрос о выезде из Ленинграда. Но куда? А с Архивом как?
И встало вдруг серой стеной это грядущее, пришлось задуматься о будущем…
На службу сегодня не смог поехать из-за неисправностей моего ручного самоката и слабости М. Ф., которой было бы не справиться сегодня со своими обязанностями и слесаря и шофера.
И я целый день читал стихи Бодлера, Верлена, Верхарна и других…
1942.III.15. Двести шестьдесят седьмой день войны. Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось 55 лет… Я устал, истощен от голода и холода, измучен нравственно, смят вихрем событий, но я не старик, я не «отсталый». Я еще достаточно чувствую в себе сил, чтобы бороться, а если будет нужно — умереть… Что ж делать! Жизнь прожита. Не удалось, правда, три — пять лет прожить на покое, заняться своими книгами, коллекциями, неоконченными замыслами… Пришли лихие времена. Весь мир, вся наша планета в пламени огня.
Встал рано. Одевался у печки. Какое счастье греться в холодной комнате у теплой печки. Она была истоплена на ночь и к утру еще не остыла. Сижу сейчас за столом. Правда, в комнате развал; от затопленной буржуйки идет едкий дым и ест глаза… Но какое счастье, что еще около меня М. Ф. Она бодрится. Сейчас готовит кофе. Пусть у меня стынут руки и она и я в зимних пальто (на дворе опять мороз — 19°!), но мы живем. И она и я любим друг друга…
— Дорогая моя Кичи (так я зову своего верного друга и жену М. Ф.), подойди ко мне…
И я целую ее, такую худенькую, состарившуюся… А она улыбается мне своими все еще лучистыми глазами, чистыми, нежными, ласковыми.
— Радость моя, оплот мой, друг мой, верная радостная жена моя…
Я не кончаю. Я про себя думаю: «Неужели кончилась наша жизнь, все кончилось?..» И гоню, гоню эти мысли. Не надо их.
Мы садимся пить кофе. Я грею руки М. Ф. На столе у меня Петрарка, Верхарн, Ал. Блок… Сколько мыслей, образов!..
Мы еще живем!»
Книга много значила и много делала в ленинградской блокаде. Ленинград — город, насыщенный книгой, книжными собраниями: государственными, институтскими, частными. Может, по количеству книг на жителя это был первый город в стране. Причем книги скопились первоклассные, редкостные, антикварные. Ленинград славился своими букинистами. Перед войной на Литейном проспекте большая часть нижних этажей была занята книжными магазинами. Вдоль садовых оград стояли развалы букинистов. И ближние улицы — Белинского, например, — тоже были заняты книгами. Здесь можно было найти все или почти все — старый французский роман, брошюры первых лет революции, церковную книгу, немецкие технические справочники. Букинисты в валенках, в шубах, похлопывая рукавицами, ходили вдоль лотков, заваленных книгами, где рылись любители.
От блокады книга сильно страдала. Ее жгли пожары, она гибла при бомбежке, ею, наконец, топили буржуйки, плиты, ею разжигали, ею обогревались, и за это невозможно осуждать людей. Но книгу и защищали, ее спасали. Есть замечательные рассказы работников Публичной библиотеки, которые в самое голодное, отчаянное время перетаскивали в хранилища частные библиотеки умерших собирателей, ученых, библиофилов, те собрания, которые остались бесхозными, спасали книги из разбомбленных домов. Тащили их на санках, на тележках, на себе через весь город в книгохранилища Публички. Никто не заставлял их, не было на то указаний, ничем эта работа не поощрялась. Они любили книгу, они служили книге, поэтому они ее спасали. Но это профессионалы-книжники. А были просто ленинградцы, питерцы, потомственные питерские интеллигенты.
Вот что рассказала нам Зинаида Александровна Игнатович, работавшая в научно-исследовательской лаборатории пищевой гигиены. Зинаида Александровна заведовала там отделом. До революции она прошла путь, довольно типичный для девушек, добивавшихся осмысленной трудовой деятельности на пользу людям: издалека приехала в Петербург, поступила в Женский медицинский институт, уехала работать на холеру, потом на тиф… Скромная, но по-настоящему идейная, интеллигентная труженица. Рассказанный ею эпизод — типично ленинградский.
«— В блокаду мы остались вдвоем с мужем. Он худой был. Он перестал работать уже в сорок втором году, не смог работать. Но он был невероятный книголюб. Двоюродная сестра моя была профессором, и ее удалось каким-то образом буквально в октябре уже, с трудом, но все-таки эвакуировать на Большую землю. Уезжая, она мне сказала: «Все вещи я бросила. Если будет возможность, когда-нибудь посмотрите, что там есть, потому что я с собой ничего не могла взять». Ну, весна в Ленинграде в сорок втором году задержалась, еще в апреле был снег очень долго. Наконец дни стали больше, и я говорю своему мужу: «Давай все-таки съездим к Верочке, посмотрим». У нас квартира осталась пустая, все эвакуировались. Сосед-инженер умер, жена его была на фронте. Пять комнат, а мы жили только вдвоем, больше никого не было. Мы связали двое санок и повезли их. Сестра жила у Марсова поля, нам нужно было пройти, наверно, километра два, через Неву, мимо Биржи. Ну, мы потихоньку пошли, подошли к Бирже. И тут начался страшный обстрел: снаряды падали то в воду, то возле Биржи. Я говорю: «Давай кругом Биржи обойдем, там все-таки тише».
Пришли мы в квартиру Верочки. Ну, квартира вся раскрыта, никаких вещей, конечно, нету, но шкафы с книгами целы. «О-о! — муж обрадовался. — Книги, книги-то целы! Я книги возьму!» Я, зная уже его слабость, говорю: «Знаешь что? Только бери самые интересные, потому что мы с пустыми санками еле-еле доехали». Но когда он все отобрал, я вижу — полные санки, двое санок, вот сколько книг навязано. Я говорю: «Столько книг?» А муж сказал: «Как можно бросить Достоевского? Если бросить, их ведь сожгут!» Поехали с этими санками. Перешли опять Неву у Биржи, и опять начался обстрел. Я говорю: «Давай опять завернем сюда». Когда мы начали заворачивать, я смотрю: вдруг он побледнел, хоп — упал! А я, главное, как сейчас помню, мы ведь долго прожили, прожили дружно, а я, представляете, думала не о том, что он умер, а как я его теперь до дому дотащу?!! Вот я и теперь помню это чувство! Не то, что он умер, что я потеряла его, а как я его мертвого дотащу?! Вот я его потихоньку под руки на ступени этой Биржи втащила. Положила. Начала смотреть пульс, потихоньку появился пульс. Понимаете!!! Он там посидел час, пришел в себя. Ну, конечно, чтобы он вез санки, уже не могло быть и речи. Бросить книги тоже нельзя. Пошли мы. Я его веду под руку и тащу вот эти самые санки, полные книг. Наверное, мы шли часа три до своей квартиры. Лифта не было, подниматься наверх не было уже никакой возможности. Мы оставили санки внизу. А я его еле дотащила до квартиры. На второй день утром он с постели встать не мог. Я ему оставила кое-какую еду, а сама пошла в институт.
— А санки с книгами там, внизу, остались?
— Да, так и остались. Прихожу с работы, вижу: санки пустые! Вот ужас, думаю, человек чуть не умер из-за книг, а кто-то на растопку взял! Стала подниматься к себе наверх, на пятый этаж. Когда я дошла до четвертого этажа, слышу странный такой звук, как будто собака идет на четырех лапах, вот так вот шлепает! Я думаю: откуда в сорок втором году собака? Давно ведь всех собак съели. Когда я поднялась на площадку четвертого этажа, вижу такую картину: муж, у него сзади торба с книгами, и он на четвереньках несет эти книги!!! Увидел меня, сел и говорит: «Вот не успел! Думал до тебя перенести». Идти он уже не мог. Так на четвереньках, как собака, перетаскал все книги».
Понять, даже разделить любовь к книгам вроде бы нетрудно из нашего благополучно-сытого времени. Кто не бросится тащить внезапно свалившееся книжное наследство сегодня! Но чтобы понять и разделить ту любовь к книгам и те чувства, надо действительно представить себя на месте блокадника-ленинградца — ощутить, хотя бы вообразить то состояние предельной истощенности, когда, казалось, все мысли, кроме главной — о хлебе насущном, высосаны голодом.
Ленинград
убрать рекламу
ская интеллигенция… русская интеллигенция… Часто пытаются эти понятия свести к образованию, к воспитанности. Но это нечто иное…
Человек умирает в самом прямом и грубом значении этого слова — и все равно идет за книгами! Как много может человек! Потому-то так важны для всех нас блокадные воспоминания — в них открываются запредельные силы человеческой души, состояния, о которых никто не знал, возможности, которые в обычной жизни остаются неосуществленными.
Приближается весна. Она приходит медленно, слишком медленно. На «Дороге жизни» ее не торопят, наоборот, там боятся, не хотят теплого солнца, спешат, пока лед прочный, скорее, скорее завезти в Ленинград побольше продуктов, эвакуировать людей.
Первыми оживали дети.
А. П. Гришкевич записал 13 марта в своем дневнике:
«В одном из детских домов Куйбышевского района произошел следующий случай. 12 марта весь персонал собрался в комнате мальчиков, чтобы посмотреть драку двух детей. Как затем выяснилось, она была затеяна ими по «принципиальному мальчишескому вопросу». И до этого были «схватки», но только словесные и из-за хлеба».
Завдомом тов. Васильева говорит: «Это самый отрадный факт в течение последних шести месяцев. Сначала дети лежали, затем стали спорить, после встали с кроватей, а сейчас — невиданное дело — дерутся. Раньше бы меня за подобный случай сняли с работы, сейчас же мы, воспитатели, стояли, глядя на драку, и радовались. Ожил, значит, наш маленький народ».
В эти же мартовские дни 1942 года Г. А. Князев записывает:
«Похлебка, дымящаяся похлебка на столе. И мы жадно хлебаем, лакаем, как голодные псы… Но рядом у меня книга, полная мыслей искристых, сочных, порою парадоксальных и спорных — «О поэзии в Библии» В. В. и карандаш для заметок. Я беру из нее, что мне нужно, живое и не поблекшее до сих пор, а остальное, как шлак, оставляю… Похлебка из… — я даже не знаю из чего! — кажется нам «пищей богов». Пожалуй, самое поэтичное в ней — это идущий пар, тепло.
М. Ф. принесла лишний кусок хлеба, который обменяла на рынке на рубашку. Какое счастье еще жить так!
И буржуйка сегодня не дымит. М. Ф. вычистила от сажи трубы.
Что еще нужно? Одно: хоть какая-нибудь уверенность в завтрашнем дне или даже ближе — в сегодняшнем вечере. Нельзя же так жить, на самом деле, — настоящим моментом, мгновением, без всякого будущего (я, конечно, говорю о личном будущем).
1942.III.18. Двести семидесятый день войны. Сегодня неожиданно во втором часу дня наш Васильевский остров подвергся жестокому обстрелу.
Я возвращался из Архива по набережной со своими думами… Вдруг воздух над Невой стал рваться, как шелк. И сразу где-то загрохотало. Впереди меня прохожие уже лежали на снегу. Все это было ошеломляюще неожиданно… Еще утром, открывая парадную и проходя в нее, покуда М. Ф. приготовляла самокат под порталом нашего академического дома, я думал — какая благодать, тишина, не ухают пушки!..
И вдруг… Один свистящий снаряд через головы, другой, третий… И трах-тах-тах! Разрывы где-то близко. Кто не лежал, бежали, пригибаясь к земле, вдоль домов. Оставаться на открытом месте было слишком рискованно, и я заехал под ворота б. Кадетского корпуса со стороны набережной. Конвойный пропустил меня. Там я и простоял минут 30–40, покуда длился обстрел. Но я, еще не дожидаясь полного спокойствия, выехал на набережную. Академик Крачковский стоял под подъездом б. Меншиков-ского дворца. Бледный, нервно-напряженный, молчаливый и гордый… Опять усилился обстрел. Он сделал несколько шагов со мною молча, сосредоточенно и опять остановился, но уже теперь за углом дома.
В это время М. Ф. сидела в столовой в подвале под Зоологическим музеем. Я был относительно спокоен за нее… Но, оказалось, напрасно. Один из снарядов упал как раз между больницей Отта и академической столовой. Оглушительным ударом взрывной волны выбил в ней все стекла… А у одного из окон сидела М. Ф., и, по счастью, шрапнельные пули или куски снаряда и осколки стекла пролетели над ее головой, не поранив, только страшный взрывной удар оглушил правое ухо. Кругом поднялась суматоха… Первая мысль М. Ф.: а что со мной? Ведь я еду по набережной, под самым обстрелом… Но, к счастью, не выскочила, осталась выжидать и получить все же обед, который во время суматохи перестали давать…
1942.III.31. Двести восемьдесят третий день войны.
С какой любовью, нежностью глядел я сегодня на свои художественные собрания, на выписки из истории культуры, на начатые или только задуманные литературные произведения… Не хватило, не хватило нескольких лет, ну годика три, что ли!..
М. Ф. подошла ко мне и, улыбнувшись, спросила: все пишешь? Напомнила мне чей-то рассказ, как один счастливый человек в восторге водил пером по бумаге, воодушевленный удачей, что он все написал что хотел и как хотел… А когда посмотрели, что он пишет, оказалось ничего: одни линии из крючков и петелек, не походивших ни на одну букву, или просто прочеркнутые линии. «Счасливец» же блаженствовал, что он все успел написать…
Мы расхохотались.
— Ты следи за мной, — сказал я М. Ф.
И мы опять рассмеялись. Редко теперь смеются люди!
— Проживем? — спрашивает М. Ф.
— Продержимся апрель, май, а в июне… В июне, июле уедем.
— А если не удастся уехать?
Молчим оба».
А вот еще один рассказ о книгах читаем мы в дневнике Г. А. Князева. Научная сотрудница Пулковской обсерватории рассказала ему о Викторе Рудольфовиче Берге.
«Он, между прочим, ездил в Пулково на грузовике в октябре раздобывать из подвалов оставленные там книги и между ними ценнейшие и инкунабулы. Делалось это под самым носом неприятеля, в полутора километрах от него. Во время пути пришлось все-таки спасаться, бросившись из автомобиля в канаву. Но, к счастью, снаряды рвались по другую сторону дороги. Подвалы, в которых хранилась ценнейшая библиотека Пулковской обсерватории, были сводчатые и настолько крепкие, что они считались совершенно не поддающимися какому-либо разрушению. В одном помещении был даже двойной изолированный подвал для службы времени. И все это было разрушено!.. Книги перемешались. Берг, добравшийся все-таки до Пулкова с риском для жизни на военных грузовиках, в темноте откладывал наиболее ценные, известные ему книги, которые и были оттуда вывывезены. По спасению другой части библиотеки работал сотрудник Циммерман…
Когда над нами в Архиве Академии бушевала гроза, я беседовал с Шафрановским, старшим библиотекарем библиотеки АН. Дым от пожарища, наблюдаемый нами из окна, оказался левее, чем библиотека. «Надеюсь, что не дом, где я живу, горит», — сказал он задумчиво. «А дома кто-нибудь у вас есть?» — «Дочь, пятнадцатилетняя девочка». — «А еще кто?» — «Никого больше… Ведь когда я вернулся с военной службы, я не нашел дома жены и матери. Они умерли в начале этого года… Встретила меня одна дочка. Сейчас и живем с ней, но она ведь еще девочка, и бытовые условия вследствие этого очень тяжелы…» Я не удержался: «Так как же вы не сказали мне этого, когда были у меня?» — «Зачем же? Не у одного меня такое горе…» Над нами гремел «гром», раздавались дальние и близкие разрывы бомб. Я предложил пойти в одну из наших комнат в башне. Он улыбнулся и просто сказал: «Зачем?..» Мы стали продолжать деловую беседу о дальнейшем плане обследования академических хранилищ…»
Мария Васильевна Мошкова, работник Публичной библиотеки, в блокаду тоже спасала книги. Вместе с другими сотрудниками тащила на себе, на санках, в мешках остатки разбомбленных книжных собраний. Они ходили по известным библиофилам, ученым — по тем адресам, которые знали или о которых сообщали родные, близкие, карабкались по этажам, собирали книги и везли в книгохранилище Публички. Потом уже им выделили машину, а в самые тяжкие месяцы эти медленно двигающиеся от слабости женщины волочили через город тяжелые связки книг.
Блокадники вспоминают о том, как печатались и выходили книги, вспоминают о спектаклях Музкомедии, о выставках, об исполнении Седьмой симфонии Д. Шостаковича в филармонии. О последнем рассказывает музыкант Нил Николаевич Беляев:
«Это был совсем особый случай с этой симфонией. Шостакович был свидетелем колоссальных народных бедствий, всех лишений и страданий народа. И не только он, но и исполнители оркестра, и дирижер, слушатели, находящиеся в зале, все были участниками и свидетелями трагедии. И все это воспринималось совершенно необычно, как говорится, с живым сердцем. Понимаете? Потом уже мне приходилось слушать эту симфонию в отличном исполнении, с хорошим составом оркестра, с прекрасным дирижером, но такого впечатления от этой музыки, такого личного восприятия уже никогда не было — тогдашнего, свойственного только тому дню, тому времени, когда знаешь, что в оркестре сидят мои полуголодные товарищи и Карл Ильич Элиасберг тоже не ахти какой сытый человек. Причем с этими товарищами мы провели всю сложнейшую зиму, а немного позже, со следующего года, когда мы немножко встали на ноги, все мы были зачислены в рабочие батальоны. И до конца войны мы состояли в тех подразделениях, защищали как могли Ленинград. В частности, я и известный виолончелист Сафонов были сначала пожарниками, потом мы были в отделении связи».
Писатель Геннадий Гор рассказывал:
«Накануне войны я купил книгу Зиммеля о философии личности Гёте, написанную абстрактно, одну из самых трудных книг, какая мне попадалась. Пытался ее прочесть, ничего не понял. А в блокаду при свете плошки уяснил ее и получил огромное духовное удовольствие. Позже, когда совсем было плохо, духовная жизнь, конечно, замерла. Люди стали жить уже моментом. Прошлое как бы исчезло. Осталось только настоящее, это облегчало жизнь. Жили как бы частями — обогреться, попить, съесть, дождаться обеда…»
Зоркий наблюдатель, Геннадий Гор тонко замечал смещения в духовной структуре человека того времени. Например, как изменились расстояния:
«— Все стало далеко. Улицы расширились, даже зрительно, все обрело большую протяженность. Наверное, из-за слабости, а еще и
убрать рекламу
з-за пустынности улиц.
— В чем, по-вашему, проявлялась духовность ленинградцев того времени?
— Не паниковали, не психовали. Было мало истерики, криков. Я вообще против слова «героизм» в этих условиях. Была выдержка, было достоинство, даже в смерти. Был оптимизм, не надежда личная, а оптимизм общества. Вообще в Ленинграде народность соединилась с интеллигентностью…»
Происходили вещи и впрямь удивительные. Даже день рождения Пушкина отмечался! В 1943 году! Совершенно случайно выплыл этот эпизод в разговоре, с Верой Петтровной Безобразовой.
Она и в войну жила на Мойке, рядом с музеем-квартирой А. С. Пушкина. Музей, конечно, был закрыт, но вот кто-то, кто — она не помнит, стал обходить дом и приглашать людей прийти на праздник.
«— Нас пригласили предварительно такими билетиками прийти. Нас было человек восемь жильцов.
— Наверно, было трудно собрать людей из города и просто пригласили тех, кто здесь жил?
— Да, тех, кто здесь жил. Пришли и сказали: вот придите, будет завтра день рождения Пушкина. Это сорок третий год, шестое июня. Кто там был? Был Всеволод Вишневский, который очень хорошо сказал речь, что мы победим и что этот голод уйдет от нас и все будет по-старому, все будет хорошо. Были еще Николай Тихонов и Вера Инбер. Если я не ошибаюсь, она прочла нам стихотворение «Памяти Пушкина».[40] Мы все стояли. На бюсте Пушкина был свитый венок. Мы все почтили его дату.
— Вы были в самом музее?
— Да, да. Было торжественно, знаете. Всеволод Вишневский с таким энтузиазмом говорил: вы поверьте, мы победим!
— Вам, восьми человекам?
— Нам, восьми человекам. А что говорил Николай Тихонов, я не помню.
— Как тут все выглядело тогда?
— Как выглядело? Все окна были забиты фанерой. Во двор, где стоит памятник Пушкину, упала бомба: там была громадная яма. А у нас тогда только прыгнула посуда, мы все остались вроде на местах.
— Памятник не стоял еще тогда?
— Нет. Памятник поставили много позже, после победы. А конюшни уцелели. Один гражданин позже спрашивал меня: «А это что за здание?» Я говорю: «Это конюшни Бирона — фаворита Анны Иоанновны». Он говорит: «Вот как интересно: это стоит, а мой гараж упал». А в основном дом-то пушкинский уцелел почти весь. А вы видите — напротив упало. Большущая бомба — в Мойку. И не разорвалась».
Происходили истории иного порядка, но столь же характерные, удивительные, свидетельствующие о творческих возможностях человека. Борис Исаакович Шелищ служил техником-лейтенантом в полку аэростатов заграждения. Он рассказывает:
«У нас не было топлива. Чтобы выбрать аэростаты, то есть опустить их из воздуха для перезарядки, надо было включать автомобильные моторы, а бензина не было. Ведь сотни аэростатов висели над городом, они не давали фашистским самолетам снижаться, мешали пикировать, вести прицельное бомбометание. Попробовали мы вручную выбирать (мужчины еще были в сентябре 1941 года), но десять человек расчета не смогли их выбирать. Таким образом, боевые операции данного вида оружия прекращались: со временем водород тяжелеет, аэростат снижается, вместо трех-четырех тысяч метров висит низко и преграды для самолета не представляет. Встал вопрос — как быть? Мне пришло в голову выбирать аэростаты лифтовой лебедкой. Раздобыл я такую лебедку, привез, но к этому дню не стало электрической энергии. И тогда я вспомнил «Таинственный остров» Жюля Верна. С детства запомнилась мне глава «Топливо будущего». Достал эту книгу. Перечитал. Там было прямо написано: что заменит уголь, когда его не станет? Вода. Как вода? А так — вода, разложенная на составные части, водород плюс кислород. Я думаю — не пришло ли это время? Ведь мы что делали — выдавливали оболочку аэростата, выпускали так называемый грязный водород, а это все равно что выливать на землю бочку бензина. Думаю: сейчас, когда у меня есть под руками грязный водород, это же топливо. То самое, про которое Жюль Верн писал…
Я договорился с командиром. Сделал просто: шланг от аэростатной оболочки сунул во всасывающую трубу двигателя. Чувствую, двигатель работает. Даю обороты, он обороты принимает. И вдруг ЧП! Выхлоп! Обратная вспышка, взрыв, газгольдер сгорел. У меня контузия. Руки опустились. Но бензина-то нет! И тут я понял, что надо сделать затвор. Разрывать цепь автоматически. Для этого ничего лучше воды быть не может. Взял я огнетушитель и сделал в нем гидрозатвор. Двигатель сосет водород через воду. Обратная же вспышка через воду не доходит. Дали разрешение испытать. Приехали генералы. Посмотрели. Все хорошо. Приказали за 10 дней перевести все аэростатные лебедки на новый вид топлива. Собрали по городу огнетушители. Шестьсот штук понадобилось. Достали шланги. Короче говоря — все аэростаты выбирать стали на новом топливе, на водороде. Лучше работали, чем на бензине. Я вам скажу, почему лучше. Потому что в холод двигатели на бензине плохо заводятся. Надо их прогревать. На водороде же и при морозе с пол-оборота заводятся».
Двигатели на водородном топливе демонстрировали на выставке Ленфронта, потом Б. Шелища отправили с ним в Москву. Он совершенствовал свою конструкцию, отвечал на вопросы специалистов.
«Если б был бензин, я бы не довел свою идею до конца. И вообще, я скажу вам, мне многое в голову не пришло бы, если бы не блокада. А тут приходило. Знаете, я тогда перечитал про эпопею челюскинцев. Как они высадились на лед, как жили в таких условиях. Может, извлечь что можно… Мы ведь тоже были как на льду. Не помню, чтобы в нормальных, мирных условиях я работал, с такой энергией и так соображал бы. А вообще я думал, что никогда уже не смогу быть сытым».
А по радио, может быть, в это самое время звучали такие странные и такие понятные блокадникам слова:
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам…
У Князева радио, мы помним, все время испорчено, молчит. Как эти слова из «Февральского дневника» Ольги Берггольц воспринимал бы он? Насколько они выражали все то, что испытывал и о чем писал в дневнике Князев, — эту голодную возбужденность, которую пережили и помнят многие (состояние, которое у других затем переходило — а Князев все не поддавался! — в апатию, безразличие ко всему), это упоение всем, что способна еще подарить жизнь (даже в блокаду) человеку, истово преданному культуре, а сейчас начинающему с новой силой любить и ценить Ленинград, поэзию, понимать людей, которым выпала тяжелейшая судьба, отстояв, спасти гуманистическое прошлое и будущее человечества?..
Из дневника Г. А. Князева:
«Разговорились с В. А. Петровым, сотрудником ИИМК.[41] Он говорил мне: «В конце января, когда я потерял жену и дочь, когда квартира была разбомблена, книги (у меня специальная библиотека до 6000 томов) лежали, выкинутые взрывной волной из шкафов, на полу, мебель, одежда, платье, белье погибли, и я стоял в морозной разрушенной комнате в оцепенении, с начинающимся воспалением легких, — я сам не знаю, откуда найдя силы в себе, приказал себе: жить и кончить свои начатые труды. И погибающий, с похеренной жизнью я вдруг начинаю оживать. И живу. Все поборол, все превозмог. Сейчас я одинок, у меня никого нет. И у меня ничего нет. Только то, в чем остался в январе, — вот в этом пальто, шапке, пиджаке и белье. И ничего больше. Правда, когда я перешел жить в библиотеку, покуда она окончательно не замерзла, у меня там оказался запас чистых воротничков».
Сейчас он пишет, заканчивает свои труды.
«Смеяться, — говорит он, — я действительно разучился, но не плакал и не плачу»…»
МОЮ ТЫ ЗЕМЛЮ НЕ ПОШАТНЕШЬ

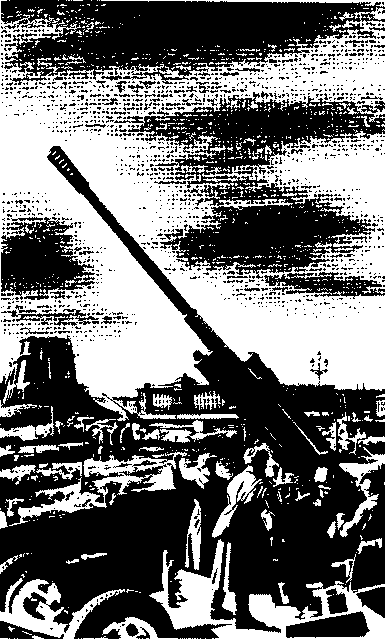
Дни войны, они для ленинградцев были к тому же днями блокады, а еще днями обстрела, днями бомбежек. Двести девяностый, трехсотый, триста десятый, двадцатый, тридцатый… Неукоснительно вел им счет Г. А. Князев. И учительница К. В. Ползикова-Рубец. И партийный работник Гришкевич. И еще десятки людей, чьи дневники дошли до нас. Весна, а затем лето 1942 года принесли заметное облегчение горожанам. Появилось прежде всего тепло — солнце. Исчез лютый враг — мороз. Можно было согреться, не думать о дровах, можно было немножко помыться.
Снимали с окон одеяла, ковры, матрацы — все, чем затыкали, завешивали их, защищаясь от холода, — открывали забитые фанерой форточки. Солнечный свет врывался в страшные, закопченные блокадные квартиры. Паркет был выворочен, мебель изрублена, все было загажено, но свет, солнце — оно как ласка для исстрадавшихся людей. Долгая зимняя гнетуще-копотная тьма кончилась для тех, кто выжил. Люди подходили к зеркалу, вглядывались в свои неузнаваемые отражения, ужасались, и этот ужас, страх, отвращение были тоже живительным чувством пробуждения. Об этом написано у всех.
И сразу же навалилась настойчивая забота на всех горожан без исключения, без снисхождения к слабости, к дистрофии: надо было чистить город, вынести трупы из опустелых квартир, убрать завалы нечистот, улицы убрать, дворы, лестницы.
Уже в ноябре 1942 года, вспоминая о весенних работах, К. В. Ползикова-Рубец изумлена: как мы смогли? как сумели? От удивления она пишет в третьем лице, как бы со стороны:
«Невероятным было то, что они очистили эти кучи нечистот, которыми был покрыт Ленинград (я тоже участвовала в этом). Покрыли его ковром огородов, трудясь с восхода солнца до работы на заводах и учреждениях, трудясь после окончания работы. И это без водопровода, без канализации, без прачечных, почти без бань, на полуголодном пайке и под свист вражеск
убрать рекламу
их снарядов. Эти ленинградцы охраняли свои огороды, дежурили по ночам. И это у них воровали из-под носа или попросту грабили эти овощи, взращенные с таким трудом, тоже ленинградцы…»
Анатолий Сергеевич Болдырев продолжал свой рассказ об эвакуации из Ленинграда уже в весенних условиях:
«Подготовка к навигации 1942 года была не менее сложная задача, чем организация ледовой дороги. В распоряжении ленинградцев были жалкие остатки флота. Не было барж, причалов, буксирных судов, все было разбито. Надо было делать 600-тонные металлические баржи. Все работники горкома партии занимались организацией этого дела. На заводах готовили секции, перевозили по железной дороге до бухты. За Ладогой в заповедном лесу заготовляли лес для деревянных барж, совсем как в петровские времена. На временно сооруженной верфи построили 33 баржи… Ремонтировали оставшийся флот. Страшная работа, потому что непрерывно бомбили все подходы к верфям, к причалам, к пирсам. Люди гибли десятками. Но благодаря упорству ленинградцев, непрерывным подкреплениям программу удалось выполнить… Всего в навигацию сорок второго года (туда и обратно) было перевезено более миллиона тонн различных грузов».
А на малом радиусе Г. А. Князева тоже пригрело, зазеленело, расцветало:
«1942.V.18. Триста тридцать первый день войны. Дивный день сегодня. Вдоль набережной разрыхляют грядку для цветов, ту самую, о которой я с такой безнадежной грустью писал осенью. Я не думал, что доживу до того времени, когда на этой грядке снова зацветут цветы. Как взволновала меня длинная полоска черной, подготовленной для посадки цветов земли.
В Румянцевском сквере василеостровцы устроили огород. Разбили сад на участочки. К сожалению, много места занимают траншеи.
На солнце жарко. Сидеть бы и греться, наслаждаться жизнью! Мне сейчас очень хочется жить, мыслить, творить…
Сегодня, после 6-месячного перерыва, снова работал в своей комнате, за своим письменным столом — и не верилось этому…»
К июлю стало ясно, что Князевым надо уезжать. Но Георгий Алексеевич всячески отодвигает от себя эту мысль:
«1942.VII.6. Триста восьмидесятый день войны. Город полон слухов. Они всех волнуют. Все ожидают наступления немцев на Ленинград, полного его окружения и всех ужасов новой, насмерть удушающей ленинградцев блокады.
По улицам везут на детских колясках поклажу и идут женщины с детьми. Это выселяются в принудительном порядке. Врач, живущий на нашем дворе, отправил в Башкирию свою жену с двумя ребятишками. Весь потный, красно-багровый, катил на мальпосте тюк с вещами, а мать с ребенком на руках и с другим около ее подола шла неровным, усталым шагом.
В учреждениях составляются списки эвакуирующихся. К нам в Архив ученые несут свои рукописи.
Собрался с силами и насколько могу спокойно гляжу в глаза будущему…
Мне сообщили о полученной телеграмме жены нашего кочегара Урманчеева, матери троих детей, уборщицы Фани, что она доехала домой, но из троих ребят довезла только одного: двое умерли в дороге.
…Мой родной любимый город, где не только улицы, площади, дома, но и каждый камешек мне знаком! И что с ним сталось!
«Вот Невский… вот Морская» — писал я в дни первой блокады во время гражданской войны, пораженный разрухой города и пустотой. Лишь стаи псов иногда можно было видеть тогда на улицах, куда-то стремительно мчавшихся даже по Невскому, когда он затихал от транзитных пешеходов к вечеру. Теперь нет ни одной собаки на улицах…
И вот снова Невский, Морская… Страшный срез бомбой целого угла с крыши до основания на б. Малой Морской, теперь улице Гоголя… Неторгующие магазины с забитыми витринами, нежилые этажи или целые дома, пострадавшие от артиллерийского обстрела. Город снова в разрухе. Я второй раз переживаю то же самое. И сегодня, как 20 с лишним лет, я был в оцепенении, почти отчаянии… И успокаивал себя — ведь оправился город от той разрухи, оправится и теперь! Будет жить и процветать мой родной город. Дни страшной войны пройдут, а город останется… Мы умрем, а город останется. Город Петра и Ленина, двух гениев русского народа, никогда не погибнет. Петр приобщил через Петербург Россию к Европе, Ленин привлек Европу и весь мир к Советской России.
Через десять лет после своего стихотворения о разрушенном Ленинграде мне пришлось написать другое: «И стыдно мне…» Да, мне стало стыдно потом за маловерие. Ленинград тогда воскрес. Воскреснет он и теперь, когда кончится эта война… Но эти мысли я записываю сейчас дома, а там, на Невском, на Морской, на бульваре Профсоюзов, я, признаюсь, по-другому думал, неуемная тоска вдруг овладела мной, и много надо было разума и воли, чтобы совладать с ней…»
«Все время один предо мною вопрос, — записывает Князев, — имею ли я право покидать Архив, или свой «корабль», как я его называю.
Мне хотелось, если уж суждено погибать, то вместе с ним. Выходит так, что я оставляю Архив.
— Вам приказывают так поступить, — говорит мне т. Федосеев, — и вы обязаны подчиниться.
Я попросил разрешения на обдумывание ответа до понедельника. Что мне ответить? Мучительный вопрос. Я обратился к М. Ф. Она мне ответила письменно… Она искренна и ясна. Значит, уезжать! Ходил по Архиву, словно кто мне по голове обухом ударил. Имею я право покидать Архив, не являюсь ли я дезертиром?
…Родной мой город, и я принужден покинуть тебя. Сегодня мне надо было бы собираться, а я с карандашом в руках исписываю страницу за страницей. Я не хочу получить упрека, что я не выполнил своего долга — не записал того, что видел, слышал, читал, пережил в дни осады моего замечательного города. Посильно я свой долг исполняю. Везу с собой целый портфель записок о днях войны в Ленинграде…
1942.VIII.11. Четыреста шестнадцатый день войны. Последний день в Ленинграде.
Прощался с городом. Прощался со сфинксами… Пустынно на набережной. Утром от нашего дома до Академии навстречу мне попалось не больше трех человек — военный и две женщины на плечах пронесли гроб… На службе обходил хранилища с глубоким волнующим чувством. На время или навсегда их оставляю?.. Дома суматоха. Как всегда, еще много не собрано. 4 часа. А в 7 часов придет автобус за вещами и за нами!»
Этим заканчиваются подневные записки Георгия Алексеевича Князева «В осажденном Ленинграде». Потом была трудная эвакуация обезножевшего и ослабевшего блокадника и его преданной жены и снова возвращение в Ленинград — к своей работе в Архиве.
Князев завершил свой жизненный путь в том же доме с окнами на Неву и сфинксов, на стенах которого 27 мемориальных досок с именами выдающихся петербуржцев, петроградцев, ленинградцев.
Среди фотографий в семейных альбомах Марии Федоровны Князевой мы увидели групповую: работники послевоенного Архива Академии наук СССР. Новые и прежние (кто выжил) сотрудники Георгия Алексеевича. «Старых», переживших блокаду, не выделишь по каким-то особенным признакам. Угадываешь, но не наверняка. А казалось бы, должно сразу на лицах, в выражении глаз читаться: эти пережили, эти узнали, эти — блокадники! Когда Александр Митрофанович Черников называл нам фамилии, знакомые по записям Князева, многое никак не совпадало: этот, такой уверенный, уравновешенный с виду, «все время плакал»? а эта красивая, полная могла напоминать «взъерошенную голодную кошку»? а эта женщина, такая щупленькая, и еще вот эта, на нее и внимания не обратил бы, — это они, сами полутрупы, волокли на саночках через весь город этого благополучного с виду мужчину, который тогда был «безнадежным дистрофиком»?
Они, бывшие блокадники, невидимками ходят по городу: мы их не узнаем (разве что по возрасту и облику иногда догадываемся), а они нас видят…
Среди наших магнитофонных записей хранится и этот; вот живой голос — один из сотен:
«У меня домик есть под Новгородом, старый, купленный. Вот какая я богатая! Пока я работала, купили домик старенький… Утром встаю. Никого никогда не осуждаю. За рукав никто не тянет. Иду куда хочу. Куда сегодня пошла? Пошла из церкви на Марсово поле, потом в церковь Спаса на крови, на канал Грибоедова. Постояла у больницы, где погиб мальчик. Стояла у Казанского собора, где умерла моя сестра, оставив ребенка. И пешком пошла по Невскому. И смотрела всем в глаза — не встречу ли кого-нибудь? Нет. А только видела, что несут громадные сетки апельсинов. Иду дальше…»
Она идет дальше в толпе прохожих. Ее уже не узнать, не выделить. Блокадник… блокадница… Их все меньше. Все реже они вспоминают, рассказывают. Внуки — и те уже взрослые. Они родились спустя много лет после войны. Они не застали ни одного разрушенного дома. Все восстановлено, доты давно разобраны, выбоины от осколков замазаны, заштукатурены. Чтобы ознакомить с войной, блокадой, школьников водят в музей города. Там выделено два зала: блокада вошла в число прочих исторических событий — народовольцы, революция, гражданская война, прокладка метро, застройка окраин.
Дочери, сыновья — те еще помнят. Хотя часто и не знают подробностей, как все было с ними, как они живы остались…
ЖИВОМУ — ЖИТЬ

Книга эта была уже написана, когда мы наконец добрались до подлинного дневника Юры Рябинкина. До того мы пользовались перепечатанным текстом, который дала нам А. Белякова.
Мы увидели эту тетрадь в черной матерчатой обложке — красивый беглый почерк. Лиловые чернила. Записи становятся все плотнее, без абзацев. Кое-где подклеены были фотографии, продовольственные карточки — они оторваны. Или отклеились. Остались пустые места, обрывки. Слишком долго дневник ходил по рукам. Часть его внутри обгорела. Расстояние между строками уменьшается, автор выгадывает под конец каждый кусочек страницы, как будто боится закончить эту тетрадь… Общая тетрадь начата 22 июня 1941 года, последняя запись — 6
убрать рекламу
января 1942 года. Странно, последняя страница, последняя запись — и кончилась жизнь Юры Рябинкина. Такое совпадение. Предчувствие его сбылось.
Дневник Ю. Рябинкина завершен, дневник Князева тоже. Записки Л. Охапкиной о блокаде кончены.
Работа наша над второй частью «Блокадной книги» подошла к концу, но мы тянули и медлили. Нам хотелось что-то еще узнать о Юре Рябинкине. Что именно, — мы не знали. Ровный, аккуратный до последних дней почерк. Смятенность чувств при удивительной ясности мысли даже в состоянии крайней дистрофии. Каким же он был, этот мальчик, к которому мы успели привязаться?.. Каким его знали, помнят другие люди?
Мы обратились к началу истории. Впервые «открыла» этот дневник редактор газеты Алла Белякова в 1970 году. Тетрадь принесла в редакцию ленинградской молодежной газеты «Смена» женщина, которая хранила дневник много лет. Чутьем опытного журналиста Алла Белякова поняла значительность этого документа, она опубликовала в «Смене» большой отрывок из дневника Юры Рябинкина. Более того, она разыскала и собрала его одноклассников в надежде узнать какие-либо подробности о судьбе мальчика.
После выхода первой части нашей «Блокадной книги» Алла Белякова передала нам машинописный текст дневника (не до конца прочитанного, расшифрованного). Дневник порождал немало вопросов: что стало с Юрой, с его мамой, с его сестрой Ирой? Дом, где он жил, давно был занят под учреждение, так что расспросить у прежних жильцов не было возможности. Было неясно, каким образом уцелел дневник. Может быть, есть продолжение его? К сожалению, адрес и фамилия женщины, которая принесла этот дневник в газету, затерялись.
Мы обратились по радио с просьбой откликнуться — кто знает что-либо о Юре Рябинкине? Среди нескольких писем пришло письмо от Татьяны Улановой. Девичья фамилия ее была Трифонова. В семье Трифоновых и хранился дневник Юры Рябинкина. Она писала нам: «Родители мои не хотели отдавать дневник — боялись, что он просто потеряется, а для них он много значил: папа воевал на Волховском фронте, мама сама пережила блокаду, ей было только на два года больше, чем Юре. От голода умерли мамины отец, сестра, племянники… Поэтому Юрин дневник был очень дорог моим родителям. Но я убедила их, и вот дневник начал новую жизнь… Может, это смешно, но я была счастлива, слушая ваше выступление. Но, с другой стороны, мне было неловко: я, не желая того, ввела корреспондента, который приезжал к нам в школу, в заблуждение. Я точно не помнила и сказала, что дневник попал к нам от Юры. На самом деле было несколько иначе. Моя бабушка Трифонова Ревекка Исааковна работала в туберкулезной больнице патронажной сестрой, и однажды ей пришлось везти в больницу (это было на Вологодчине в 1942 году. — А. А., Д. Г.) умирающего учителя из деревни Клипуново Лежского района, и жена этого учителя дала ей этот дневник почитать в дороге, чтобы нескучно было. Учитель уже не мог говорить и в больнице умер. Дневник остался у бабушки. Как он попал к учителю, жена его не знала. Бабушка думает, что Юру, наверное, вывезли из Ленинграда и он попал в какой-нибудь детприемник в Лежском районе и скорее всего там и умер, ведь многие приезжали из Ленинграда на грани жизни и смерти. Может быть, такое уточнение и мелочь, но лучше исправить ошибку, которую я внесла в историю дневника.
Помню, папа говорил, что было две тетрадки, но вторая давно куда-то делась. То ли ее «зачитали» (мои родители много раз перечитывали сами и давали читать другим), то ли потеряли при переездах. Сначала дневник был у бабушки в Вологде, потом в нашей семье в Ленинграде… Вот все, что мне известно».
Написали мы в Вологду Трифоновым. Оттуда пришло письмо, где повторялась вся эта история, рассказанная Татьяной Улановой, про самого Юру ничего Трифоновы не знали, достались им лишь его тетрадки. Естественно, нас очень интересовало, что было во второй тетрадке. В письме из Вологды сообщали:
«Теперь о второй тетради. Это была обыкновенная школьная тетрадь в шесть листов, тоже немного обгорелая и чем-то залитая. Но она не была непосредственным продолжением первой. Записи занимали 2–3 страницы. Это были бессвязные предложения и многократно повторяющиеся слова «хочу есть, хочу есть, умираю», написанные крупными буквами уже не по линейкам. Дат в этой тетради не было. Не могу объяснить, как потерялась эта тетрадочка… Вот и все, что мама может вам рассказать».
И эти подробности были важны. Заметим, что дневник этот в семье Трифоновых перечитывался. К нему возвращались. Он был как бы семейной реликвией, этот дневник незнакомого ленинградского мальчика. Может, оттого и сохраняли, сберегали все эти годы.
Но более дневника нас интересовал сам Юра: что с ним произошло? Никто из друзей его не откликнулся, да и вряд ли они что-нибудь могли знать. По некоторым сведениям, сестра Юры была жива. Мы стали разыскивать ее. Нам помогла Алла Алексеевна Белякова, и вскоре выяснилось, что Ира Рябинкина живет в Ленинграде, она учительница, преподает в школе литературу, фамилия у нее другая, по мужу… Мы списались, созвонились и не без некоторого душевного стеснения отправились на эту встречу.
Мы столько вчитывались в Юрин дневник, так сжились с Юрой, с его семьей, что теперь опасались… Чего? Разочарования? Забвения? Несоответствия? Да мало ли! Было странно и даже удивительно, что вот спустя почти сорок лет можно что-то различить и высмотреть среди братских могил блокады, трупов, сваленных штабелями. Что еще есть люди, и в Вологде и здесь, которые помнят, которым все это важно… Остается все же след. Какой-то след от каждой жизни. И от этой короткой, шестнадцатилетней, несостоявшейся… Впрочем, что значит несостоявшейся? Как судить, состоялась жизнь или нет? Не по количеству же прожитых лет…
Оказалось, что Ира, ныне Ирина Ивановна, волновалась больше нашего. Маленькая тоненькая женщина, хрупкая на вид, встретила нас с непонятным напряжением, почти испугом, хотя при этом было видно, что нас ждали, в этой уютной квартирке к нашему приходу был накрыт стол, приготовлены угощения. И муж Ирины Ивановны и дочь-студентка смотрели настороженно, словно ожидая от нас неприятностей. Все это было странно. Кроме волнения, которое обычно вызывают блокадные воспоминания, присутствовало тут нечто иное.
Поначалу Ирина Ивановна не хотела ничего рассказывать, ссылаясь на то, что тяжело вспоминать и не хочется, чтобы писали о ней, да и о брате тоже.
Мы доказывали, что жизнь Юры Рябинкина и его дневник как бы принадлежат истории, что публикация дневника в какой-то мере памятник брату, а главное, что для молодых читателей важно понять, почувствовать жизнь подростка в блокаде… Все доводы она понимала не хуже нас и уступила не потому, что мы ее убедили, а с какой-то иной, неизвестной нам мыслью. Она стала рассказывать:
«— От улицы Дзержинского до Адмиралтейства — все это мой район. И Банковский и Юсуповский садики. Это мои родные места по детству. Если есть возможность, я всегда стараюсь сейчас проходить мимо… Мы жили на улице Третьего июля, дом тридцать четыре, квартира два. У нас была все-таки разница в восемь лет с братом, и близости поэтому не было, не успела возникнуть… но сестренкой я была единственной, хотя и маленькой. Он, конечно, меня не нянчил. Была у нас до войны домработница, приходящая, дома всегда суп был, всегда варили суп, каждый день. Даже сейчас мы этого не успеваем, а для меня детство — это суп каждый день. Война меня застала в Юсуповском саду. Мы катались там с горки, и вот я услышала крики: «Война!» Все побежали… Был солнечный день. «Молотов выступает!» Я не знала, что это за Молотов, который выступает. Толпа у громкоговорителей. Это я помню. А дома никого не было. Потом пришла мама, А Юра был всегда в кругу ребят, его часто не было дома. У него была отдельная комната. У нас была квартира: вход со двора, коридор, кухня, столовая, спальня, Юрина комната.
— Вы помните И., своих соседей?
— В войну И. был управляющим трестом. Анфиса, его жена, умерла после войны. Это мне сказала соседка Мария Васильевна. Умерла, не эвакуировалась. А его дома никогда не было. Ее я помню, яркую молодую женщину. Остался ли Юра с ними или нет, не знаю. Я написала письмо в этот дом, чтобы узнать, как все это случилось… Дело в том, что последние дни он лежал, не мог вставать. Я не скажу, что мне все отдавали. Мама делила паек, но Юре не хватало. Он правильно пишет, что мама съедала первая свой кусок, а я, — может быть, потому, что была мала, мне надольше хватало. Я помню, как он лежал, отвернувшись, на диване. Разговор постоянно шел об эвакуации. Зимой, особенно в декабре, январе, все надежды были на эвакуацию: «Если обком… Если нам разрешат…» И вот, помню, мама уже принесла теплую одежду: стеганые штаны, стеганую фуфайку для Юры, кроме того, давали типа летного шлема стеганые шапки, принесла две шапки — для себя и для него. Я помню, облаченная во все это, мама помогала ему встать. Мне и в голову не приходило… Я и не смотрела… Вот он встал. Мы жили тогда на кухне. Кухня была большая — плита с медными перильцами и сбоку в таком «кулечке» стеклянном вода, которая при топке плиты согревалась. А рядом был большой сундук, у которого крышка поднималась, образуя деревянную спинку. Я больше таких не видела. Туда все можно было класть… Юра встал, прислонившись к этому сундуку, опираясь на палку, но идти не мог, не мог оторваться и стоял вот так, согнувшись, изможденный… Я помню это точно… Я все время чувствую себя виноватой, потому что я-то живу, я же понимаю это…
У нас были саночки, на них положили чемодан, в нем было столовое серебро (несколько вилок и ложек серебряных — все наши драгоценности), помню Юрин набор открыток из Третьяковки (их было у него много, чуть ли не сотня), их мы тоже с собой взяли (потом в детприемнике у меня их выпросили), затем какие-то одежки — все это взяли с собой. И вот я сзади санки толкала. А Юра остался дома: мама не могла его посадить, видимо, не могла, а идти он не мог. Не свезти было, видимо, его, я не знаю… Это был январь сорок второго
убрать рекламу
. Ехали мы в эшелоне долго. Я помню эту товарную теплушку. Да, а когда мы к Московскому вокзалу добирались пешком по Невскому, мама порывалась все назад, за ним: «Там Юрка остался! Там Юрка остался!» Я плакала, конечно. Как только сели, теплушка почти сразу дернулась, и мы поехали. Поехали мы к Ладоге. Я отчетливо помню, как мы переезжали Ладогу.
— А как дневник Юры попал в Вологду?
— Вот в том-то и дело! Я получила из Морозовки телеграмму от тети: «Ира, прочти обязательно «Смену»…» Я разговаривала с этой женщиной из Вологды, я ведь поехала в Вологду узнать…
— Если бы Юра остался в Ленинграде, то и дневник бы ведь остался здесь?
— Видите ли, Вологда была перевалочным пунктом…. Читаешь дневник, особенно последние страницы: «Я хочу жить, хочу хлеба…» Я помню его темперамент. Мне кажется, его вывезли. Если бы он почувствовал, что может жить, то выжил бы. Мы добрались до Вологды. И вот я на вокзале… Столько лет прошло, а я помню: диванчик, маму и себя на этих узлах. Я когда теперь приехала в Вологду, увидела это место, столько лет спустя… Когда мы тогда приехали, нам дали по глубокой тарелке пшенной каши с кусками мяса, нарезанного кубиками. Целые две тарелки! Затем выдали талоны, и вот мама несет целую буханку хлеба, которую у нее ночью утащили из-под головы. А часов в шесть утра она лежала уже с пеной, с закрытыми глазами. Она умерла на этой скамейке. Мама умерла двадцать шестого января. Тетя Тина говорила, что опухоль дошла до сердца — и мама умерла. «Антонина Михайловна, сорок лет. Причина смерти — истощение» — сказано в справке. Значит, до двадцать шестого января мы все ехали, ехали. Мы останавливались, но нигде не жили. Меня отправили в детприемник, потом в детский дом, в котором я находилась с одиннадцатого февраля сорок второго года по сорок пятый год, а потом вернулась в Ленинград. Это меня тетя Тина взяла. Детский дом находился в деревне Никитской, сейчас это в четырех часах езды от Вологды, да еще надо было двадцать один километр идти лесом. И вот тетя Тина в сорок пятом году в шинели, с вещевым мешком за плечами пешком шла двадцать один километр за мной! Она вывезла меня в Ленинград. А эвакуировались мы примерно восьмого января из Ленинграда и двадцать шестого прибыли в Вологду».
Примерно таков был первый сбивчивый нервный рассказ Ирины Ивановны, временами слезы мешали ей, прерывали речь, кроме того, присутствовало в нем какое-то беспокойство добавочное, уже сегодняшнее, какая-то тревога болезненно-сосущая.
Мы полагали, что Ирина Ивановна боялась за мать, как бы мы не подумали про нее плохо… «Я понимаю, я вас понимаю», — предупреждая наши вопросы, говорила она. Но какие могли быть вопросы? Если мать, Антонина Михайловна, умерла, как приехала в Вологду, в ту же ночь, и никакое питание уже не могло ей помочь, то, значит, она ехала умирающей, значит, процесс дистрофии уже был необратим, значит, уезжала она из Ленинграда смертельно пораженная голодом, с сознанием, затянутым пеленой, и лишь чувство материнства, эта нечеловеческая сила двигала ею, тревога о дочери раздувала гаснущую жизнь, раздувала до тех пор, пока ехали, а как доехали до пункта назначения, до Вологды, — все кончилось, все погасло, она слегла и умерла. То, что она добралась, довезла Иру, — чудо материнской преданности. А то, что на Юру сил на хватило, так кто же решится винить ее за это? Разве только не понимающий, не желающий вдуматься в то блокадное существование человек. Сознанию сытого человека, конечно, трудно опуститься в тот мир, а до конца постигнуть его почти невозможно. Потому так тверда народная поговорка: сытый голодного не разумеет!
Рассудок матери, Антонины Михайловны Рябинкиной, был уже схвачен дистрофией, видимо, отчетливость восприятия померкла, но и сквозь это помутненное сознание пробивалось единственное — она сына оставила! По-видимому, она предполагала усадить дочь в вагон и вернуться за сыном, привезти его. Чтобы доставить обоих на вокзал разом — Юру-то ведь надо было везти на санках, — таких сил у нее уже не было.
Поезд тронулся сразу… А если бы и не сразу, и тогда, пожалуй, у нее не хватило бы сил вернуться. Повторяем — ведь сама она умирала. Всю дорогу до Вологды умирала. Питание уже было, а не помогло, умирала в тоске, в разрыве души оттого, что остался сын. Может, и корила себя за бессилие. Она корила себя, а мы не можем.
Все это возникало из рассказа Ирины Ивановны, хотя об этом она старалась говорить поменьше потому, что было бы оскорблением памяти матери оправдывать ее, защищать ее.
«Что я помню — это его увлечения. В его комнате был чертежный стол, чернильница, зеленое вольтеровское кресло, посредине — бильярд (на котором постоянно играли мальчишки), конструктор черный с дырочками. Меня, восьмилетнюю, он, конечно, редко удостаивал… Иногда они даже устраивались в столовой: завешивали чем-то стол, под ним что-то делали; рисовал карты (которые сам придумывал) на листе ватманской бумаги. Это, как я сейчас понимаю, была физическая карта — океаны и моря кругом. Приходили мальчишки, играли во всякие бои… Дома была приличная библиотека. Юра ходил во Дворец пионеров в кружок истории и в шахматный кружок. Маме говорил академик Тарле: «У вашего сына большое будущее. Берегите его!» Девочек у Юры еще не было. Были товарищи — Штакельберг и Миша Чистов (Чистовы жили внизу).
Моя тетя Тина прожила без семьи. Она по современным понятиям человек неприспособленный, непрактичный, непробивной. Она обычно говорила мне: «Одно дело — мать, отец, но ты сама должна из себя что-то представлять».
Мы вернулись в Ленинград в сорок пятом. Тетя жила в Морозовке. Я пришла на старую квартиру, увидела кое-что: Пушкина увидела, Юрину чернильницу (она есть у меня и сейчас), альбом увидела старый с фотографиями. Эти вещи взяла. А туалет, мебель — мне было уже не до того. Я их узнала, но к следующему моему приходу это все уже исчезло. Я не знаю, может, мама успела их продать, ничего не хочу говорить.
Отец матери (Ирина Ивановна показывает рисунок деда: великолепно сделанное пасхальное поздравление — растительный орнамент с надписью «Христос воскрес! Привет вам, дорогая жена и дочери». — А. А., Д. Г.) окончил Высшее артиллерийское училище и в гражданскую войну был офицером Красной Армии, заместителем начальника артиллерийской базы Западного фронта. Он — Панкин Михаил Степанович (показывает фотографию офицера-артиллериста с усами. — А. А., Д. Г.) — выдавал «Авроре» снаряды. Я узнала от Юры, что дед в гражданскую войну погиб в городе Буй от сыпняка. А вот мой прадед, тоже военный, это бабушка, его жена (показывает фотографию. — А. А., Д. Г.). Мама окончила гимназию, и тетя Тина окончила гимназию. А потом мама окончила переводческие курсы. Тетя Тина родилась в 1895 году в Петербурге».
Интонация какой-то виноватости не исчезает из голоса Ирины Ивановны. Откуда это? Неужели от сознания, что вот она жива, а Юры нет, что ее спасли, а Юру оставили?
Все же как дневник Юры мог попасть в Вологду? — пытаем мы снова и себя и ее. Вопрос этот самый болезненный для Ирины Ивановны. В нем-то, видимо, состоит главная причина ее тоски, ее тревоги. Этот вопрос терзает ее с того дня, как обнаружился дневник Юры, то есть когда напечатали кусок из дневника в «Смене». Она прочла, прибежала в редакцию, попросила этот дневник и узнала, что он был у Трифоновых в Вологде. С этого момента и грызет ее неотступно: как дневник попал в Вологду, каким образом? а что, если вместе с Юрой? тогда что же?..
Она прерывает себя и рассказывает что-то про тетю Тину, показывает автобиографию, которую Тина записала на память, оставила записки о своем роде, о себе и о предках своих для семейного архива:
«…Работала в городе Вязьме на эпидемии сыпного тифа. В 1921 году вернулась в Ленинград для окончания института. В 1923 году окончила, работала в Ленинграде, затем в больнице имени Морозова, в Морозовке, на берегу Ладоги. Работала терапевтом, заместителем главного врача. Мобилизована в войну в эвакогоспиталь, где работала по 1945 год. Была в Белоруссии, в Восточной Пруссии, награждена орденом, медалями».
Наш разговор уходит в сторону, петляет, но и мы и Ирина Ивановна все время держим в уме те январские дни…
«— У Юры было плохое зрение. Мама знала, что плохое, но не знала, что до такой степени. Он это скрывал. Он много читал. У нас было много периодики. Были комплекты «Вокруг света», приключенческая литература. Мальчики, его друзья, любили устраивать игры в коридоре. Там стоял огромный шкаф, около шкафа ширма, там были маски рыцарей, папки… Как они не покалечились? Помню, Юра писал какие-то рассказы. Маму вызывали в школу и говорили, что он плохо ведет себя на математике. Мама говорила — а вы давайте ему больше задачек. Потому что он решит задачки раньше всех и ему скучно…
— Что означает в дневнике детская карточка, о которой беспокоится Юра? Речь идет о вашей карточке?
— Наверное. Детская карточка тогда имела преимущество. По ней давали печенье. Но я тогда ничего не знала об этом, я впервые вычитала об этом теперь у Юры в дневнике.
— Был ли кто у вас в семье верующим?
— Нет, конечно, и мама и тетя Тина не верили. Тем более, что мама была членом партии. У нас на кухне висела красивая икона, наверное от бабушки. Юра еще застал бабушку. И дедушку. Возможно, по воскресеньям они водили его в церковь. Там хорошо пели. Может, у мамы он спрашивал. Мама в партии была с двадцать седьмого года. Ее исключили в тридцать седьмом году в связи с отцом, после его ареста.
— Но она была восстановлена?
— Кажется. Не знаю. Возможно. Потому что в Вологде, когда мама умерла, меня взял милиционер, посадил к себе на колени, и он, я помню, писал какую-то бумагу, наверное акт или протокол, и булавкой подколол к бумаге красную книжечку…
— А что вы помните об отце?
— Я помню один его приезд. Он приезжал из Карелии. Он был переведен туда в тридцать четвертом году, в тридцать седьмом его арестовали там, в Карелии, а выслали под Уфу, где он и умер в войну… Ничто
убрать рекламу
нас не обошло. Вся история прошла через нашу семью — со всеми войнами, бедами. А мама работала последнее время во Дворце труда, она ведала какими-то библиотечными фондами. Она комплектовала библиотеки. Я мало что тогда понимала в этом. Мама знала языки. Французский — свободно, еще немецкий и польский. Она была глубоко интеллигентный человек. Когда я прочла у Юры, что мама его бьет, то ничего не поняла. У нас в семье никого пальцем не трогали. В Юрином возрасте, конечно, все обостренно воспринималось, только так я могу объяснить…
Зная маму, все, что у меня осталось от нее… самое… самое… — И вдруг она, Ирина Ивановна, сказала: — Его на самолете вывезли. Почему-то у меня такое мнение.
И посмотрела на нас со страхом. Мы промолчали. Тогда она сказала:
— Мне не дает покоя мысль… Подспудно… А вдруг он жив? Странно, да?
Мы слушали ее со всей серьезностью. И она заговорила с жаром:
— Если вывезли, то у него при его жажде жизни, почувствуй он только, что можно выжить, хоть один шанс был бы остаться в живых, он бы использовал. А что, если… он выжил?.. Но он же должен был тогда… он же знает все адреса, он бы нашел… Хотя бы меня… Но, с другой стороны, при его юношеском максимализме. Пережить такое! Ведь он же иначе расценивал. Как предательство… Что его оставили. Но это не может на меня… Верно? Что с меня взять? Я была тогда ребенок… Но иногда мне кажется — а вдруг!.. Он, может, рассуждает: если я тогда не объявился, что ж теперь объявляться…»
Вот, оказывается, в чем ее главная мука. И это, значит, не отпускало ее с тех пор, как обнаружился дневник, и обнаружился под Вологдой. Как он туда попал? Несколько лет назад она поехала туда. Но розыски не дали никаких результатов. Никаких следов брата она не обнаружила. Однако это не убедило ее. Надежда слабая, невероятная продолжает до сих пор теплиться и, видимо, жжет, не дает покоя. Призрачная вина перед Юрой, которую может взять на себя лишь совестливая душа, заставляет ухватиться за эту немыслимую версию: а вдруг? а что, если?..
Мы ничем не могли помочь Ирине Ивановне, ни разуверить, ни опровергнуть, ни подтвердить. Мы перебирали варианты, при которых дневник Юры мог оказаться под Вологдой: Юру подобрали в квартире комсомольцы бытовых отрядов, они тогда ходили по квартирам, отвезли в госпиталь, он там умер, и кто-то из сестер, или врачей, или соседей по палате подобрал его дневник, уехал с ним в эвакуацию… Дневник-могли подобрать самые разные люди — и те, кто хоронил Юру, и те, кому Юра сам отдал дневник перед смертью. Многих ленинградцев эвакуировали тогда именно на Вологодчину. А может быть, это И. снесли Юру вниз, в кочегарку, где было потеплее?.. Бывшая соседка Ирины Ивановны утверждала, что произошло именно это. Не там ли, в кочегарке, обгорели дневник и тетрадь Юры? Там ли, в другом ли месте, Юра все писал: «Хочу есть… хочу есть… есть…» (во второй, пропавшей тетрадке) — а что было дальше, мы не знаем.
Ни один из возможных вариантов, казалось, не оставлял сомнений в Юриной гибели. Но сестра продолжала надеяться, она не отпускала от себя эту надежду, и наша логика тут была бессильна. Было жаль ее, мы и сострадали, и печалились, и гордились, и тоже хотели чуда.
Мы слушали эту женщину, мы видели через ее рассказ большую когда-то семью Рябинкиных и за нею семью Панкиных — семьи потомственных питерцев, русских интеллигентов, где не сразу и нелегко соединилось петербургское с ленинградским. Ирина Ивановна помогла нам увидеть что-то в Юре Рябинкине, да и его самого не изнутри, не глазами дневника, а как бы со стороны, другими глазами — то, чего нам так не хватало. Через нее лучше стало видно, откуда у Юры эта работа совести, истоки роста его души.
Стойкость Юры Рябинкина кажется порой нестойкостью: голод справляется с нею, проламывает ее то тут, то там. Но она возрождается. С еще большей требовательностью к себе восстанавливались его забота, любовь, его стыд, доброта. Он страдал от голода, морозов, от вшей, но при этом он страдал от стыда, его одолевала любовь к близким, ненависть к врагам, он мечтал, ему снилась победа. Как животное, он уступал инстинктам, готов был грызть дерево, ремни; как человек, он держался за книги, семью, навыки культуры, за красоту, за мысли, которые не могли ужиться с происходящим. Это противоречие проникало в душу из глубин, которые никогда раньше не затрагивались жизнью. Жажда самосохранения не могла разрушить в нем человека. Когда давление голода и страха становилось велико, перегородки рушились, но затем с отчаянием и упорством он их восстанавливал.
Благодаря Ирине Ивановне мы многое узнали о Юре, хотя и не узнали о том, как погиб он и как уцелел его дневник. Тайная и упорная вера Ирины Ивановны стала захватывать и нас.
Мы хотели выяснить обстоятельства смерти Юры. Вместо этого мы обнаружили совсем иное — затаенную веру Ирины Ивановны в то, что он живет среди людей. Слабая надежда его сестры не убедила нас, но что-то произошло — Юра действительно перестал быть для нас мертвым. Обостренное чувство вины — вот я живу, а он погиб — создало эту зыбкую надежду. Пока в ком-то существует это совестливое чувство, человек не может быть мертвым в том извечном понимании этого смысла, к какому мы привыкли.
«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Безжалостны библейские слова. Они не оставляют утешения. Они, как ни странно, как бы уводят от веры, от надежды на вечность человеческой души. Но так ли бесспорна их суровость? Сохранилась же доля Юры в мыслях, чувствах, любви пусть немногих, хотя бы нескольких людей. Заставляет же он работать любовь и совесть его сестры: вот я живу, а он… Что-то и в нас, читавших Юрин дневник, узнавших Юрину жизнь, вошло и поселилось. То же томящее чувство вины. Но мы-то в чем виноваты перед Юрой? А та восьмилетняя Ирочка — в чем? Но ведь живет она с этой виною.
Когда мы решили ввести Юрин дневник во вторую часть «Блокадной книги», была у нас надежда поставить как бы памятник ленинградскому мальчику, одному из десятков тысяч. Стремление это казалось нам благородным и справедливым. Вдруг возник вопрос: поставить памятник — и что дальше? Поставить и освободиться? Поставить, чтобы освободиться? Но в том-то и дело, что освободиться не удалось. Юра вошел в нашу жизнь и остался в ней.
Сколько их среди нас! Тех, чье присутствие мы чувствуем. Или чье отсутствие. Памятники, и литературные в том числе, нужны не для того, чтобы освободить. А чтобы привязывать навсегда.
9 мая, в День Победы, ленинградцы, тысячи их, идут на Пискаревское кладбище. Семьями идут и в одиночку, старые и молодые. Земляные холмы братских могил уже свободны от снега, прошлогодняя трава распрямилась. На темную ее жухлую зелень люди кладут цветы, а некоторые кладут конфеты, папиросы, хлеб, маленький кусочек хлеба. Где-то тут, может быть, лежит Юра Рябинкин. А если он не здесь, то все равно каждый из похороненных здесь нуждался в этом куске хлеба.
Юра Рябинкин страстно желал жить. Порою кажется, что короткая, незавершенная его жизнь хоть в чем-то ищет продолжения. И после гибели его эта жизненная сила как бы пребывает нерастраченной. Он не сумел до конца понять, за что, почему ему пришлось погибнуть, не успев осуществить себя, как ему казалось, ни в чем. Но остался его дневник и через дневник — его страстное томление по жизни.
Блокадный город, где он — город потерь, город нашего страдания, с пустырями разобранных, сгоревших домов, развалин, затаенный город невозместимых утрат, неосуществленных жизней, непроросших семян? Этот город не разглядеть. Раны залечивались быстро, шрамов не оставалось. Город возвращался к нормальной жизни с энергией неистовой, словно бы накопленной за девятьсот блокадных дней. Не осталось ничего, не оставляли ничего, словно бы воды сомкнулись. Много позже спохватились — что же показать детям, что увидят внуки? Восстановили синюю надпись на Невском: «Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна».
Передний край обороны обозначили памятниками, соорудили Зеленый пояс Славы, а новые кварталы уходят все дальше и дальше за бывшую линию фронта. Примерно то же самое произошло с памятью о блокаде — она уходит внутрь, как древесные кольца в ствол дерева.
Старый особняк на Васильевском острове, «Аврора» на вечной стоянке, белые ночи — из чего слагается красота этого города? Для новых поколений блокада вошла в образ города, придала красоте его трагическую силу.
Время собирать камни, время разбрасывать… Когда наступает время разбрасывать камни? Наше время — если говорить также и о блокадной памяти Ленинграда — это время (упущенное изрядно) собирать. Собирать глыбы народной памяти. Мы тоже этим занимались все последние годы, собранное и отобранное сложили в то, что назвали «Блокадной книгой». И свой «раствор» положили для лучшего сцепления, связки — тот, который, как известно, всегда выветривается, рассыпается первым: оценки людей и времени, характеристики.
Единственное в чем мы были уверены, так это в самоценности «материала», который определил и сам характер, жанр книги. И даже если постройка зашатается, начнет оседать и рушиться под напором времени — нет, не нам жалеть или жаловаться. Будущее иногда бросает камни в прошлое. К этому всегда следует быть готовыми. Готовыми к тому, что, собирая «камни» правды о себе и о своем времени, приготавливаешь их и для себя. Но так уж устроен человек — боль правды, всей правды для него в конечном счете важнее, дороже сомнительного «блаженства» неведения или лжи.
…Мы завершили свою долгую работу со странным чувством, все с тем же неотступным вопросом: зачем, ради чего оживили мы этих давно ушедших людей, их давние муки и боль? Мы много раз отвечали себе на этот вопрос и до конца все же не знали ответа, но в одном мы утвердились: это надо было сделать. Все это было, и живущие люд
убрать рекламу
и должны об этом знать.
Примечания

1

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления, т. 2. Изд. 5-е. М., 1983 с. 169.
2

История Коммунистической партии Советского Союза, т. V, кн. 1. М., 1970, с. 220.
3

Правда, 1944, 28 января.
4

Правда, 1957, 23 июня.
5

Здесь и далее примечания авторов.
6

ДЛТ — Дом ленинградской торговли, универмаг.
7

Спустя три месяца после того, как была сделана эта запись, Лора Михайловна Опахова умерла. Блокада, даже отпустив, «своих» находит.
8

Баркулабовская летопись. — В кн.: «Помнiкi старажытнай беларускай пiсьменнасцi». Мiнск, «Навука i тэхнiка», 1975, с. 145.
9

Жозуа де Кастро. География голода. Сокр. пер. с англ. М., «Иностранная литература», 1954, с. 31.
10

О немецко-фашистском варианте использования этого оружия Жозуа де Кастро писал: «»План организованного голода», осуществлявшийся третьей империей, имел солидную научную базу и совершенно определенные цели. Это было мощное оружие войны, обладавшее большой разрушительной силой, которую нужно было использовать в самых широких масштабах и с максимальной эффективностью. Именно так и поступали немцы, отбросив всякую сентиментальность и манипулируя продовольственными поставками в соответствии с конкретными целями этой разновидности «геополитики голода», как назвал бы такой план Карл Гаусговер и его клика немецких геополитиков» («География голода», с. 315).
11

Основной белковый компонент молока и молочный продуктов.
12

«Положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст о себе знать наш союзник — голод», — записывал Ф. Гальдер, начальник немецкого генштаба (Гальдер Ф. Военный дневник, т. 3, кн. I. Воениздат, 1971, с. 360).
13

К. Н. Сербина любезно сообщила нам фамилию докладчика: Сергеенко Мария Ефимовна.
14

Ничего, кроме этого инициала, в заголовке принесенных нам записок нет. Фамилию автора установить не удалось.
15

900 героических дней. Сб. документов. М. — Л., «Наука», 1966, с. 47.
16

Врач Б. Прусов написал нам, что в рассказе А. И. Дубровского есть неточность: одна из троих — Поздняк — была ранена, но осталась жива.
17

С. А. Пржевальский умер в 1977 году — до того, как был напечатан его рассказ.
18

Г. А. Князев жил неподалеку от Архива АН СССР, на 7-й линии Васильевского острова, д. 2 — дом Академии наук. Он ездил в инвалидной коляске, ноги были парализованы.
19

Известное в Ленинграде ателье.
20

После публикации в журнале «Новый мир» мы получили письмо от Д. Г. Басаневской, где она пишет: «Я очень хорошо знала Николая Васильевича Лебедева (а не Ивановича, как написано)… это был замечательный человек и врач…»
21

1 Мая немцы особенно яростно обстреливали город.
22

Мы встретились с Ольгой Николаевной Мельниковой-Писаренко, когда она работала в музее «Дорога жизни».
23

М. Ф. — Мария Федоровна, жена Г. А. Князева; она-то любезно и передала нам дневник покойного мужа и многое помогла понять личности и трудах Георгия Алексеевича.
24

Заметьте, Г. А. Князев предугадал, как эта война войдет в нашу историю — Великая Отечественная.
25

Многие фамилии полностью не публикуем, поскольку оценки людей могли быть случайными, продиктованными неясностью ситуации или минутным настроением.
26

убрать рекламу
lt='Сделать закладку на этом месте книги' title='Сделать закладку на этом месте книги' />
Тина — Валентина Ивановна, тетка Юры, сестра его матери.
27

Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом).
28

Список длинный, из экономии места мы его опускаем.
29

Отточием в скобках обозначены непрочитанные места: страницы дневника обгорели, иные стерлись.
30

Так Юра называет неизвестную ему Ельню.
31

Рассказы о ракетчиках были характерными для тех дней слухами, порой сильно преувеличенными, что и понятно в тех условиях. Не раз, когда мы пытались выяснить подробности, оказывалось, что случай не подтверждается.
32

Видимо, Юра имеет в виду К. Е. Ворошилова.
33

Ни такого приказа, ни уличных боев в Ленинграде, разумеется не было.
34

Мать Юры по документам была Антонина Михайловна, ни в жизни ее звали Нина Михайловна.
35

Переживать стихотворение (нем.).
36

Отдельный городской батальон.
37

«Военно-исторический журнал», 1977, № 2, с. 45–46.
38

В устном рассказе Лидия Георгиевна уточнила: соседка ей посоветовала, получишь, дескать, три карточки и выбери, кого спасать, кого хоронить — мальчика или дочурку, иначе все погибнете. Сама она так поступила. Выбрала и стала спасать старшего — мальчика. Девочка плакала несколько дней, Лидия Георгиевна не могла слышать это, подкармливавала, но что она могла со своими граммиками.
39

Приблизительно столько жителей было эвакуировано из Ленинграда в 1942 году — в тяжелейших условиях.
40

Вероятно, В. П. Безобразова имеет в виду стихотворение В. Инбер «Пушкин жив», написанное 5 июня 1943 года.
41

Институт истории материальной культуры.
Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 129; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
