КОНКРЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМ 11 страница
437
 ные и технические отношения других со мной объявляют обо мне как о любом; для официанта кафе я один из посетителей, для того, кто компостирует билеты, один из пользующихся метро. Наконец, уличный инцидент, внезапно возникший перед террасой кафе, где я нахожусь, указывает на меня как на анонимного зрителя и как на чистый "взгляд, который делает существующим этот инцидент в качестве внешнего". Равным образом на анонимность зрителя указывает спектакль в театре, на котором я присутствую, или выставка картин, посещаемая мной. И, конечно, я делаю себя любым, когда я примериваю обувь или откупориваю бутылку, вхожу в лифт или смеюсь в театре. Но испытание этой недифференцированной трансцендентности является интимным и случайным событием, которое касается только меня. Некоторые отдельные обстоятельства, происходящие в мире, могут здесь прибавить впечатление бытия мы. Но речь может идти во всяком случае лишь о чисто субъективном впечатлении, затрагивающем только меня.
ные и технические отношения других со мной объявляют обо мне как о любом; для официанта кафе я один из посетителей, для того, кто компостирует билеты, один из пользующихся метро. Наконец, уличный инцидент, внезапно возникший перед террасой кафе, где я нахожусь, указывает на меня как на анонимного зрителя и как на чистый "взгляд, который делает существующим этот инцидент в качестве внешнего". Равным образом на анонимность зрителя указывает спектакль в театре, на котором я присутствую, или выставка картин, посещаемая мной. И, конечно, я делаю себя любым, когда я примериваю обувь или откупориваю бутылку, вхожу в лифт или смеюсь в театре. Но испытание этой недифференцированной трансцендентности является интимным и случайным событием, которое касается только меня. Некоторые отдельные обстоятельства, происходящие в мире, могут здесь прибавить впечатление бытия мы. Но речь может идти во всяком случае лишь о чисто субъективном впечатлении, затрагивающем только меня.
2. Опыт мы-субъекта не может быть первичным; он не может конституировать первоначальную установку по отношению к другим, поскольку он, напротив, чтобы реализоваться, предполагает двойное предварительное признание существования другого. В самом деле, первоначально созданный объект является таковым, только если он отсылает к производителям, которые его сделали, и к правилам использования, определяемым другими. Перед неодушевленной и необработанной вещью, способ использования которой я сам устанавливаю и для которой я сам определяю новое по своему характеру использование (если, например, я использую камень в качестве молотка), у меня есть нететическое сознание своей личности, то есть моей самости, моих собственных целей и свободы изобретательности. Правила обращения, способы использования созданных предметов, одновременно жесткие и идеальные как запреты, ставят меня своей существенной структурой в присутствие другого; и именно поэтому другой обращается со мной как с недифференцированной трансцендентностью, которой я могу реализоваться как таковой. Возьмем здесь, например, только эти большие панно, которые возвышаются над дверями вокзала, зала ожидания и где написаны слова "выход" или "вход" или нарисованы указывающие пальцы на плакатах, которые обозначают здание или направление. Речь здесь идет еще о гипотетических императивах. Но формулировка императива явно подразумевает другого, который говорит и обращается непосредственно ко мне. Именно мне предназначена запечатленная фраза; она представляет, конечно, непосредственную коммуникацию другого со мной; я имеюсь в виду. Но если другой имеет в виду меня, то это потому, что я есть недифференцированная трансцендентность. Как только я направляюсь к выходу, обозначенному "выход", я вовсе не использую в абсолютной свободе свои личные проекты; я не создаю орудие изобретением, я не возвышаю чистую материальность вещи к своим возможностям; но между мной и объектом проскальзывает уже человеческая трансцендентность, которая руководит моей трансцендентностью; объект уже гуманизирован, он означает "человеческое господство". "Выход", рассматриваемый как простая открытость, ведущая на улицу, строго эквивалентен входу; ни его коэффициент враждебности, ни видимое его
|
|
|
|
|
|
438
удобство, не указывают на него как на выход. Я подчиняюсь не самому объекту, когда использую его как "выход"; я приспосабливаюсь к человеческому порядку; своим действием я признаю существование другого, с ним я веду диалог. Об этом прекрасно сказал Хайдеггер. Но вывод, который он забыл из этого сделать, таков: чтобы объект предстал как сделанный, необходимо, чтобы другой вначале был дан каким-то другим способом. Кто еще не имел опыта о другом, ни в коем случае не смог бы отличить сделанный предмет от чистой материальности необработанной вещи. Если бы даже он стал использовать его в соответствии со способом употребления, предусмотренным фабрикантом, он вновь бы изобрел этот способ и реализовал бы таким образом свободное присвоение естественной вещи. Выйти через выход, обозначенный как "выход", не читая надписи или не зная языка, — значит вести себя как сумасшедший у стоиков, который говорит "светло" среди бела дня не вследствие объективной констатации, но из внутренних побуждений своего сумасшествия. Если, следовательно, созданный предмет отсылает к другим людям и посредством этого — к моей недифференцированной трансцендентности, то это потому, что я уже знаю других. Стало быть, опыт мы-субъекта создается на первоначальном опыте другого и может быть только вторичным и подчиненным опытом.
|
|
|
Но, кроме того, как мы видели, понять себя как недифференцированную трансцендентность, то есть, в сущности, как чистый единичный пример "человеческого рода", еще не значит воспринимать себя в качестве частичной структуры мы-субъекта. В самом деле, для этого необходимо открыть себя как любого внутри какого-нибудь человеческого потока. Следовательно, нужно быть окруженным другими. Мы также видели, что другие совсем не испытываются в этом опыте как субъекты и не постигаются как объекты. Они совсем не полагаются; конечно, я исхожу из их фактического существования в мире и восприятия их действий. Но полагающим образом я не постигаю их фактичность или их жесты; у меня — боковое сознание, не полагающее их тела как корреляты моего тела, их действия как исчезающие в связи с моими действиями, таким образом, что я не могу определить, мои ли действия порождают их действия или их действия порождают мои. Этих замечаний достаточно для понимания того, что опыт "мы" не может дать мне первоначально знания в качестве других, тех, кто составляет часть мы. Совсем наоборот, необходимо, чтобы вначале было некоторое знание того, чем является другой, чтобы опыт моих отношений с другим мог бы быть реализован в форме "Mitsein". В одном себе Mitsein было бы невозможно без предварительного признания того, чем является другой; я "нахожусь с...", предположим; но с "кем"? Кроме того, даже если бы этот опыт был онтологически первым, то не было бы видно, как смогли бы перейти в радикальном преобразовании этого опыта полностью недифференцированной трансцендентности к опыту отдельных личностей. Если другой не был бы данным в то же самое время, то опыт "мы", разбиваясь, порождал бы только восприятие чистых объектов-инструментов в мире, окруженном моей трансцендентностью.
|
|
|
Эти замечания не претендуют на то, чтобы исчерпать вопрос о мы. Они лишь показывают, что опыт мы-субъекта не имеет никакой ценнос-
439
ти метафизического открытия; он тесно зависит от различных форм для-другого и оказывается только эмпирическим обогащением некоторых из них. Именно этому, очевидно, нужно приписать крайнюю непрочность такого опыта. Он приходит и исчезает своенравно, оставляя нас перед другими-объектами или перед "кем-то", кто нас рассматривает. Он появляется как предварительное успокоение, которое конституируется внутри самого конфликта, но не как определенное решение этого конфликта. Напрасно желали бы гуманного "мы", в котором интерсубъективная целостность имела бы сознание самой себя как объединенной субъективности. Подобный идеал может быть только мечтой, созданной посредством перехода к пределу и к абсолюту, исходя из фрагментарных и строго психологических опытов. Сам этот идеал, впрочем, предполагает признание конфликта трансцендентностей как первоначального состояния бытия-для-другого. Именно это объясняет явный парадокс: единство угнетенного класса возникает из того, что он испытывает себя как мы-объект перед недифференцированным кем-то, которым является третий или класс угнетающий; могут подумать аналогичным образом, что угнетающий класс постигает себя как мы-субъект перед классом угнетенным. Однако слабость угнетающего класса, хотя и располагающего определенным и строгим аппаратом принуждения, заключается в том, что он в себе самом глубоко анархичен. "Буржуа" не определяет себя только как определенного homo oeconomicus, располагающего властью и определенной привилегией внутри общества некоторого типа; он описывает себя изнутри в качестве сознания, которое не признает свою принадлежность к классу. Его ситуация в действительности не позволяет ему постигнуть себя включенным в мы-объект в общности с другими членами буржуазного класса. Но, с другой стороны, сама природа мы-субъекта предполагает, что он делает только мимолетные опыты без метафизической значимости. "Буржуа" отрицает обычно, что существуют классы; он приписывает существование пролетариата действию агитаторов, досадным инцидентам, несправедливостям, которые могут быть исправлены отдельными мерами; он утверждает существование солидарности интересов между капиталом и трудом, противопоставляет классовой солидарности более широкую, национальную солидарность, где рабочий и предприниматель интегрируются в Mitsein, которое ликвидирует конфликт. Речь не идет здесь, как это слишком часто говорят, об уловках или о глупом отказе видеть ситуацию в ее истинном свете; но член угнетающего класса видит перед собой как объективную совокупность "их-субъектов" целостность угнетенного класса, не замечая соответственно свою общность бытия с другими членами угнетающего класса; оба опыта ни в коем случае не являются дополнительными; в самом деле, достаточно быть одному перед угнетенным коллективом, чтобы его постигнуть как объект-инструмент, а себя - в качестве внутреннего-отрицания этого коллектива, то есть просто как беспристрастного третьего. Только когда угнетенный класс посредством восстания или быстрого увеличения своих возможностей располагается перед членами угнетающего класса как "взгляд-кого-то", тогда угнетатели испытывают себя как мы. Но это будет в страхе и стыде, и в качестве мы-объекта.
440
Таким образом, нет никакой симметрии между испытыванием мы-объекта и испытыванием мы-субъекта. Первое является открытием реального измерения существования и соответствует простому обогащению первоначального опыта для-другого. Второе оказывается психологическим опытом, реализуемым историческим человеком, погруженным в мир труда и в общество определенного экономического типа. Этот опыт ничего особенного не открывает и является просто субъективным "Erlebnis".
Представляется, однако, что опыт "мы", хотя и реальный, не может, в сущности, изменить результаты наших предшествующих исследований. Идет ли речь о мы-объекте? Он непосредственно зависим от третьего, то есть от моего бытия-для-другого, и как раз на основании моего внешнего-бытия-для-другого он конституируется. Идет ли речь о мы-субъекте? Последний является психологическим опытом, который так или иначе предполагает, что существование другого как такового нам было открыто. Следовательно, для человеческой реальности бесполезно стремиться выйти из этой дилеммы: трансцендировать другого или позволить трансцендировать себя им. Сущность отношений между сознаниями — не Mitsein, а конфликт.
В конце этого длинного описания отношений для-себя с другим мы приобрели, однако, убежденность: для-себя не есть только бытие, появляющееся в качестве ничтожения в-себе того, чем оно является, и внутренним отрицанием в-себе того, чем оно не является. Это ничтожащее бегство полностью снова охватывается посредством в-себе и застывает в-себе, как только появляется другой. Только для-себя является транс-цендирующим в мире; оно есть ничто, посредством которого существуют вещи. Другой, появляясь, придает для-себя бытие-в-себе-в-середи-не-мира в качестве вещи среди вещей. Это окаменение в-себе под взглядом другого оказывается глубоким смыслом мифа о Медузе. Таким образом, мы продвинулись вперед в нашем исследовании; мы хотели бы определить первоначальное отношение для-себя к в-себе. Мы узнали вначале, что для-себя является ничтожением и радикальным отрицанием в-себе; сейчас мы удостоверились в том, что из-за одного факта состязания с другими без всякого противоречия оно оказывается также полностью в-себе среди других в-себе. Но этот второй аспект для-себя представляет его внешнее; для-себя по природе есть бытие, которое не может совпадать со своим бытием-в-себе.
Эти замечания смогли бы служить основой создания общей теории бытия — той цели, которую мы преследуем. Тем не менее еще слишком рано приступать к ней; в самом деле, недостаточно описать для-себя как просто проектирующего свои возможности по ту сторону бытия-в-себе. Проект этих возможностей не определяет статично конфигурацию мира: он изменяет мир в каждый момент. Если мы читаем, например, Хайдег-гера с этой точки зрения, то поражены недостаточностью его герменевтических описаний. Принимая его терминологию, мы скажем, что он описал Dasein как существующее, которое возвышало существующие к их бытию. И бытие здесь означает смысл или способ бытия существующего. Конечно, верно, что для-себя есть бытие, посредством которого существующие вещи раскрывают свой способ бытия. Но Хайдеггер
441
обошел молчанием тот факт, что для-себя не только бытие, которое конституирует онтологию существующих вещей, но что оно еще является бытием, посредством которого онтические преобразования внезапно происходят с существующим как существующим. Эта постоянная возможность действовать, то есть преобразовывать в-себе в его онтической материальности, в его "плоти", должна, очевидно, рассматриваться в качестве существенной характеристики для-себя; как таковая она должна найти свое основание в первоначальном отношении для-себя к в-себе, что мы еще не осветили. Что значит действовать! Почему для-себя действует? Как может оно действовать? Таковы вопросы, на которые нам нужно теперь ответить. У нас есть все элементы ответа: ничтожение, фактичность и тело, бытие-для-друг ого, собственная природа в-себе. Их снова следует вопрошать.
Часть четвертая
ОБЛАДАНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И БЫТИЕ
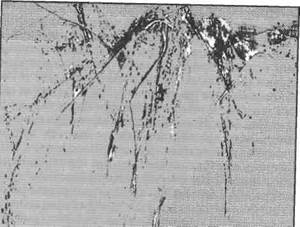
 Обладание, действие и бытие — главные категории человеческой реальности. Они включают в себя все способы деятельности человека. Знание, например, есть модальность обладания. Указанные категории соотносятся между собой, и многие авторы подчеркивают эти соотношения. Как раз отношение подобного рода выявляет Дени де Ружмон*, когда он пишет в своей статье о Дон Жуане: "Он был не способен обладать". Подобная связь существует, когда показывают морального субъекта, действующего, чтобы сделаться, и, сделавшись, быть.
Обладание, действие и бытие — главные категории человеческой реальности. Они включают в себя все способы деятельности человека. Знание, например, есть модальность обладания. Указанные категории соотносятся между собой, и многие авторы подчеркивают эти соотношения. Как раз отношение подобного рода выявляет Дени де Ружмон*, когда он пишет в своей статье о Дон Жуане: "Он был не способен обладать". Подобная связь существует, когда показывают морального субъекта, действующего, чтобы сделаться, и, сделавшись, быть.
Между тем антисубстанциальная тенденция в современной философии победила; большинство мыслителей попыталось перенести в сферу поведения людей идеи тех своих предшественников, которые заменили в физике субстанцию простым движением. Целью морали издавна было дать человеку средство быть. Это характеризовало как мораль стоиков, так и "Этику" Спинозы. Но если бытие человека должно раствориться в последовательности его действий, целью морали больше не будет вознесение человека до высшего онтологического уровня. В этом смысле кантовская мораль является первой крупной этической системой, которая заменяет действие бытием как высшей ценностью деятельности. Герои "Надежды" Мальро находятся большей частью на почве действия, и автор показывает нам конфликт старых испанских демократов, пытающихся еще быть с коммунистами, мораль которых превращается в серию точных обязательств и предписаний, причем каждое из этих обязательств имеет целью отдельное действие. Кто прав? Что является высшей ценностью человеческой деятельности: действие или бытие? И как бы мы ни решили вопрос о том, что остается на долю обладания! Онтология должна прояснить эту проблему; впрочем, это одна из ее существенных задач, если для-себя есть бытие, которое определяется действием. Мы не можем закончить этот труд, не наметив в общих чертах анализ деятельности вообще и существенные отношения действия, бытия и обладания.
Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
