Медицина и зелья «на добро и зло»
Выше уже отмечалась связь волшебства и лечения. Вместе с тем собственно врачебное искусство также нашло отражение в памятниках исследуемого периода. Его включение в число «неправедных» дел авторами Домостроя объясняется особым отношением к заболеваниям со стороны церкви, рассматривавшей утрату здоровья в качестве «последнего предупреждения о том, что некими конкретными поступками или же отказом от них персонаж гневит Бога…».[229] Поэтому, по замечанию М. П. Одесского, такие церковные деятели, как Нил Сорский, митрополит Даниил и др., отстаивали идею спасительности болезни, заставляющей человека обратиться к Богу. Но недуг мог оказаться и самой карой за людские грехи, и тогда он не поддавался лечению.[230]
В любом случае единственным средством избавления от страданий признавалось покаяние и крестное знамение. Ибо, по Стоглаву, лишь истинно почитаемый христианский крест «и от болезней, и от недуг всяческих исцелевает».[231] Поэтому даже обычные санитарно‑гигиенические меры при моровых поветриях вызывали нарекания духовенства как альтернатива молитве.[232] Ведь только по Божьему промыслу язва насылается на тех или иных людей по грехам их, как, согласно включенному в Житие Варлаама Хутынского Видению хутынского пономаря Тарасия, произошло в 1506–1508 гг. в Новгороде, где три осени подряд свирепствовала эпидемия «за беззаконие и неправды» жителей.[233]
|
|
|
Православный же люд вместо похода в церковь прибегал к посредничеству народных целителей – «чародеев, и кудесников, и всяких мечетников, и зелеиников с кореньем»,[234] творивших «бесовские врачевания» с помощью всевозможных магических средств, так как, по мнению А. Алмазова, понятие волшебства и чар в этот период совпадает с понятием врачевания.[235] Это и было причиной того, что служители церкви воспринимали лечебные процедуры как козни дьявола, которые не могли устранить причины недомогания. Более того, по наблюдениям Ф. А. Рязановского, «в житиях обычно при обращении больного к чародеям болезнь только усиливается»,[236]поскольку, согласно идеям церковно‑учительной и житийной литературы, именно «по действу диаволю» бесы напускают на человека всяческие недуги.[237] А разве можно надеяться, что врач «беса бесом изгонит»?[238]
Тем не менее народ, судя по всему, вполне доверял тем способам врачевания, которые предлагали ему носители дедовской традиции. Наши источники сообщают о целом ряде средств, использовавшихся в знахарской практике. Это и упоминавшиеся уже выше наузы, или узлы, которые навешивались на шею больного и часто заключали в себе записанный заговор или молитву из отвергавшихся церковью апокрифов. И стрелы и топоры громные из перечня Домостроя, которые представляли собой обработанные камни особой формы и, согласно мерилу праведному XV в., употреблялись для изгнания бесов,[239] а у белорусов более позднего периода – для поддержания мужской потенции.[240] И названные в том же списке загадочные усовники, и «дна камение, кости волшебные», под которыми, видимо, следует разуметь применявшиеся в народной медицине кости мертвецов, не говоря уже об освящаемых приходскими священниками в Великий четверг мыле и соли, имевшихся, судя по этнографическим данным, чуть ли не в каждом доме.
|
|
|
Наибольшие же нарекания духовенства вызывали всевозможные зелья, в том числе наговорные. Дело в том, что в древних культурах, по мнению А. К. Байбурина, «усвоение услышанного мыслится как вполне физиологический процесс поглощения, проглатывания… Проглатывание „наговорного зелья“ – один из наиболее распространенных приемов в традиционной медицине у многих народов, когда вместе с питьем проглатывается и заговор, причем слова являются главным компонентом „лекарства“. С идеей усвоения‑проглатывания слова связана, вероятно, традиция поглощения жертвы (жертвенного напитка), над которой произносятся сакральные формулы…».[241]
|
|
|
Впрочем, лечебное средство могло быть и наружного применения, как в написанной в XVI в. истории об исцелении муромского князя Петра девой Февронией, которая снабдила его «кисляждью» для помазания ран. Но, передавая свое зелье, знахарка на него дунула, поскольку и наружное лекарство должно было нести в себе магическое начало, иначе оно не смогло бы избавить князя от струпьев. Ведь причина болезни крылась в колдовской силе крови, брызнувшей на Петра из тела поверженного им летающего змея.[242]
Однако в глазах церкви ни само лекарство, ни произнесенный над ним волшебный текст, даже включавший христианские формулы, не могли служить альтернативой Божьей воле. Это со всей очевидностью выявлял в первой половине XV в. эфесский митрополит Иоасаф, писавший, что «хотя в волшебстве и призывают имена святых, но для обмана изобрел это дьявол, отдаляя мало‑помалу пользующихся (сим) от Бога».[243] Не случайно в поздних списках «Сказания о Петре и Февронии» (конец XVII–XVIII вв.) магический элемент лечения и само зелье исчезли, уступив место молитве.[244]
Потому и Кормчая книга 1493 г. из Соловецкой библиотеки требовала: «Напаяющая дети своя от тех реченых [зелий], аще не просвещена суть, несть греха, аще ли просвещена суть, лето едино, поклон 40». Подобное отношение было вызвано тем, что зельем можно было испортить и даже отравить человека, на что указывают соответствующие вопросы требников: «Или испортила ли еси кого зелием», «Или человека зелием не отравила ли еси», «Или мужа… уморила отравою».[245] Убиение зельем в русской практике чаще всего наблюдалось в случаях нежелательной беременности. Но по христианским правилам плод являлся таким же живым существом, как любое другое. Поэтому избавление от него воспринималось как убийство, каравшееся епитимьей от 3 до 5 лет.[246] И тогда исповедник вопрошал потенциальную грешницу: «Детя в собе или в подрузе злобою зельем ци растворила еси», «Аще зелье пив извергла», «Или дитя росказила в себе», «Запечатала ли еси дети в себе».[247]
|
|
|

Лечение князя Петра рязанской знахаркой девой Февронией.
Миниатюра рукописи XVII в.
Зелья использовались и в противоположных целях – для восстановления и нормализации детородных способностей женщин. Ведь наличие ребенка изменяло статус женщины в семье и обществе, так как свидетельствовало о ее способности выполнить свое главное предназначение – обеспечить продолжение рода. Не рожавшая женщина даже не считалась еще вполне замужней (что подтверждается материалами этнографии[248]), из‑за чего ей разрешалось носить такой же головной убор, как у девиц.[249]
Все вышесказанное стало причиной того, что женщины, долгое время остававшиеся бесплодными, пытались найти магические средства, которые помогли бы им получить желанного младенца. Наилучшим считалось зелье, изготовленное из того, что непосредственно было связано с процессом зачатия и рождения ребенка. Покаянные сборники подробно выясняли у потенциальной нарушительницы: «Едала ли еси детину пупорезину детей хотячи», «или ложа детинаго, или семянныя скверны».[250] И. Левин обнаружила аналогичную веру в продуцирующую силу съеденной плаценты в древней Византии и Франции XIX в.[251]
Но чаще всего для получения плода страждущая «зелие яла и пила от чародеи»,[252] обладавших наиболее богатым арсеналом целебных веществ и методов, которые они предлагали не только простолюдинкам, но и пациенткам высокого звания. Так, согласно Даниилу Принтцу, третья жена Грозного, боярыня, умерла, «выпивши какое‑то питье, пересланное ей матерью чрез придворного: этим питьем она, может быть, хотела приобресть себе плодородие» – и мать, и придворный были казнены.[253] Целый ряд врачебных приемов испытала на себе жена Василия III – Соломония Сабурова. Настасья Сабурова, приведшая находившуюся в то время в Москве Стефаниду Рязанку к великой княгине по ее просьбе, рассказывала мужу, что та наговаривала воду, смачивала княгиню, смотрела ее на брюхе и сказала, что детей не будет; а Соломония ему рассказала, что Стефанида дала ей наговоренную в рукомойнике воду для любви царя, «а коли понесут к великому князю сорочьку и порты и чехол, и она мне велела из рукомойника тою водою смочив руку, да охватывати сорочьку и порты и чехол и иное которое платье белое». А позже знающая детей черница без носа наговаривала то ли масло, то ли пресный мед и посылала к царице тереться ради любви царя и чадородия,[254] видимо, не подтвердив диагноза предшественницы и надеясь на удачный исход дела.
Многие лекарственные средства имели растительное происхождение. Само их изготовление было сопряжено с магическими приемами и приурочивалось к таким календарным срокам, когда наблюдалась наибольшая активность природы, и открывалось сокровенное знание о пользовании ее богатствами. Так, например, сбор некоторых трав, которым приписывали волшебные свойства, производился в период достижения ими максимальной силы – в конце июня, в ночь на Ивана Купалу. Игумен Памфил писал в 1505 г.: «Пакы же о тех же Плесковичи, в той святой день Рождества великого Ивана Предтечи исходят обавницы, мужи и жены чаровницы, по лугам и по болотам, в пути же и в дубравы, ищуще смертные травы и превета чревоотравного зелия на пагубу человечеству и скотом, ту же и дивиа копают корения на потворение и на безумие мужем; сиа вся творят с приговоры действом дьяволим…».[255]
Как видно из приведенных сообщений, зелья предназначались не только для исцеления телесных и душевных недугов, но и для налаживания взаимоотношений между полами. Не случайно А. Алмазов пришел к выводу, что «главным образом, согласно нашим источникам, чары и тому подобное, по представлению древнерусского человека, имели значение в делах интимного свойства».[256] Приготовленные с заговорами «коренья на потворение и на безумие мужем» могли подсыпаться в одежду, постель, под ноги любимому.[257]Кроме того, священники спрашивали на исповеди своих прихожанок: «Аще в питьи или в яденьи чары какы давала», «мужу своему или иному кому», «Или кого зельем потворила еси к себе на блуд».[258]
Не менее действенными, чем растительное зелье, считались наговоренная вода, как в случае с Соломонией Сабуровой, и естественные выделения организма, на что указывают некоторые покаянные вопросы: «Или кому не давали своего млека или своея похоти в чем милости для чтоб тобя любили», «Мала и велика нечистоты ложа своего или млека от сесца, или крови в питии или во ядении мужю или кому‑нибуди того не давала ли ести или питии?».[259] Столь же надежным средством являлся собственный пот, смытый вместе с намазанными на тело молоком, медом или маслом, и поданный в виде напитка предмету страсти, «волшебство творя», «милости деля», «любви деля», а в понимании церкви – «блуда ради».[260]
Вера в результативность перечисленных манипуляций сохранялась и позже. Так, на Пинеге известен обычай утирать тряпкой пот в бане и выжимать его в чай или вино как присушивающее средство; с той же целью невеста дарит жениху в первой послесвадебной бане рубашку, пропитанную ее потом, или подает ему пирог из теста, которым обмазывалась, или молоко, которым обмывалась. Ведь пот и другие выделения человеческого тела рассматриваются народным сознанием как средоточие жизненной силы.[261] Подчеркнем – жизненной силы именно их владельца, почему и важно было направить ее в нужное русло. Возможно, поэтому в отдельных случаях наполненная новым содержанием вода могла употребляться самим омывшимся: «Или мывшися в кацем судне пила?».[262] Но чаще эту силу переправляли в тело того, от кого хотели добиться внимания, чтобы воздействовать на него изнутри.
Подобные методы снискания расположения считались пригодными и для мужчины, поэтому на исповеди ему могли предлагаться аналогичные вопросы: «Медом и млеком мывался ли еси, да кому давал блуда ради или милости каво‑нибудь зелие?», «Или измывати медом или молоком кому милости деля не давал ли?».[263]
Как показывают приведенные фрагменты, колдовство путем смывания совершалось не только в рамках любовной магии, на что обратила внимание и М. В. Корогодина, но и просто в целях налаживания хороших отношений – «милости деля».[264] Именно поэтому на Русском Севере пот невесты давали в питье не только жениху, но и его родителям, и всем участникам свадебного обряда.[265] Видимо, не случайно и в требниках изучаемого периода чаще встречается вопрос об омывании зельем, молоком или медом ради милости, нежели ради любви или блуда. Так что ни о какой утрате изначального смысла обряда, которую М. В. Корогодина усмотрела в омывании молоком и медом мужчин и в употреблении масла женщинами,[266]речи идти не может. Хороши были все средства, которые могли повысить привлекательность участника обряда в глазах других людей. Особенно же в глазах членов новой семьи, включение в которую зачастую сопровождалось обрядами, также вызывавшими нарекания со стороны православного духовенства.
Брак и развод
Для древней эпохи источники фиксируют у восточных славян заключение браков у воды, однако памятники конца XV–XVI вв. молчат о том, в какой форме осуществлялось создание новых семей теми, кто не видел необходимости обращаться по этому поводу к христианским обрядам. Известно лишь, что на реку невеста по‑прежнему ходила. Об этом сообщает Чудовский список Слова св. Григория XVI в., где рассказывается, что русские люди «водять невесту на воду даюче замужь, и чашу пиють бесом, и кольца мечють в воду и поясы».[267]
Сакральный характер описанных действий очевиден. Во многих традициях вода считается соединяющей и оплодотворяющей стихией, поэтому так распространен обычай совместного омовения или купания молодых в рамках свадебных и календарных ритуалов или, по крайней мере, хождение невесты по воду к источнику, используемому семьей мужа, в который она кидала деньги, кольцо, кусок каравая или пояс.[268] В нашем случае соединение, видимо, происходило через личные вещи, выполнявшие посредническую, заместительную функцию. Как пояса, так и кольца более чем подходили для символического скрепления отношений, поскольку имели форму, соответствующую кругу, в пределах которого устанавливались магические связи.[269] Недаром в начале XX в. жених в день свадьбы избавлялся от колец и иных предметов, полученных от других девушек – чтобы не заворожили.[270] В рассматриваемой ситуации, видимо, бросались кольца молодых с прямо противоположной целью – соединения. Метание же в воду пояса осуществлялось и в XIX–XX вв. в Новгородской губернии дружкой, после чего доставшая его молодая одаривала родственников мужа изготовленными ею в девичестве ткаными изделиями, обеспечивая себе место в новом коллективе, к которому ее символически приплетали поясом волны.[271]
Сложнее обстоит дело с «питьем чаши бесам». Не понятно, в честь кого именно ее пили. Скорее всего, подразумевались покровители брака и семьи, в роли которых вполне могли выступать предки (возможно, Род и роженицы, о которых речь ниже). Не ясно также и то, какой напиток находился в чаше. Но, похоже, что он имел продуцирующее назначение, так как один из списков «Слова некоего христолюбца», относящийся к XV в., заявляет: «И егда у кого их будет брак… устроивыне срамоту мужьскую и въкладывающе в ведра и в чаше и пиють, и вынемыне осмокывають и облизывают и целують».[272] А в Софийском списке Слова св. Григория того же столетия поясняется, что «словене же на свадьбах въкладываюче срамоту и чесновиток в ведра, пьют».[273]
Комментируя эти фрагменты, Н. Гальковский отметил, что и в XIX в. на свадьбах молодым давали выпить стакан с мужским семенем ради плодородия.[274] А у многих народов существует убеждение, что женщина может зачать от проглатывания спермы.[275] Мотив зачатия от проглатывания семени, правда, обычно растительного, есть и в сказках. Кроме того, вопрос о вкушении «скверны семеньныя» встречается в требниках XIV–XVI вв. в связи с мерами по активизации детородной функции женщин.[276] Так что приведенные свидетельства церковно‑учительных памятников не выглядят преувеличением христианских авторов.
Нельзя с уверенностью сказать, сочетались ли описанные обычаи с венчанием или существовали параллельно с христианской традицией. Но то, что внецерковные браки как таковые не были редкостью в указанное время, видно из служебных книг XV–XVII вв., с удивительным постоянством повторявших вопрос о законности брака, в котором живут православные чада: «Венчалася ль еси с мужем своим».[277] Это факт подтверждают и писавшиеся против не венчанных браков послания высших церковных иерархов – Ионы вятичам 1456 г., ростовского архиепископа Феодосия духовенству 1458 г., Симона в Пермь 1501 г.,[278] новгородского архиепископа Макария 1534 г. в Вотскую землю[279] (причем речь могла идти и о многоженстве, как в последнем случае).
Конечно, в большей степени данные грамоты предназначались недавно крещеным инородцам, что видно и из их текста. Но не меньшие претензии можно было предъявить и русскому населению, так как и при заключении брака священником происходили нарушения, возвращавшие церковное таинство к языческим нормам внутриродовых отношений. Не случайно Стоглав особо предупреждал о невозможности венчать состоявших в родстве, кумовстве, сватовстве[280] – такой брак, с точки зрения церкви, являлся инцестуальным. Однако для простых людей именно он оказывался предпочтительным не только по материальным соображениям (приданое оставалось внутри рода или даже семьи), но и потому, что, по замечанию А. К. Байбурина, «инцест в народных представлениях связан с максимальным плодородием».[281] Смысл же брака как раз и состоял в получении многочисленного и жизнеспособного потомства.
Даже в тех случаях, когда производилось венчание, оно не исключало внецерковной части свадебного обряда, практически без изменений дожившей до XX в. и достаточно хорошо изученной этнографами. Так, неизвестный англичанин, наблюдавший русские свадебные обычаи зимой 1557–1558 гг., рассказывает, что в церковь невеста идет с закрытым лицом и плачем, а обратно – открывшись. «При этом уличные мальчишки кричат и шумят бранными словами. По приходе домой, жена садится за самый высокий конец стола, муж около нее; тогда начинается попойка, иногда при этом бывает певец или два, а двое, приведшие новобрачную из церкви, голые танцуют довольно долго пред компанией».[282]
Нарисованная картина находит подтверждение и объяснение в народном быте последующих столетий. Даже и в XX в. в ряде мест существовал обычай открывать лицо невесты, закрытое прежде платком, сразу после венчания[283] (правда, не в церкви, а дома, что зафиксировал в 1576–1578 гг. и австрийский посол Даниил Принтц[284]). Этот ритуал знаменовал собой переход молодой в новое социальное пространство, переход, сравнимый со смертью и последующим воскресением.[285]Именно поэтому невеста плакала только на начальном отрезке своего пути в семью мужа, пока расставалась с родом‑племенем.
По той же причине (а вовсе не из‑за боязни порчи, как полагает А. К. Байбурин[286]) она во время обряда передвигалась не самостоятельно, но при помощи посредников – старушек, которые, согласно Принтцу, после венчания «одне только бывают и снаряжают молодую, отводят ее домой, ставят у постели и, снявши покрывало, наконец‑то показывают ее жениху…».[287] Пассивное поведение невесты отмечал в начале XVII в. и Маржерет, сообщавший также, что она остается закрытой до завершения свадьбы.[288] Весьма примечательна здесь ведущая роль старух, более всего близких миру смерти, и отсутствие на бракосочетании девушек, которым, по этнографическим сведениям, запрещалось и участие в поминках вследствие их принадлежности к наиболее жизнеспособной части общества.[289]
После венчания новобрачная вступала во владения другой родственной группы, и для активизации ее жизненных сил требовалось предпринять особые действия, среди которых простейшим являлось ритуальное сквернословие. Мы обнаруживаем его во всех обрядах, связанных с идеями смерти и возрождения. На свадьбе же брань являлась прерогативой мальчишек или парней, как это видно и из этнографических материалов,[290] видимо, потому, что они представляли собой носителей неизрасходованной сексуальной силы, способной превратить девушку в женщину.
Обнаженными танцорами, также как и певцами, из описания англичанина, судя по всему, были приглашавшиеся на свадьбы скоморохи, в практику которых входили песни, музыка и эротические мотивы, призванные в данном случае спровоцировать чадородие молодой четы. В XIX – начале XX в. элемент ритуального оголения реально или только в словесной форме входил в схему поведения дружки или нескольких дружек, руководивших мирской свадьбой – не даром одетый петухом дружка вместе с другими ряжеными мог исполнять песни эротического содержания.[291] Возможно, именно такого рода «видения» в первой половине XVI в. московский митрополит Даниил запрещал священникам и клирикам «позоровати на брацех и на вечерях, но преже входа игрецов въстати им и отходити».[292]
Актуальность данного запрета подтверждается статьей рязанского владыки Кассиана о церковных нестроениях из сборника Волоколамского монастыря первой половины XVI в., 15‑й вопрос которой обвиняет мирян в том, что они «свадбы творят и на бракы призывают ереев со кресты, а скоморохов з доудами и хъмелев в бесов образ преобразившихся»,[293] т. е. ряженых. О справление браков на Руси XV–XVI вв. «с бубны и с сопельми и многыми чюдесы бесовьскыми»[294] сообщает и дополнительный 16‑й вопрос Стоглава, гласящий: «В мирских свадбах играют глумотворцы, и органники, и смехотворцы и гусельники, и бесовския песни поют».[295]
То же продуцирующее значение, что пляски и песни глумотворцев, имело и пьянство («в нем же ес блуд»[296]), и водившиеся на крестьянских свадьбах хороводы в высшей степени со сладострастными телодвижениями.[297] Правда, о последних сообщает гораздо более поздний источник – второй половины XVII в. Но ведь не случайно и в XVI столетии митрополит Даниил считал нужным напоминать в проповедях правила 53 и 54 Лаодикийского собора, запрещавшие позванным на брачный пир христианам «плескати или плясати».[298]
Справедливость предложенного нами понимания свадебных танцев подтверждается наблюдавшимся этнографами обычаем изображать свадьбу на ноябрьских кузьминских вечеринках. В рамках разыгрывавшегося обряда иногда устраивались пляски, кульминационным моментом которых являлись символические роды куклы одной из участниц. Любопытно отметить, что при инсценировках свадьбы парни и девушки взаимно менялись ролями, переодеваясь в одежду, принадлежавшую лицам противоположного пола.[299] Аналогичное преображение происходило и с участниками реальной свадьбы на второй день церемонии.[300] Относительно таких переодеваний недвусмысленно высказался Стоглавый собор, осудивший «неподобные» одеяния обменивавшихся платьем мужчин и женщин как эллинство и еретичество, приемлемое разве что для поганых нехристей.[301]
Если языческие традиции находили себе место при заключении брака, то не менее значимой была их роль при его расторжении.
Как отметил А. Д. Способин, еще при Владимире Святом дела о «роспусте» были переданы в ведение церкви,[302] которая, как известно, отнюдь не приветствовала разводы, ибо Священное писание гласило: «Жена да прилепится к мужу своему». Но жизнь нередко предъявляла свои требования, и на этот случай существовали жесткие предписания – в каких случаях и на каких условиях допускается прекращение брачных отношений. Интересно, что, согласно Кормчим книгам, муж имел право инициировать развод, если жена «выдет на игрища» без согласия супруга, либо «зелием или инем чем на живот мужа своего злое совещевает или ведяще не повесть ему» о такой угрозе.[303] То есть обвинение в приверженности «поганским» обычаям считались достаточным основанием для развода. В любом случае правомерность требования о расторжении брака должна была подтвердить церковь, чтобы не получилась ситуация, знакомая составителям «Поучения священникам» (около 1499 г.) – когда «муж жену пустит или жена мужа без вины».[304]
Тем не менее случалось, что супруги расставались, даже если этому противились служители Христа. И хотя в данном случае мы имеем лишь свидетельства иностранных мемуаристов, но их истинность отчасти подтверждается окружной грамотой короля Сигизмунда 1509 г., в которой он ссылается на киевского митрополита Иосифа, жаловавшегося, что гражданские брак и развод процветают именно в русских землях Литовско‑Русского государства.[305]
Расторжение брака в Московии в XVI в. описано Александром Гваньини, по данным которого некоторые из сельских жителей, не имеющие возможности добраться до епископа для получения разводной грамоты, разводятся древним местным способом – рвут полотенце на перекрестке. «Но этот нелепый способ развода теперь совершенно отменен».[306] Г. Г. Козлова посчитала данное сообщение итальянца курьезным и попыталась объяснить его заимствованием из записок другого путешественника – Рафаэля Барберини, приезжавшего в Россию по торговым делам в 1565 г.[307] Но последний дает несколько иную интерпретацию обычая: «…Когда случится, что муж и жена оба согласны развестись и покинуть друг друга, в таком случае соблюдается у них следующий обычай: оба идут к текучей воде, муж становится по одну сторону, жена по другую, и взяв с собою кусок тонкого холста, тут тащат его к себе, каждый за свой конец, и раздирают пополам, так что у каждого в руках остается по куску; после чего расходятся оба в разные стороны, куда кому вздумается, и остаются свободными».[308]
Способ развода путем разрывания символа совместной жизни не является чем‑то из ряда вон выходящим. Схожие обычаи известны и у других народов. В частности, у чувашей, черемисов, мордвы, вотяков и манси муж, не довольный женой и желающий с ней расстаться, завладевал ее покрывалом и рвал его. В африканском Уньоро муж разрезал пополам кусок шкуры, часть которой оставлял себе, а другую отсылал отцу жены. На Яве же священник с той же целью разрывал «свадебную нить».[309]
В нашем случае оба информатора говорят о разрывании холстины. А ведь тканые изделия, согласно материалам этнографии, играли весьма существенную роль в русской брачной обрядности (не случайно Н. Маторин обнаружил общее происхождение слов «пряжа» и «супруги»[310]). Во время свадебных ритуалов молодая одаривала членов новой семьи полотенцами собственноручного изготовления, тем самым связывая свою судьбу с мужниным родом. Кроме того, в Сольвычегодском уезде Архангельской губернии зафиксирован свадебный обычай, который представлял собой прямую противоположность разводному разрыванию ткани. Утром после первой брачной ночи дружка связывал молодых полотенцем с приговором любить друг друга всю жизнь, а затем отдавал это полотенце жениху.[311] Не такое ли полотенце использовали в древности для проведения разводных обрядов? Как бы там ни было, но при расставании соединенные в единое целое нити разрывались, прекращая магическую связь между супругами и их семьями.
Не менее значима и другая деталь разводных обрядов. Они совершались либо на ничейном пространстве перекрестка, обладавшем повышенной сакральностью (не даром сюда ходили гадать), либо над проточной водой, символом изменчивости, ускорявшим переход в новое состояние (из‑за чего браки когда‑то заключались уводы).
Таким образом, можно сказать, что, игнорируя по тем или иным причинам церковные правила, миряне обращались в случае развода к языческой символике. Не случайно и один из отечественных исследователей А. К. Леонтьев пришел к выводу, что рассмотрение на Стоглавом соборе вопроса о невенчанных браках и самовольных разводах свидетельствует о живучести языческих пережитков, особенно на окраинах.[312]
Вместе с тем следует отметить, что развод порицался церковью, потому что способствовал распространению блуда. Наибольшую озабоченность вызывала у пастырей «блудливость» женщин, поскольку она отвлекала от христианского настроя менее греховных, с точки зрения заповеди о прелюбодеянии, мужчин. В связи с этим духовенство весьма беспокоили женские пляски, причину опасения которых прекрасно отражают исповедные вопросы: «Или плясала да ступила на ногу кому блуда ради?»,[313] «Тонцов не водишь ли, не пляшешь ли, и в том другим соблазн бывает»,[314] «пляшущая бо жена всем мужем жена есть».[315] Запрет совместных хороводов отмечал Даниил Принтц, дважды приезжавший в Россию по посольским делам.[316]
Впрочем, такая суровость в отношении как женских, так и мужских развлечений объяснялась не только стремлением предотвратить блуд. Авторы покаянных сборников подчеркивали нехристианский, бесовский характер творимых мирянами плясок и песен, обвиняя исповедующихся «в смеянии до слез, и в плесании, и дланным плесканием, и ножным и во всех играх бесовских, волею, и неволею».[317] При этом существенно, что подобное бесовское поведение иногда объявлялось исповедниками характерным именно для коллективных сборищ на пирах, свадьбах и игрищах: «…песни бесовскиа певал лы, а в пиру и на свадьбах и на игрищах?», «А на свадбах и на игрищах песни пела ли еси или плясала?».[318]
Популярные в народе духовные стихи также признавали названные поступки противоречащими православной вере:
По игрищам душа много хаживала,
Под всякия игры много плясывала,
Самого Сатану воспотешивала…[319]
Особенно же опасными представлялись христианским учителям подобные действия в моменты проведения массовых языческих обрядов, когда на первый план четко выступала культовая суть совершавшихся игрищ – обеспечение плодородия земли и людей. Слово Иоанна Златоуста об играх и плясании в списках XVI–XVII вв. так рисует бесовское действо на совместных сборищах: «…И всташа играть плясаньем. И по плясании начаша блуд творити с чюжими женами и снохами и со ятровьми и с кумами, и потом приступиша ко идолом, и начаша жертву приносити идолом…».[320]
Таким образом, совместные пляски мужчин и женщин ставятся автором проповедей в один ряд с почитанием идолов, причем оргиастический разгул и жертвоприношение оказываются объединены одним обрядом. Из текста Слова не ясно, о каких кумирах идет речь, но само упоминание жертвоприношений им в столь позднем переводном памятнике подтверждает их существование на Руси. Каких идолов мог иметь в виду автор поучения, будет показано в следующих главах.
Обобщая перечень тех сфер жизни, в которых находили себе место элементы языческой культуры, считаем нужным отметить их многочисленность. И все же предложенный анализ позволяет говорить о преимущественном сохранении языческих традиций в домашнем быту, наименее подверженном контролю со стороны церкви и государства.
Именно повседневные проблемы заставляли простых людей обращаться к выработанным веками методам, в основе которых лежало магическое отношение к миру. Поэтому языческие традиции продолжали действовать во все кризисные для человека моменты жизни, будь то рождение, брак, развод, болезнь, смерть или малейшее изменение в окружающем мире, способное повлиять на благополучие царя природы.
Адекватная реакция на полученный сигнал в виде сна, чихания или неожиданной встречи, равно как и меры профилактического характера, вроде освящения детских «сорочек» или очищения огнем при переходе в новое временное пространство, призваны были снять возможные дополнительные препятствия для гармоничного существования природы и человеческого мира. Той же цели служили и массовые обряды, сохранявшие языческий культ в наиболее целостном виде в силу своей общественной значимости.
Но распространение православного учения и культа приводило к тому, что постепенно в круг языческих представлений и обрядов стали вовлекаться и христианские символы, а в церковные праздники миряне пытались внести привычные стереотипы ритуального поведения. Это вызывало наибольшее беспокойство церкви, старавшейся показать пастве принципиальную разницу между двумя религиозно‑мировоззренческими традициями.
Глава 3
«…Всей твари поклоняхуся яко Богу…»
Как было показано в предыдущей главе, автор Слова Иоанна Златоуста об играх и плясании обвинял участников игрищ в том, что после плясок и блуда они «начата жертву приносити идолом».[321]Подобное утверждение плохо согласуется со следующей фразой из речи Ивана Грозного при открытии Стоглавого собора: «речеть ж ми кто, яко идолопоклонениа в нас несть, иносребролюбие, не второе ли идолослужение, или блудная и скверная деяниа, симже подобная…».[322]
Приведенное высказывание царя казалось бы отрицает наличие в России идольского служения. Однако оно, без сомнения, сохранялось у крещеных инородцев, что следует, например, из послания митрополита Симона в Пермь от 22 августа 1501 г.: «А кумиром бы есте не служили, ни треб их не приимали, ни Воипелю болвану не молитеся по древнему обычаю, и всех богу ненавидимых тризнищ не творите идолом…».[323] А в 1534 г. архиепископ Макарий сообщал царю о сохранении идольских мольбищ во многих инородческих и русских поселениях Новгородской земли, подчеркивая преимущественное поклонение природным объектам.[324]
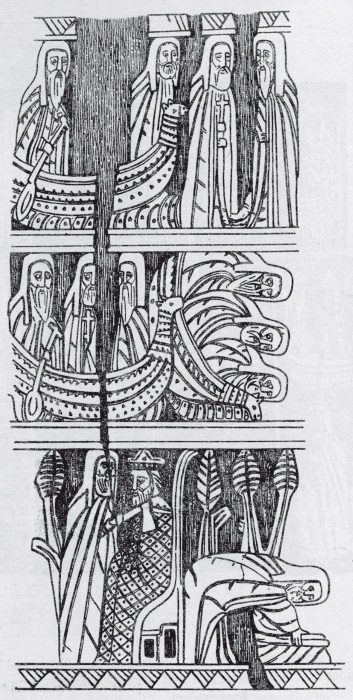
Сокрушение идола: плавание Стефана в поисках «демона», попытка беса потопить его ладью, иссечение идола.
Прорись резьбы посоха Стефана Пермского, XV в.
Церковные требники также заставляют думать о сохранении поклонения некоторым богам древнерусского языческого пантеона, что видно из следующих вопросов: «Молилася бесом или чашу их пила ли? Молилася еси з бабами богом кумирскым бесом?», «Бесом цы молилася с бабами, еже есть ворожицы, и вилом и прочим таковым?», «Ли сплутила еси с бабоми богомерьскыя блуды, ли молилася еси вилам, ли роду, ли роженицам и Перуну и Хорсу и Мокоши, пила и ела?».[325]
Обычно именно такой список божеств, как в последнем фрагменте, по XVI в. включительно приводят как покаянные вопросы, так и поучения. Хотя, вопреки мнению М. В. Корогодиной, вопросы о молении «бесам» встречаются не только в женской части требников,[326] но только в них есть упоминание имен почитаемых богов. На наш взгляд, это служит лишним подтверждением реальности поклонения перечисленным персонажам на Руси. Ведь, как заметил М. А. Васильев, в проповедях и тем более в исповедных вопросах не могло идти речи о том, о чем паства не знала.[327] Весьма показательна в этом плане дополнительная статья в Софийском и Чудовском списках Слова св. Григория, подтверждающая актуальность данной проблемы для XV и XVI вв.: «…И ныне по украинам молятся ему, проклятому богу перуну, хорсу, мокоши, вилам, и то творят отаи…».[328] В исповедных текстах начала XVII в. имена бесов уже не упоминаются, а в более поздних сборниках описания и вопросы такого рода не встречаются вовсе, что указывает на отмирание обычая или на снижение его сакрального уровня.
В изучаемый же период вера в прежних кумиров все еще была реальностью русской жизни. Автор Чудовского списка обвинял своих современников в том, что они, помимо прочего, «веруют упирем и младенци знаменают мертвы и берегеням их же нарицають 60 сестрениц, а друзии веруют в сварожитьца, и артемида и артемидию имже человци невегласи молятся, и куры им режють и то блутивше тоже сами ядять… иные в водах потопляеми суть, а иные к кладезем приносяще молятся и в воду мечють, велеаху жертву приносяще, а друзии под овином, и в поветех скотьях молятся аки погани, а инии требами мерзкъми молятся блутивше, а инии пьють кускы, и ростъкы луковыми, и кутну богу и веле богыни, и ядрею, и обилухе, и скотну богу, и попутнику, и лесну богу, и спорынями и спеху аки безаконьнии елени, и халдеи, многом богом молятся… а друзии огневи, и камению, и рекам, и источникам, не токмо же то в поганьстве творяху, но и мнози ныне то творят крестьяне ся нарицающе, а дела сотонина творять… дружии верують в стрибога, и дажьбога, и переплута, иже вертячеся и пиють ему в розе…».[329]
Перечень представителей русской демонологии, приведенный в данном фрагменте, в своем роде уникален, так как многие его персонажи больше нигде не встречаются и, возможно, имели лишь локальное значение. Однако, как уже говорилось, некоторым из них памятники церковной литературы XIV–XVI вв. уделяли особое внимание.
В меньшей степени это касается Перуна и Хорса, которые обычно лишь упоминаются в поучениях и требниках, но всегда в качестве неразделимой пары. Вместе с тем имеется ряд интересных пассажей, позволяющих понять, почему только эти два мужских персонажа Владимирова пантеона активно вспоминались в поздней средневековой книжности. В одном из вариантов апокрифической «Беседы трех святителей» (список XV в.) существование молний объясняется тем, что «два ангела громная есть: елленский старец Перун и Хоре жидовин, да еста ангела молниина».[330] По мнению М. А. Васильева, такие эпитеты Перун и Хоре получили потому, что изначально имели огненную природу, а в Библии именно ангелам приписывалась связь с огнем, молниями и громом.[331]
То, что Хорса обычно считают солярным божеством, не отрицает правильность подобного вывода. В. П. Даркевич обратил внимание, что на одной из миниатюр Никоновской летописи XVI в. молнии бьют из уст солнечного лика, и решил, что роль Хорса состояла в посылании лучей, а Перуна – в питании земли дождем.[332] На самом деле древние источники показывают солярную сущность не только Хорса, но и Перуна, из‑за чего оба они могли получать имя греческого бога солнца – Аполлона. Как показал М. А. Васильев, в одном из Слов Иоанна Златоуста (список XVII в.) Перун и Хоре заменены на «порена и аполина», а в списке «Слова о том, како крестися Владимер, возмя Корсунь» Аполлоном назван свергнутый Перун.[333]
Устойчивость упоминания пары Перуна и Хорса в поучениях и покаянных вопросах изучаемого периода заставляет думать, что им поклонялись именно как воплощению молний и грома (а вовсе не как замещению Рода, предположенному Н. И. Зубовым[334]). Полагаем, сам апокриф включался в число отреченных книг как раз потому, что способствовал распространению подобных представлений. С этими представлениями, возможно, был связан и обычай перепрыгивания через огонь во время грозы, отмеченный в Чудовском списке Слова св. Григория: «и черес огнь скачют, коли гром гримить».[335]
Кроме того, считаем важным подчеркнуть, что именно в источниках конца XVI – начала XVII в. появляются описания идолов Перуна и Хорса, характеризующие их как громовержцев. В частности, в 1578 г. итальянец А. Гваньини сообщал, что Перун изображался в облике человека с символизировавшим молнию раскаленным камнем в руках, из которого, по дополнению Петрея де Эрлезунда, во время грозы всегда вылетал огонь.[336] А в 1590 г. немецкий путешественник Иоганн Давид Вундерер сделал запись об увиденных им недалеко от Пскова истуканах, которых он назвал Усладом и Корсом, отметив в руке у первого крест, тогда как второй стоял «с мечом в одной руке и огненным лучом в другой».[337]
Историки всегда с недоверием относились к последнему известию, полагая, что Вундерер произвольно приложил свидетельство С. Герберштейна о древнерусских идолах к каким‑то статуарным изображениям, возможно, даже к распространенным в новгородских землях изображениям христианских святых, воспринимавшимся протестантами как символ идолопоклонства.[338]
Однако А. Н. Кирпичников, соглашаясь с фактом заимствования имен истуканов, обратил внимание на имеющуюся в записках немца топографическую привязку расположения кумиров к лагерю Стефана Батория и нашел подтверждение данных Вундерера среди археологических находок. В 1897 г. близ указанного немецким путешественником места в районе реки Промежицы была обнаружена каменная баба с остатками рельефного крестообразного знака на груди и следами преднамеренного разрушения. Археолог сопоставил ее с Усладом Вундерера, предположив, что наблюдатель перепутал имена идолов, так что найдена фигура Хорса (Корса), а исчезнувший владелец меча и молнии является Перуном.[339]
Как было показано выше, молния признавалась атрибутом не только Перуна, но и Хорса, так что подвергать сомнению свидетельство Вундерера в этой части необходимости нет. Приписывание статуям названий «Услад» и «Хоре» показывает, что информатор был знаком не только с ошибочной трактовкой характеристики Перуна – «ус злат» – как имени отдельного божества, но и с представлениями об огненной природе именно Хорса. В противном случае нельзя объяснить, почему из летописного списка богов он выбрал именно Хорса и того, кто стоял перед ним, но не открывавшего ряд Перуна.
Независимо от того, имела ли находка А. Н. Кирпичникова отношение к древним богам русского пантеона, следует согласиться с мнением В. Я. Петрухина и С. М. Толстой, что высеченный на ней крест не был связан с поклонением кумиру, но предназначался для открещивания от бесовского изображения, для уничтожения его силы.[340] Но это не меняет того факта, что в конце XVI столетия какие‑то истуканы стояли посреди Псковской земли. Л. У Дучиц и Л. С. Клейн полагают, что именно христанский знак мог способствовать столь долгому сохранению подобных древних сооружений, а возможно, даже их использованию в православном культе.[341]

Промежецкий идол.
Полагаем, если такое использование и имело место, оно наверняка совершалось народом самовольно, поскольку нарушало требования канона. Не случайно ведь все описания Перуна и Хорса с молнией в руке принадлежат исключительно иностранцам.
Завершая разговор о Перуне и Хорее, следует также отметить связанную с ними попытку эвгемеризации, характерную не только для «Беседы трех святителей», использовавшей для их характеристики эпитеты «елленский старец» и «жидовин». (М. А. Васильев подчеркивает, что эллинство и жидовство Перуна и Хорса нельзя понимать в этноконфессиональном ключе, поскольку эти понятия использовались для обозначения нехристианских, языческих явлений вообще[342].) В апокрифическом «Слове и откровении святых апостол» по списку XVI в. имеется русская вставка, отсутствующая в сербском тексте начала XIV в., согласно которой «человеци были сут старейшины Перун в елинех, а Хоре в Кипре, Троян бяше цесарь в Риме, а друзии друдге».[343] Несмотря на упоминание других обожествленных людей, старейшины Перун и Хоре явно выделяются в этом ряду. Существенно, что в обоих случаях они вновь неразрывны, так же как и в похвале Владимиру Святому по списку 1494 г., где только эти свергнутые боги названы по имени.[344]
Правда, попытка возведения к реальному историческому лицу предпринималась в отношении еще одного персонажа древнего пантеона, Дажьбога.[345] Однако в глоссе к хронике Иоанна Малалы, известной по Ипатьевской летописи 1114 г. и рукописному переводу XV в., его фигура стоит особняком, и хотя связывается со стихией испепеляющего огня, но не с молниями. Возможно, поэтому, как и другие мужские божества летописной статьи 980 г., Дажьбог нашел отражение лишь в одном позднем памятнике, а именно в Чудовском списке Слова св. Григория, автор которого отметил, что разные люди верят в разных богов, в том числе «в стрибога, и дажьбога, и переплута, иже вертячеся и пиють ему в розе…».[346]
Гораздо больше внимания уделено в источниках женским божествам, отвечавшим, по мнению исследователей, за плодородие природы и человека – вилам, Мокоши и роженицам. В отношении этой группы в церковных требниках XVI в. встречаются статьи следующего содержания: «Или бесом молилась еси с бабами еж есть роженицы, и волом и прочим таковым?», «Аще блудивши с бабами богомерзкыя блуды кы, молишися вилам»; «вилам рекше идолам», «Или чашу пила з бабами бесом, или трапезу ставила роду и роженицам?», «Или плутила еси плутом з бабами богумеръская или помолилася бдешъ вилам или мокошы?».[347]
О вилах источники практически ничего не говорят, лишь то, что они появились позже Рода и рожениц, сохраняли свое значение в славянской демонологии в христианский период и имели какую‑то связь с культом Мокоши.[348] Русский перевод Хронографа Георгия Амартола в списке XIV в. отождествляет вил с легендарной парой нильских сиринов – полулюдей, полуптиц.[349] А исследователи сходятся на их сравнении с болгарскими божественными пряхами – самовилами, – и русскими русалками.[350] При этом В. Й. Мансикка считал вил демонами, возникшими из духа умерших, а В. Я. Петрухин пришел к выводу об их равнозначности с роженицами, но не природными духами.[351]
Информация о том, каким образом и по какому поводу совершались требы вилам, отсутствует. Впрочем, отождествление вил с сиринами заставляет обратить внимание на рассказ Слова о посте к невежам и Чудовского списка Слова св. Григория о приношениях русскими людьми в Великий четверг мяса, яиц и молока мертвецам – навьям, оставлявшим по себе птичий след.[352] Если же учесть мнение Н. Маторина о змеином облике вил, то, возможно, следует вспомнить сообщения Матвея Меховского и Сигизмунда Герберштейна о кормлении молоком в определенные дни домашних змей или ящериц в соседних с Московией литовских землях, где к ним относились как к пенатам.[353] Этот обычай, отнесенный В. Й. Мансиккой к белорусам, отмечал в 1581 г. и пастор Павел Одерборн в письме к Давиду Хитрею.[354]
Стоит также обратить внимание на сербское поверье, согласно которому змея может принимать облик девушки‑вилы, и на взаимозаменяемые обозначения для главы змей у южных славян – випин кою или змиjски коњ (правда, первое используется хорватами и сербами также для обозначения стрекозы).[355] Кроме того, представляется совсем не случайным настойчивое сближение славянских вил с ближневосточным змеем Белом/Ваалом в древнерусских списках поучений, поскольку они устойчиво ассоциируются с присущим стихиям змеиным началом в самих текстах Слов и в фольклоре. Однако, подойдя вплотную к этому выводу, Н. И. Зубов тем не менее объясняет включение вил в список «бесов» потребностями книжного стиля, для создания женской пары вилы‑Мокошь.[356]
Наконец, А. Ф. Журавлев показал связь названия вил с финскими, эстонскими, албанскими и славянскими понятиями, выражающими идею плодородия, обилия; с общеславянским словом vila в значениях ловкач, плут, перебрасывающийся с одного дела на другое :, сумасшедший, мечущийся в танце ; с названиями прорицательниц в скандинавских и волошском языках [уala, valva, völva и vilva). [357] Все три значения просматриваются в южнославянских представлениях о вилах.
Хотя восточнославянскому фольклору данный персонаж не известен, это вовсе не означает, что его не было в древнерусских верованиях. Ведь не случайно одни покаянные тексты предусматривали вопрос о поклонении вилам отдельно, другие – наряду с Мокошью или роженицами, третьи вообще их не упоминали, а Слово св. Григория и вовсе указывало на их почитание по окраинам. Получается, что в эпоху позднего Средневековья с вилами были знакомы далеко не все русские земли, либо не везде они фигурировали именно под таким именем. Во всяком случае, в этнографический период подобная ситуация наблюдалась с русалками, характерные особенности которых на Русском Севере воплощались в образе водяниц.[358] Впоследствии же название вил, утратив связь с образом, могло быть забыто повсеместно.
Несколько менее проблематична фигура Мокоши. На Украине ее помнили до середины XIX в., а в Новгородской и Вологодской губерниях почитают и ныне под именем мокоша, мокуша или мокруха[359] Не обладай исследователи этими фактами, упоминание Мокоши в древнерусских поучениях и требниках, наверное, тоже рассматривалось бы некоторыми из них исключительно как книжный штамп, не имеющий отношения к народным верованиям.
Слово «мокошь», вопреки утверждению некоторых исследователей, некритично принятому нами при подготовке диссертации,[360] известно на территории расселения не только восточных, но и южных и западных славян. А. Ф. Журавлев выявил следующие его формы и значения: новг. мóкуш/мокош (м. р.) – нечистая сила, черт, бранное слово; мoкуша – зловредный человек; яросл. мокошá – привидение; сербо‑хорв. Мокош (м. р) – сверхъестественная сила; чеш. Mokoš (м. р.) – божество влаги; слов. Mokoška – сказочная колдунья. Исходя из лингвистических данных, ученый считает теоним «Мокошь» праславянским.[361] Тем не менее периодически высказывается мнение о неславянском происхождении обозначаемой им богини.[362]
Впервые Мокошь упоминается в летописи под 980 г. среди идолов Владимирова пантеона.[363] Характерно, что в списке «Слова о начальстве Русской земли» из Румянцевского музея именно она оказалась выделена среди других кумиров: «и приехав Владимир князь сокруши идолы Мокошь и прочий».[364] Появление такого текста в XVI в. довольно красноречиво, поскольку говорит о потребности составителя показать, что и этот идол был отвергнут предками в момент крещения. А такая потребность могла возникнуть лишь в том случае, если почитание Мокоши было реальной проблемой.[365]
Имя Мокоши обычно объясняют связью со смертью, сексуальными отношениями и прядением.[366] Н. И. Зубов также предполагает, что, называя Мокошь «дивой», автор Софийского списка Слова св. Григория сопоставлял ее с античными богинями‑матерями.[367]В XIX в. ей повсеместно поклонялись во второй половине февраля как имевшей дело «с овцеводством, шерстью, пряжей и вообще собственно с бабьим хозяйством – и даже их собственными косами».[368]
Связь этого персонажа с овцеводством, возможно, объясняет, почему в Хронике М. Стрыйковского (гл. 4, кн. 4) на третьем месте в пантеоне назван «Мокос бог скотов».[369] Существование мужской формы теонима вполне согласуется с наблюдениями А. Ф. Журавлева, который, правда, считает ее вторичной.[370] Т. А. Бернштам, безосновательно отвергнув женскую ипостась одного из фигурантов древнерусского пантеона, подтверждаемую данными этнографии, считает, что Мокос воплощался в образе вола.[371] На наш взгляд, очевидно, что имя и эпитет упомянутого польским хронистом божества являются производными от летописных Волоса и Мокоши, хотя само их совмещение достаточно интересно и достойно изучения.
В этнографических материалах зафиксированы домашние приношения рассматриваемой богине в виде клоков овечьей шерсти. Олонецкая же мокоша может выстричь немного волос и у хозяев.[372](Не исключено, что именно это поверье отразилось в Служебнике конца XVI в., сохранившем вопрос: «Или власы на своей главе стригла?».[373]) Неизвестно, какие именно требы приносили Мокоши в рассматриваемый нами период, но сельский номоканунец XVI в. все еще предлагал духовникам спрашивать своих дочерей: «Не ходила ли еси к Макоши».[374] Следовательно, в те времена ей покланялись вне дома, что противоречит выводу Н. И. Зубова о домашнем культе Мокоши и вил.[375]
Предметом особого внимания исследователей всегда являлись Род и роженицы. По утверждению И. И. Срезневского, посвятившего им специальную работу, вера в рожениц, как в двух или трех невидимых сестер, помогающих при родах, дающих судьбу новорожденному и плетущих нить жизни, существовала у всех европейских народов. Поэтому ученый отказывался считать поклонение им заимствованием у юго‑западных славян, эллинов или египтян, как делали это составители древнерусских поучений.[376]
Оценки И. И. Срезневского долгое время господствовали в науке. Правда, отдельные авторы высказывали мнение о связи Рода и рожениц с культом предков или почитанием земли,[377] либо о позднем воплощении в них идеи судьбы и счастья, заимствованной из византийской культуры.[378] При этом педставитель последнего взгляда В. Я. Петрухин полагает, что в Средневековье функции духов судьбы оказались перенесены на Богородицу и святых.[379]
В последние годы появилась точка зрения, вообще отрицающая существование таких божеств в русском язычестве. В частности, Н. И. Зубов видит в роженицах обычных женщин и богинь‑матерей иных религиозных традиций, в том числе христианства, а в Роде – эпитет Перуна или новорожденного. Осуждение их почитания в церковной литературе он объясняет потребностями борьбы не с языческими обычаями Руси, к которым эти персонажи не имели никакого отношения, а с несторианской ересью, приложившей античные культы богинь‑рожениц и их потомков к Богородице и Христу.[380]
Позиция украинского исследователя представляется нам не вполне оправданной, поскольку основывается лишь на одной стороне поднимавшейся древнерусскими книжниками проблемы – на хулении центральных персонажей христианства, низведении их на уровень обычных людей. Она не объясняет, почему несторианское учение нашло столь благодатную почву не только среди духовенства, воспроизводившего отвергнутый много веков назад обряд, но и среди русского простонародья. Не случайно ведь вопросы о трапезах Роду и роженицам были составной частью вопросов о молении женщин бесам и идолам.
Преимущественно множественная форма слова «роженицы» в памятниках также не позволяет отождествить их с Богородицей. Доводы Н. И. Зубова, будто таким образом отражалась идея языческого многобожия и наличие богинь‑матерей у многих народов, не выдерживают критики.[381] В этом случае пришлось бы предположить, что исповедники спрашивали своих духовных дочерей о поклонении божествам других религиозных традиций.
Кроме того, в специально посвященном рожаничному культу Слове св. Исайи, которое практически без изменений воспроизводилось вплоть до XVII в., Род и рожаницы прямо названы «кумирами суетными».[382] Подобное определение в отношении Христа и Богородицы в устах церковного автора выглядело бы по меньшей мере кощунственным. Значит, дело вовсе не в них, тем более, что начало идольских трапез Софийский список Слова св. Григория относит еще к языческой эпохе: «Словене начали тряпезу ставити роду и рожаницам переже Перуна бога их… Сего же не могут ся лишити, наченше в поганьстве, даже и доселе, проклятаго того ставления, вторыя тряпезы роду и рожаницам». А уж потом, «по святем крещении череву работай Попове уставиша трепарь прикладати Рождества Богородици к рожаничьне тряпезе отклады деючи».[383] Таким образом, книжник настаивает на древности обычая, на его связи с языческим прошлым славян и осуждает трапезы независимо от критики священников, пытавшихся получить мзду за совершение неканонического обряда.
Рожаничный культ, судя по всему, имел очень глубокие корни в русской жизни. Именно поэтому он отразился в столь большом количестве поучений, согласно которым мирянки приносили роженицам обильные жертвы: ставили трапезы в виде кутьи и караваев, «наполняюще черпания бесом», или подносили «хлебы и сиры и мед», резали кур.[384] В. Я. Петрухин даже пришел к выводу, что книжник ставил Рода и рожениц в центр реконструкции язычества именно потому, что сохранялась трапеза им.[385]
Сам состав этой трапезы достаточно показателен. Куры, как известно, являлись символом брака и плодородия, благодаря чему использовались во многих календарных и семейных обрядах для обеспечения плодовитости людей, скота и земли. Жертвоприношение кур совершалось в том числе недавно родившими женщинами в ходе обряда троецеплятницы, подробное описание которого сохранилось в отчете из Вятской епархии от 15 мая 1739 г. По показаниям посадских жен Хлынова, «в Рождества пресвятые Богородицы надлежит им по обещаниям при рождении младенцов куретнице приносить и употреблять только одними женами, а мужескому полу и девкам грех и не годится им есть. И оставшиеся кости относят в воду, а перья и черева тако и зарывают в землю, а протчая показали, что бросают и в воду – якобы за святыя кости и перья и черева почитали».[386]
Продуцирующее назначение имели и другие яства. В частности, хлеб и сыр подносили во время белорусского ляльника девушке, иполнявшей роль дарительницы урожая, а в день первого выгона скота (на св. Юрия) – пастуху, чтобы обеспечить хорошие удои и приплод телят. Для хорошего урожая льна в некоторых местах Белоруссии совершалась женская трапеза в поле с сыром и яйцами на день св. Петра. При сборе урожая хлеб и сыр клали на первый срезанный пучок ржи для легкой жатвы или в дожинковую «бороду», а по окончании работ съедали их всей семьей; либо хозяин встречал возвращавшихся с поля жниц сыром, хлебом‑солью и водкой. Этнографы отмечают также связь створоженного молока с потомством. Не случайно один из ритуалов нижегородской свадебной обрядности, предполагающий подношение молодыми выпивки гостям, называется «сыр молить». А в вятских говорах сыром называется хлеб, который жених и невеста везут на венчание в церковь.[387] Все это заставило Э. М. Зайковского сделать вывод о том, что сыр выступал в обрядах символом новой жизни, и сопоставить его подношения с трапезой Роду и роженицам церковной литературы.[388]
Приношения употреблялись самими жертвователями с пением в древности бесовских песен, а затем христианского тропаря Богородицы. Поскольку авторы поучений ссылаются на правила Лаодикийского собора, запретившего совершать в храме любые пиры, а не Трулльского, выступавшего против почитания Богородицы как роженицы,[389] можно предположить, что на Руси продукты для рожаничной трапезы реально вносились в церковь. При этом духовенство понимало, что хотя трапеза была дополнительной к признанной церковью кутье, но посвящали ее Роду и роженицам.[390] Поэтому худой номоканунец конца XVI в. по‑прежнему предписывал: «Аще кто крестит вторую трапезу роду и роженицам трепарем святыя Богородица, и то ясть и пиет, да будет проклят».[391]
Подобное соединение имени Богородицы с кумирским богослужением возникло, по мнению В. И. Чичерова, из‑за того, что в сознании народных масс произошло отождествление богоматери с древними языческими божествами – воплощениями образа рождающей земли и продолжающей род женщины, в результате чего поклонение им проводилось как обряд почитания Богородицы.[392]Данное утверждение требует уточнения, поскольку обычай исполнения богородичного тропаря, как справедливо отмечает Н. И. Зубов, изначально был установлен духовенством, тогда как сама трапеза восходила к древнему языческому родинному циклу.[393] Поэтому она могла быть двух видов – по поводу завершения обычных родов и в связи с празднованием рождения Христа.
Первый вариант, вероятно, просматривается в сообщении Румянцевского сборника XVIII в. о том, что «бабы каши варят на собрание рожаницам». С. Смирнов увидел в этом действии акт жертвоприношения древним богиням‑покровительницам деторождения, от которых зависела судьба новорожденных.[394] Согласно европейским этнографическим исследованиям и данным русских кормчих, такое жертвоприношение совершалось в ближайшие дни после родов для того, чтобы вызванные обрядом богини предсказали будущее младенца.[395]
На наш взгляд, на Руси «собрание рожаницам» представляло собой совместную трапезу способных к продолжению рода женщин – ведь все они в прошлом, настоящем или будущем являлись роженицами. Их соприкосновение с реальной родильницей, приношение ей пищи с последующими ответными дарами воспринималось как вид симпатической и продуцирующей магии, способствующей скорейшему появлению новых зародышей у всех участниц сборища, в том числе у самой роженицы. Той же цели служил и кулинарный символ, вокруг которого разворачивалось действо – у финнов, например, первую кашу для роженицы варила повитуха, «замешивая» веретеном или рыбным поплавком пол будущего ребенка.[396] Именно поэтому каша как ритуальная пища присутствовала и в других продуцирующих обрядах, например, в кормлении молодых на свадьбе, о чем сообщает Чин свадебный XVII в.[397]
Продуцирующее назначение коллективной трапезы хорошо видно на примере обычая, зафиксированного в Болгарии. Здесь повитуха сразу после родов окуривает роженицу, младенца и молодиц и преломляет обрядовый хлеб со словами: «Ну, святая Богородица, у кого нет – пусть будет, а у кого есть – пусть повторится». Кроме того, в тот же или на следующий день месится тесто для обрядового богородичного пирога.[398] Таким образом, болгарский обряд включает и собрание рожениц с совместной трапезой, и благодарственное приношение Богородице как покровительнице деторождения. Порядок действий показывает, какие из них первичные и центральные в данном обряде.
Аналогичная ситуации наблюдается и у восточных славян. В России женщины, как правило, близкие роженице по возрасту, посещают ее с приносами (пирогами и другой едой или деньгами) либо сразу после родов, либо в ближайшие дни, причем могут делать это как вместе, так и по отдельности. Проведывания роженицы воспринимаются как взаимопомощь. Но весьма показательна вологодская поговорка, подчеркивающая степень их обязательности: «Богу не молись, а роженицу прихоть». Интересно, что родинные обряды центральных и южных районов России обязательно включают приготовление и распределение повитухой каши между всеми участницами этих действий ради обеспечения здоровья не только для них, но и для всего живого. На Севере совместную трапезу приурочивают к крестинам, причем во время приготовления обеда женщины отпускают шутки в адрес недавно поженившихся пар для стимуляции уже именно их плодородия.[399]
Вместе с тем, по замечанию, А. К. Байбурина, вареные зерна были символом «распределения совокупной доли, принадлежащей женщинам. Роженица обретала свою долю жизненных сил и благ, что, собственно, являлось основным условием перехода молодой в группу взрослых (имеющих детей) женщин», а потому «при первых родах каша была обязательной».[400] Этот автор подчеркнул, что, по этнографическим данным, указанное блюдо используется не только на родинах, крестинах, свадьбе, но всякий раз, когда возникает необходимость символического перераспределения жизненных благ и ценностей – своего рода потлач.[401] Не случайно все участницы русского родинного обряда, кроме самой роженицы, должны выкупать кашу у повитухи.[402] В свете данных наблюдений мы должны признать ошибочным высказанное нами в одной из статей мнение об исключительно продуцирующем значении родинной и свадебной каши.[403] И уж тем более не продуцирующую, а перераспределительную функцию имело отмеченное в послании новгородского архиепископа Геннадия принесение каши учителем ученику после каждой ступени обучения.[404]
Вареные зерна были обязательным элементом и другого связанного с родами обряда. Согласно этнографическим источникам, он именовался «бабьи каши» и ежегодно проводился 26–27 декабря. «Бабьи каши» были приурочены к христианскому Рождеству и представляли собою праздник повивальных бабок и родивших в прошедшем году женщин. Существенно, что в Архангельской и Вологодской губерниях первый день Рождества воспринимали как сугубо женский, поэтому посещение церкви девушками в этот день считалось предосудительным – они ведь еще не были роженицами. Женщины же служили до начала обедни общий молебен перед иконой «Блаженное чрево», праздник которой приходился на 26 декабря, а затем роженицы приглашали к себе повитух и угощали их специально приготовленной кашей.[405] Именно эту традицию имел в виду автор вопроса из требника XVI в.: «Или каши варила во Христове Рождестве?»[406] (возможно, к этому событию, а не к конкретным родам, относится и сообщение Румянцевского сборника).
В тот же день, согласно этнографическим данным, во многих местах по старому обычаю русские женщины ходили с пирогами к родильницам, а в юго‑западной Руси несли пироги в церковь. Это называлось «ходить на родины до Богородицы». Тем самым мать Христа признавали равной прочим роженицам. Киевский митрополит Михаил, отзываясь на осуждающую энциклику константинопольского патриарха Иеремии, писал по этому поводу в 1590 г.: «И тыж, назавтрие Рождества Христова носят пироги до церквей, мнят в честь Богородицы полы навежаючи, еже есть великое несчестие и наука нечестивых еретик. Девая бо Богородица, паче слова и разума нетленно и несказанно роди».[407] Родившая же женщина, напротив, была для церкви символом нечистоты. А потому ставить их на одну доску представлялось служителям православия недопустимым кощунством и еретичеством.
Однако для мирянок Богородица оставалась такой же матерью, как и они сами, и, следовательно, должна была получать свою долю наравне с другими роженицами. Поэтому в XVI в. не только на украинской территории, но и в Московии сохранялся отвергнутый еще Трульским собором 690–691 гг. обычай принесения Богоматери мучных изделий как символа последа. В августовской книге Великих Четьих Миней отмечена «желя роду и роженицам по рождестве в пнед муку варити св. Богородици, а роду примолвливающе».[408]Текст однозначно свидетельствует о приуроченности обычая к Рождеству, а вовсе не к Успению девы Марии, как ошибочно решил В. Я. Петрухин,[409] но его связь с Рождеством Богородицы, которую предполагают некоторые исследователи, не исключена.[410]
Хотя, подобно Н. И. Зубову и В. Я. Петрухину,[411] мы считаем, что в роженицах следует видеть обычных женщин, это не отменяет реальности существования их культа, нашедшего отражение в поучениях и требниках. Особенности проведения совместных трапез указывают, что они основывались на языческом миропонимании, согласно которому активность любой твари Божией можно стимулировать путем совершения специальных ритуалов. Противопоставление поклонения твари почитанию творца, вопреки мнению Н. И. Зубова, прослеживается и в церковных поучениях против рожениц.[412]
Вместе с тем то, что церковная литература называет рожениц идолами и бесами позволяет думать, что одновременно происходила и персонификация функций, имевших отношение к продолжению рода. Именно поэтому в средневековых русских Азбуковниках роженицы оказались связаны с определяющими судьбу новорожденного небесными телами.[413] Недаром в поздних заговорах встречается мотив трех звезд, которые могут заменять три девицы с именами Мария, Анастасия и Варвара или Варвара, Анастасия и Параскева. Интересно, что болгарские покровительницы судьбы, орисницы, также соотносились с Богородицей и с двумя сестрами – св. Петкой и св. Неделей, т. е. с Пятницей и Анастасией. По наблюдению B. Я. Петрухина, Параскева, Настасья и Варвара совсем не случайно воспроизводятся и в русском заговоре над младенцем как охраняющие его Божьи матери. Двух первых считали покровительницами рожениц, а Варваре даже варили специальные каши.[414] (Не те ли, которые осуждались церковью?)
Нет необходимости объяснять подобные верования византийским влиянием. Раз идея получила развитие в народном фольклоре, значит, она соответствовала местной картине мира. К тому же русская мифология показывает возможность передачи информации о судьбе и через обычных женщин, причем именно в связи с собранием рожениц. Согласно вологодской быличке, когда одна женщина по научению банного духа отправилась с подарками к роженицам, она увидела в четырех банях детей, положение которых банный объяснил их судьбой: лежащий на полке умрет своей смертью, с веревкой – удавится, на пистолете – будет убит, а плавающий в корыте с водой – утонет.[415] Возможно, именно о таких предсказаниях автор худого номоканунца конца XVI в. писал: «Несть достойно… родству чясти наряцати…».[416]
Говоря о роженицах, мы оставили без внимания тот факт, что обычно они упоминаются в церковной литературе вместе с Родом. Свидетельства о Роде весьма скупы, а мнения ученых очень разноплановы. Так, например, для Л. С. Клейна Род является представителем низшей демонологии греческого происхождения или одним из имен Перуна, а для Н. И. Зубова – самим Перуном или новорожденным. Н. И. Костомаров видит в нем воплощение судьбы, а Б. А. Успенский отождествляет с Волосом Владимирова пантеона. С точки же зрения Б. А. Рыбакова это главный из древних славянских богов, символический образ Вселенной, ее творец.[417]
Никаких оснований для отождествления Рода с Перуном или другими древними богами славян мы не находим, тем более, что, как уже отмечалось, в Слове св. Григория его культ относится к до‑перуновым временам. Отсылки к греческим или ближневосточным верованиям также представляются малоперспективными, поскольку базируются исключительно на использовании слова «род» при переводе понятий судьбы и счастья [418] и на сходстве представлений разных народов о богинях‑матерях и их детях.
В свете нашего толкования рожениц как женщин детородного возраста и учитывая преимущественное упоминание Рода вместе с роженицами, таковым следует считать прежде всего младенца. Ведь наряду с матерью и другими женщинами он действительно центральный персонаж описанных этнографами родинных и крестинных обрядов с трапезой. И его счастье и судьба действительно ставились народом в зависимость от обстоятельств рождения и правильности проведения ритуалов, обеспечивавших включение новорожденного в социум, получение им своей доли блага и горя. В Кадниковском уезде Вологодской губернии, например, считали, что «на родах судьба написана».[419] В подобном контексте понятна и персонификация судьбы именно в роженицах, которые эти роды осуществляли, и использование термина «род» для передачи иноязычных понятий судьбы и счастья.
Вместе с тем в русском языке слово «род» издревле употребляется для передачи представлений о кровнородственном коллективе, способном к самовоспроизводству. Персонификацию этих представлений, на наш взгляд, можно обнаружить в сообщении Минеи о примолвливании Роду печеных приносов для Богородицы.[420] И совершенно отчетливо подобная персонификация прослеживается в статье «О вдуновении духа в человека» из рукописи, составленной на рубеже XV–XVI вв. Автор фрагмента утверждал: «То ти не Род, седя на воздусе мечеть на землю груды и в том ражаются дети, и паки анггели вдымаеть душю, или паки иному от человек или от ангел суд бог предасть, сице бо неции еретици глаголють от книг срачиньских и от проклятых болгар… всем бо есть творец Бог, а не род».[421]
Л. С. Клейн полагает, что процитированный текст характеризует Рода лишь как еретическое воплощение зачатия и как небожителя.[422] По мнению же Н. И. Зубова, изображение Рода в данном отрывке является отсылкой к образу Саваофа во Второй Книге Царств (22: 11–15), где он летит на крыльях ветра, воссев на херувимах, чтобы поразить стрелами и молнией врагов царя Давида. Этот ученый считает, что сидящий «на воздусе» Род не отражает языческих реалий, поскольку атрибуты творца приписаны ему антитезно, и что в статье видны следы дискуссии с богомильской ересью, согласно которой в творении человека принимал участие Сатана.[423]
Хотя полемика с богомильством в рассматриваемом памятнике действительно прослеживается, но к осуждению веры в Рода как творца детей, она отношения не имеет. Суть статьи состоит в объяснении разницы между телесным и духовным началом человека, поскольку «малу семени впадъшу в чрево матернее», и без Божией мудрости плод не мог бы вырасти и выжить в утробе. То есть «груды» Рода явно сопоставляются с семенем. Это заставляет согласиться с предположением Б. А. Рыбакова о связи Рода с изображениями фаллоса,[424] которые, как было показано в разделе о браке, использовались на свадьбах в качестве символов плодородия. Что же касается возможного перенесения на Рода характеристик Саваофа, то это никак не отрицает наличия представлений о нем как о небожителе и покровителе чадородия.
Поскольку Роду приписывалась ответственность за детородное семя, в нем, вопреки мнению В. Я. Петрухина и С. М. Толстой,[425]можно видеть предка родившихся из этого семени младенцев. В данном контексте становится понятно, почему бесовская трапеза приносилась и Роду, и роженицам – они в одинаковой мере отвечали за воспроизведение потомства и являлись предками (в широком смысле слова), от которых зависело будущее соответствующей группы людей. Именно так воспринимали их и Н. Я. Гальковский, B. Й. Мансикка и Б. А.Успенский.[426]
Следует отметить, что способы и цели общения с предками не ограничивались потребностями продолжения рода. Они очень хорошо представлены в наших источниках и показывают значительную степень приверженности языческим традициям, например, в исполнении похоронных и поминальных ритуалов, которые будут подробно рассмотрены в следующей главе. Здесь же следует остановиться еще на нескольких сюжетах, связанных с идолопоклонством, в том числе нового образца.
Старые и новые «боги»
На один из новых видов идолопоклонства обратил внимание Б. А. Успенский: «Весьма знаменательно, что когда в 1540 г. в Псков привезли резные образа св. Николая и св. Параскевы Пятницы, то народ усмотрел в их почитании „болванное поклонение“, отчего, как сообщает летописец, в людях была большая молва и смущение. По всей вероятности, псковичи опознали в этих образах идолы Волоса и Мокоши; симптоматичным представляется уже то обстоятельство, что эта реакция идет, так сказать, снизу, а не сверху, т. е. со стороны простого народа („простой чади“), а не со стороны духовенства».[427]
Нет необходимости думать, что псковичи отождествили фигуры с какими‑то конкретными древнерусскими идолами. Их смутили не присвоенные каждой имена святых, а объемность, поскольку «во Пскове такие иконы на рези не бывали», и то, что святыни привезли «старцы, переходцы с иныя земли».[428] Летописец не уточняет, из каких именно земель прибыли иконы, поэтому А. А. Панченко даже думает, что здесь следует говорить о западном влиянии.[429] На самом деле изображения могли привезти и из других русских областей. Например, И. Левин обратила внимание, что Василий III подарил иконы двух св. Параскев – отшельницы и мученицы – городу Ржеву, откуда Иван IV затем отослал один из образов в Полоцк для восстановления там православия.[430]
Каково бы ни было происхождение резных икон, подобная активность простонародья по вопросу об их соответствии требованиям христианства могла возникнуть только в том случае, если до сих пор статуарные изображения однозначно ассоциировались с языческими идолами.[431] Видимо, появление объемных изображений христианских святых вызвало опасения, что они изготовлены с нарушением правил. Несоответствие же канону повышало и без того существовавший риск совмещения христианских и языческих представлений. В результате могли возникать новые формы идолопоклонства, в рамках которых функции древних богов сливались с образом православных святых.
Такое совмещение хорошо видно на примере Крестецкого уезда Новгородчины, где перед Первой мировой войной в определенные дни местные жители собирали зерно для приношения стоявшей на жальнике каменной бабе по имени Микола и просили священника служить у нее молебен об урожае и дожде. А. А. Панченко считает, что бабы представляли собой не идолов, а деформированные кресты.[432] Но это не существенно, поскольку имя бабы и отказ священника выполнить просьбу прихожан говорят сами за себя. (Даже если согласиться с предположением ученого, что переосмысление новгородских крестов произошло в XVI–XVII вв. в результате переноса кладбищ на погосты и притока пришлого населения из южных областей,[433] это не меняет сути явления.)
Подобные воззрения были связаны не только со св. Николаем, но и со св. Пятницей, т. е. с христианскими персонажами, изваяния которых в 1540 г. привели в замешательство простых псковичей. И если в той ситуации митрополит Макарий своим авторитетом подтвердил благонадежность образов, то впоследствии они стали смущать и лидеров страны. Поэтому в Петровскую эпоху на резные иконы был наложен запрет, направленный преимущественно против изображений св. Николая.[434] Несмотря на запрет, изваяния Пятницы XVI–XVII вв. сохранились. А. С. Лавров объясняет это тем, что ее культ не попадал в поле зрения церковных властей.[435]Объяснение не слишком удачное, поскольку народные формы почитания этой святой неоднократно становились предметом обсуждения со стороны пастырей. Так, в начале XV в. митрополит Киприан вынужден был давать пояснения о правильном соблюдении дня св. Параскевы‑Пятницы: «…и се ти ведомо буди, яко несть поста в тый день, кроме среды и пятка».[436] И. Левин полагает, что необходимость в таких пояснениях со стороны митрополита‑болгарина могла возникнуть в том случае, если праздник принесли с Балкан и установили на Руси недавно.[437] Учитывая существование пятничных церквей на Руси уже в XII в., трудно предположить, что культ святой несколько веков оставался без развития. Что же касается сходства народного почитания Параскевы русскими, румынами и болгарами, то оно в одинаковой степени может быть объяснено близостью как христианских, так и дохристианских представлений. На наш взгляд, причиной вопроса игумена Афанасия о праздновании дня святой могли стать выявленные нарушения, подобные описанным в Стоглаве.
В 1551 г. собор осудил лжепророков из народа, требовавших от имени св. Пятницы и Анастасии «в среду и в пятницу ручнаго дела не делати, и женам не ткати ни прясти, и платиа не мыти, и каменья не розжжигати».[438] Тем не менее подобная проповедь со ссылкой на покровительниц дней недели сохранялась и позже. Нарушителям запрета, согласно народным поверьям, фиксируемым с начала XVIII в., грозили всевозможные неприятности по воле одной из святых, чаще Пятницы.[439] Причем Неделя или Пятница могли явиться согрешившему, предупреждая его о возможных последствиях неподчинения.[440]
Наблюдения этнографов показывают, что причиной появления мифологических персонажей и причинения ими какого‑либо вреда людям обычно является нарушение ритуальных запретов.[441] Но если в фольклоре блюстителями принятых в обществе норм поведения выступают низшие духи – домовой, банник, леший и др.,[442]то в рамках ритуальной практики ими часто оказывались святые, как это видно и из 21‑го вопроса соборных постановлений. Однако формы восприятия этих святых противоречили учению церкви. А. Н. Веселовский даже высказал мнение, что образы странствующих и угрожающих святых соответствуют скорее иудейскому, нежели христианскому пониманию праздника.[443]
Ссылки прельстителей на авторитет именно Пятницы и Анастасии не были случайностью. И дело здесь вовсе не в том, что изначально они являлись воплощением Страстной пятницы и Светлого Воскресения, как думает И. Левин.[444] Обе святых считались покровительницами прежде всего женских работ, в особенности осенних, связанных с обработкой льна и шерсти,[445] т. е. именно тех, которые запрещались лжепророками. Кроме того, их почитание приходилось на близкие дни церковного календаря: Пятнице праздновали 28 октября, а Анастасии‑Овчарнице – 29, т. е. близко к Дмитровской субботе, когда наши предки прощались до весны со своими умершими родичами (представителями коих и являлись названные святые), пытаясь всячески им угодить. В недельном же цикле св. Анастасия была связана с воскресеньем, которое, по церковным канонам, посвящалось молитве и посещению храма и было запретным для трудовой деятельности. По наблюдению М. В. Корогодиной, в исповедных текстах запрет на работу в воскресные дни появляется как раз во второй половине XVI в.[446] Поэтому упоминание «лживыми пророками» св. Пятницы наряду со св. Анастасией должно было подтвердить справедливость требования отказаться от работ и по пятницам.
Учитывая связь св. Анастасии с днем недели, стоит обратить внимание на свидетельство Софийского списка Слова св. Григория (XV в.) о почитании изображения воскресенья, для которого в памятнике использовано название «неделя»: «…И недели день и кланяются написавше жену в человечьск образ тварь».[447] Н. И. Зубов рассматривает данное сообщение в контексте антирожаничной полемики и считает, что речь в нем идет не об антропоморфном изображении, а о каком‑то написанном еретическом поучении о Богородице как об обычной женщине, хотя и святой. Однако сделанное ученым сопоставление этого фрагмента с текстом о необходимости поклонения Богу в виде Троицы, «а не твари, написаней во образ человечь»,[448] не совсем понятно, так как последний также осуждает поклонение изображению Бога вместо него самого.
Кроме того, «Слово истолковано мудростью от святых апостол и пророк и отец о твари и о дни рекомом неделе» (список XIV в.) недвусмысленно указывает на обычай почитания именно изображения недели. Его автор объяснял, что «не подобает крестьяном кланятис неделе ни целовати ея, зане тварь есть» и что христиане славят трехдневное воскресение, «а не неделю не рече бог о болване, но рече створим человека по образу нашему».[449] В памятнике присутстствуют также справедливо отмеченные Н. И. Зубовым следы полемики с иудейским обычаем празднования субботы,[450] но поклонение изображению недели не имело к ним отношения, поскольку противоречило и ветхозаветным нормам.
Таким образом, был период, когда почиталось воплощение не только Пятницы, но и Анастасии‑Недели. Так что не исключено, что и «лживые пророки» имели дело не только с видениями, но и с изображениями этих святых. Во всяком случае, в культе Пятницы последующих столетий встречались и ее изображения, и те элементы, за которые были осуждены Стоглавом ее избранники.
Полагаем, И. Левин напрасно пытается объяснить обличение народного пятничного культа как суеверия тем, что к XVIII в. большинство священников забыло о связи св. Параскевы со Страстной пятницей.[451] На Руси ассоциация Пятницы с соответствующим днем Великой седмицы не прослеживается. Суеверия же в ее культе имелись, как было показано, уже в XVI столетии. В связи с этим обратим внимание еще на один момент.
Из этнографических материалов известно, что при праздновании 9‑й и 10‑й пятниц в честь матушки‑кормилицы народ использовал службу св. Параскеве‑Пятнице, приуроченную церковью ко дню святой – 28 октября, хотя объяснить, кто такая Пятница, крестьяне обычно не могли.[452] Во второй половине XIX в. в духовной печати обсуждался вопрос о возможности отправления служб Параскеве в одну или две из народных пятниц, а Самарский и Ставропольский епископ Гурий специальной резолюцией запретил священникам отправлять службу св. Варваре по просьбе прихожан в почитаемые ими пятницы.[453]
На наш взгляд, данная ситуация очень напоминает запрет на приложение тропаря Богородицы к рожаничьей трапезе и позволяет понять, как именно могло происходить подобное совмещение языческих и христианских элементов культа в изучаемый период. Любопытно также, что в XIX в. обсуждалось совмещение церковных служб с праздниками именно тех святых, которые фигурировали в качестве Божьих матерей в народном заговоре над младенцем. А по наблюдению В. Я. Петрухина, эти соотносимые с роженицами святые стали знаменем и для движения «лживых пророков»,[454] что представляется нам очень логичным, если признавать за роженицами влияние на судьбу.
Возвращаясь к вопросу о причинах сохранения резных изображений Пятницы, с середины XVI в. широко распространившихся на северо‑западе и севере России, рискнем высказать предположение, что это может объясняться особенностями их размещения. Часто такие изваяния располагались в отдалении от жилой зоны, на лоне природы, близ почитаемых камней, родников и деревьев и воспринимались как один из элементов местной народной святыни.[455] Контролировать подобные культы было достаточно сложно, поэтому церковь старалась постепенно убрать из них языческую составляющую, акцентировав внимание на христианской. Такая попытка была, в частности, предпринята в 1612 г. в Пошехонском уезде, где празднование Ильинской пятницы оказалось совмещено с культом рябины. На протяжении многих лет священники близлежащих весей направлялись к почитаемому дереву в день св. Параскевы с ее иконой для совершения молебна. Торговые и пахотные люди из окрестных волостей и городов также регулярно приходили молиться Пятнице и «у ребины сквозе сучие проимаху дети малые и юноты. А инии людие и в совершенном возрасте проимахуся». Иван Прокопиев, дьяк с. Тужева, посчитал неподобным поклонение дереву, не отмеченному христианской иконой, и предложил устроить на этом месте церковь в честь св. Ильи и Параскевы. Саму рябину, видимо, пытались выкопать, так как в ходе работ в ее корнях были обнаружены человеческие останки. Церковь признала в них мощи св. Адриана, погребенного на пустоши в 1550 г. Рябину же, отныне отмеченную чудесами святого, патриарх Филарет приказал оставить в покое.[456]
Совершенно очевидно, что процедура с рябиной и лежавшими под ней мощами была проделана именно для развенчания культа дерева. Это подтверждает и фраза из жития Адриана Пошехонского: «Не от древа бысть исцеление, но от его многострадальных мощей».[457] Но, как показывают другие документы, совмещение культа святых с почитанием природных объектов могло происходить и без участия церкви, как, например, в Вятской епархии, жительницы которой в 1739 г. были изобличены в хождении на Петров день к источнику у болота и приношении жертв хлебом, сыром, яйцами и предметами одежды, с последующим обливанием и питьем святой воды. В ходе разбирательства выяснилось, что женщины делали это по указанию мужчин: «И сказывали де им мужской пол, что тут бог есть, и молились они якобы богу».[458] В этом случае языческая составляющая культа явно преобладала, хотя участники обряда – как женщины, так и мужчины – судя по всему, этого не осознавали.
Формирование описанного культа вокруг водного источника представляется весьма логичным. «Моленья колодезная и речьная» очень беспокоили духовенство и в рассматриваемый период, о чем свидетельствуют Чудовский список Слова св. Григория и датируемые тем же XVI в. списки Слова о силах небесных и Слова св. отец о посте устава церковного.[459] Связь этих молений с почитанием духов прослеживается в вопросах Требников середины XVI – первой половины XVII в.: «Или у кладязя моливался бесом?»,[460] «Не носил ли еси жертвы бесом в лес и в реку своим злонравием или научением богомеръских баб и вольхвов?».[461] Совершенно очевидно, что никакого отношения к христианскому культу святых обитатели источников не имели, иначе бы их не называли «бесами».
Подобная связь природного объекта или стихии с олицетворяющим их божеством видна не всегда. Слово о силах небесных лишь перечисляет веру «в солнце и в месяц, и в звезды, а иныя в рекы, и в источники, и в древа польская, и в огнь, и в звери, и в иныя вещи многразличныя…».[462] Вопросы требников, обычно в «женской» их части, также просто отмечают поклонение «солнцу, и месяцу, и звездам или зари».[463] Однако об обожествлении сил и явлений природы недвусмысленно говорит письмо новгородского архиепископа Макария 1534 г. о сохранении «прелести кумирской» «в чюди, и в ижере, и в кореле, и во многих русских местех. Суть же скверные мольбища их лес и камение и реки и блата, источники и горы и холми, солнце и месяц и звезды и езера и проста рещи всей твари поклоняхуся яко богу, и чтяху и жертву приношаху кровную бесом, волы и овцы, и всяк скот и птицы».[464]
Свидетельство Макария не единично. В исповедных текстах второй половины XV – первой половины XVII в. часто встречается вопрос о хулении твари или говаривании слов на стихии.[465] Поновление вельможам середины XVI в. позволяет понять, что могло подразумеваться под этим хулением: «или ветр похулив, или снег, или дождь, или мраз, или огнь, или солнце, или месец, или звезды, или море, или реки, или коего о твари Божия кою стихию богом назвав».[466] Такое же толкование дает и вопрошание о вере первой половины XVII в.: «Не кланялься ли еси твари Божии, нас ради сотворенои, небу и земли, солнцу и луне, и звездам, и древу, и камению, и огню, богом нарицая тех?».[467]
Таким образом, вопреки мнению Г. Ловмянского,[468] древнерусские памятники позволяют говорить о почитании не только стихий, но и олицетворяющих их божеств. Последние наряду с духами рукотворных объектов хорошо известны под особыми именами из этнографических материалов. Знал о них и автор Чудовского списка Слова св. Григория, упомянувший моления «кутну богу и веле богыни, и ядрею, и обилухе, и скотну богу, и попутнику, и лесну богу, и спорынями и спеху».[469] Среди перечисленных персонажей можно узнать, например, домового, овинника, лешего. Почитание таких демонов проиходило в их локусах, о чем говорят не только материалы этнографии, но и Слово св. Григория, и наказные списки Стоглава, требовавшие подвергать церковному суду тех, «кто под овином молитца или во ржи, или под рощением, или у воды».[470]
Характер жертвоприношений описанным в данном разделе «бесам» прослеживается в источниках плохо. Архиепископ Макарий в 1534 г. указывал на кровавые жертвы, для которых предназначались «волы и овцы, и всяк скот и птицы».[471] Трапеза роженицам, как уже отмечалась, ставилась в виде кутьи, хлебов, сыров, меда и кур.[472]Чудовский список описывает аналогичные приношения навьям, о которых пойдет речь в следующей главе. Вместе с тем последний памятник не позволяет сделать однозначное заключение о том, в чью именно честь бросали жертвы в воду, резали и поедали кур, пили напитки, в том числе с «кускы и ростъкы луковыми».[473] Например, жертвы курами отмечены в этнографии как характерный, но вовсе не обязательный элемент почитания овинника,[474] в поучении же они упоминаются рядом с именами «сварожитьца», Артемиды и Артемидия, а не в связи с молениями «под овином и в поветех скотьях».[475]
Ясно лишь, что именно ритуальные напитки и еда, предназначенные «бесам» и употреблявшиеся самими жертвователями, составляли ядро языческих молений, о чем свидетельствуют как поучения, так и вопросы требников изучаемой эпохи.[476] По крайней мере, часть этих ритуальных трапез совершалась в ходе игрищ у источников, в лесах и полях, которым посвящена отдельная глава нашего исследования.
Здесь же важно отметить еще один момент. Вопросы о хулении стихий в требниках второй половины XVI–XVII вв. часто сочетаются с вопросами о хулении икон, имеющих идентичный смысл. Это со всей очевидностью просматривается в текстах более позднего времени, например, в книге 1715 г. («Образы святыя богами не называешь ли?») или в исповедании старообрядцам второй половины XIX в.[477]В 1557–1558 гг. такую же несуразицу отметил и неизвестный англичанин, написавший в своем описании России, что «многие, большая часть бедняков на вопрос „сколько богов“ ответила бы „очень много“, так как они считают всякий имеющийся у них образ за бога».[478] Иными словами, изображение христианских святых, сотворенное человеком, могло восприниматься и именоваться так же, как тварь Божия.
Таким образом, молитвы языческим божествам и воспринимавшимся в контексте языческого мировоззрения святым образам продолжали оставаться реальностью русской жизни на протяжении многих столетий после крещения, о чем с горечью писал составитель Чудовского списка: «не токмо же то в поганьстве творяху, но и мнози ныне то творят, крестьяне ся нарицающе…».[479] Поэтому церкви приходилось бороться не только с прежними, но и с новыми формами идолопоклонства, объединявшими почитание старых и новых святынь.
Глава 4
Погребально‑поминальные обычаи
Погребально‑поминальный комплекс обрядов достаточно полно представлен в наших источниках. Это объясняется тем, что смерть во все времена и у всех народов оставалась наиболее стрессовым фактором, приводившим к необратимому изменению существующего порядка вещей. Поэтому она повсеместно сопровождалась целым рядом архаичных церемоний, зачастую сохранявшихся без существенных изменений на протяжении многих столетий даже при утрате первоначального смысла.
Конечно, «в естественном плане мир постоянно изменяется, но в структурном отношении он остается прежним (таким, каким его зафиксировал последний ритуал). Задача следующего ритуала – устранить это несоответствие, „узаконить“ происшедшие изменения и тем самым санкционировать новое состояние мира».[480] Уход из жизни одного из членов человеческого коллектива более чем что‑либо другое требовал таких санкций, позволявших построить новую схему отношений в обществе, которая исключила бы, или, по крайней мере, свела бы к минимуму, влияние умершего на дела живых. Ведь «физическая смерть не равносильна социальной. Для того чтобы человек стал мертвым и в социальном плане, необходимо совершить специальное преобразование, что и является целью и смыслом погребального ритуала»,[481] который может растягиваться на многие годы, но обязательно на нечетное число лет.[482] В России переход мертвеца осуществлялся в течение года, после чего умерший терял свою индивидуальность и становился одним из «родителей», почитавшихся в виде единой безликой массы в специально предназначенные для этой цели дни.[483] Источники изучаемого периода подробно описывают лишь начальную стадию переходных обрядов, приходившуюся на первые 40 дней после смерти.
Письменные памятники сохранили для нас старинное название тех, кто нашел свое успокоение в потустороннем мире – навьи. В науке существуют две точки зрения на происхождение этого названия. Большинство лингвистов производит слово «навь» от индоевропейского корня nav ‑, означающего корабль, усматривая его связь с отмеченным у многих народов представлением о расположении царства мертвых за водной преградой – морем или рекой. Однако с конца XIX в. имеет место и иная точка зрения, представленная, например, в работах Д. Н. Анучина. Он считал, что «навье, латышское nave – смерть, navet – убивать, могут быть сближены с латышским navites – мучиться, литовским диалектным novyt – мучить, с чешским nawiti – утомить, измучить, русским диалектным снавиться – устать, утомиться, обессилеть»,[484] т. е. потерять жизненную энергию.
Последнее толкование перекликается с мнением ряда современных исследователей, в частности В. Н. Топорова, что «смерть, и умирание как исчезновение, оказываются при более конкретном рассмотрении потемнением‑помрачением, выпадением из взгляда, из зрения…»,[485] т. е. превращением в то, что не явно, скрыто. Именно поэтому словом «навь» обозначали как покойника, так и место нахождения умерших[486] – мир, противоположный реальному, яви.
Один из наших источников слово «О посте к невежам в понеделок второй недели» в списке XVI в. подтверждает такую трактовку понятия, указывая, что о посещении навий можно судить лишь по оставляемым ими куриным следам.[487] Увидеть навий нельзя, так как они не имеют присущей всему живому материальной оболочки, позволяющей вести активный образ жизни. Слово «навь» можно сравнить и с распространенным в русском разговорном языке определением населяющих постройки и природные объекты духов – «нежить», также образованном для противопоставления живым с помощью отрицания «не».
По сей день нет единства по вопросу о статусе навий. Наряду с точкой зрения на них как на покойных предков в научной литературе также высказывается мнение об их враждебности, чуждости человеку, почитавшему этих безликих мертвецов не из уважения, как он делал это в отношении вполне конкретных умерших родичей, но из чувства страха. Так считает, в частности, Б. А. Рыбаков. Он утверждает, что «представления о навьях (мертвецах вообще, чуждых, враждебных мертвецах) резко отличны от культа предков, родных, „дедов“».[488] Мы не согласны с подобным взглядом на навий, в том числе и потому, что схожее наименование, «навпа», в XIX в. зарегистрировано в севернорусских диалектах для домового. А представления о родственных связях домового с хозяевами и их предками неоднократно отмечались этнографами.[489]
В то же время нельзя не обратить внимания на то, что, согласно наблюдениям Д. К. Зеленина, у многих народов, в том числе и у русских, есть два разряда умерших: родители (умершие от старости предки, являющиеся к своим потомкам в поминальные дни по особому приглашению) и мертвяки, или «заложные» (умершие прежде срока скоропостижной или насильственной смертью). Последние обитают на месте своей смерти или у могилы, сохраняют способность к передвижению и вредят живым.[490] Поэтому общение с ними имело несколько иные формы, нежели принятые для почитания родителей (которые, по нашему мнению, как раз и попадали в разряд навий по истечении переходного периода). Даже захоронение «заложных» производилось по другой традиции, сохранявшейся на Руси, судя по посланиям Максима Грека, и в XVI в.[491] Но для того чтобы четко выявить эти различия, прежде проследим наличие языческих элементов в обрядах, предназначенных нормально ушедшим из жизни мертвецам.
Погребение и проводы
Для того чтобы умерший присоединился к другим навьям, над ним совершался целый комплекс обрядов. Источники XV–XVI вв. не сообщают, какие манипуляции производились в этот период над телом до похорон. Известно лишь, что хоронить представителей всех сословий – «будь то царь или раб», по утверждению Маржерета, старались в день смерти.[492] (С. В. Сазонов подчеркивает, что данный обычай может восходить как к христианской традиции в подражание этапам смерти Христа, так и к дохристианской, связанной со страхом перед мертвецом [493]). Кроме того, всех покойных считалось необходимым обеспечить домовиной – гробом. Эту особенность отметил служивший в 1557–1558 гг. при царском дворе неизвестный англичанин, сообщавший, что «труп всегда кладут в деревянный гроб, хотя бы умерший был и очень беден».[494] Десятилетие спустя другой выходец из туманного Альбиона Джордж Турбервиль подтвердил его информацию в своих стихах о Московии:
Тела умерших
Помещают в гробы из елки как простые люди,
Так и те, кто побогаче…[495]
В то же время существовали и отличия в погребении людей разного достатка, на что уже в 70‑е годы того же столетия обратил внимание посланник германского императора Даниил Принтц, писавший о русских: «Под каменными храмами у них подвалы, а под деревянными комнаты, и туда помещают более богатых умерших, заключивши их в склеп, а через 40 дней устрояют в честь их поминки. Для погребения простого народа вырывают большой ров и кладут в него…».[496] Самуил Кихель в 1586 г. уточнял, что в Пскове подобные ямы вырывались близ города для простолюдинов, не способных заплатить за погребение у церкви, и могли вмещать в себя по несколько тысяч трупов.[497]
Положение в общей открытой могиле могло носить и временный характер, как это следует из данных Д. Флетчера 1589 г. Англичанин писал: «В зимнее время года, когда все бывает покрыто снегом и земля так замерзает, что нельзя действовать ни заступом, ни ломом, они не хоронят покойников, а ставят их (сколько не умрет в течение зимы) в доме, выстроенном в предместье или за городом, который называют Божедом, или Божий дом: здесь трупы накладываются друг на друга, как дрова в лесу, и от мороза становятся твердыми, как камень; весною же, когда лед растает, всякий берет своего покойника и предает его тело земле».[498]
Непонятно, почему данные известия так смутили Д. К. Зеленина, Л. Штайндорфа и А. И. Алексеева, полагающих, что иностранцы неправильно поняли своих информаторов.[499] По мнению немецкого исследователя, «вопреки Принтцу Бухау и Флетчеру вряд ли можно предположить, что этот способ захоронения был правилом для широких слоев населения; в известных автору русских источниках отсутствуют подобные свидетельства».[500] Русские памятники не фиксировали указанный обычай как раз потому, что он был нормой в отношении бедного простонародья, о чем и говорят Принтц и Кихель. Флетчер же сообщает не о постоянном, а о временном содержании покойных в специальном доме до момента оттаивания земли безотносительно к социальному положению мертвецов. С его свидетельством перекликается и упомянутая, но не принятая во внимание Л. Штайндорфом запись С. Коллинса середины XVII в. об аналогичном обращении с неопознанными телами убитых и замерзших, которые весной также погребали, продолжая использовать опустошенную яму в качестве временного хранилища анонимных трупов.[501]
Если речь шла об окончательном месте коллективного упокоения, то по мере заполнения общую могилу засыпали землей, что видно из сообщения Псковской I летописи 1553 г. о море, погубившем много людей, так что телами заполнили и «покопаша» три скудельницы,[502] которые обычно устраивались на всполье – ведь при церкви клали только успевших исповедаться. В тех случаях, когда вне церковной ограды хоронили отдельного покойника, место погребения также оказывалось далеко за пределами жилой зоны. Об этом упоминается в записках А. Гваньини второй половины XVI в.: «Хоронят они в лесах и полях, где укрепляют могильные холмы принесенными камнями, а сверху ставят крест».[503]
Любопытно, что со схожим обычаем погребения в лесной и полевой полосе вместо кладбищ в XI–XII вв. пришлось бороться многим европейским правителям в зоне славянского расселения, в частности, в Чехии, Венгрии, Польше.[504] Но, несмотря на труды церкви, и в начале XVIII в. этот обычай встречался у саксонских древян, которые по‑прежнему занимались крестьянским трудом, говорили на славянском языке и поклонялись деревьям. Описание их погребальной традиции немецким автором Карлом Шнайдером отчасти напоминает текст Гваньини относительно средневековой Руси: «…своих умерших они хоронят в лесах и полях с различной ворожбой и подношениями для отвода злых духов».[505] Таким образом, можно говорить, по крайней мере, о наличии у славянских народов одинаковых требований к месту захоронения, восходящих к дохристианским представлениям.
Поэтому, несмотря на упомянутые Гваньини надмогильные кресты, погребение за пределами церковной ограды вызывало нарекания и со стороны русской церкви, особенно в недавно окрещенных землях, где русские проживали бок о бок с инородческим населением. 25 марта 1534 г. Новгородский архиепископ Макарий отправил служителям церкви, а также «в волости, села, погосты» Вотской пятины грамоту об искоренении язычества, где писал: «Здесь мне сказывали, что деи в ваших местех многие христиане, мертвых деи своих они кладут в селех по курганом и по коломищем с теми же арбуи, а к церквам деи на погосты тех своих умерших оне не возят съхраняти…». Для исправления иерарх послал священника Илью, который должен был заново окропить святой водой православных и их жилища и храмы и проповедовать православие арбуям. Детям же боярским владыка «те скверные молбища велел разоряти и истребляти, огнем жещи».[506] Но и его приемник архиепископ Феодосий в 1548 г. вновь столкнулся с теми же проблемами: «мертвых деи своих они кладут в лесех по курганом и по коломищем» и т. д.[507]
Четкое противопоставление курганов и коломищ церковным погостам не позволяет, по нашему мнению, думать, что способы захоронения были несущественны для церкви, из‑за чего и не осуждались в таком важном документе эпохи, как Стоглав. Подобная точка зрения принадлежит А. Е. Мусину, который считает захоронение под курганами христианским обрядом, отвергаемым архиереями лишь в связи с необходимостью религиозной унификации и ликвидации новгородских вольностей.[508] Локальный характер такого рода захоронений в XVI в., возможно, как раз и явился причиной отсутствия критики курганов в соборных постановлениях – ведь речь шла не обо всей территории страны, а о вполне конкретном регионе, который незадолго до принятия Стоглава получил четкие предписания церкви по данному вопросу.
По археологическим данным, курганная культура стала трансформироваться под влиянием христианства еще в середине XIII в.[509]Но на северо‑западе Новгородской земли древние кладбища функционировали и в XV–XVI вв., пока церковь не занялась всерьез ликвидацией оставшихся курганов и не тронутых ею до сей поры коломищ – грунтовых и жальничных могильников близ деревень.[510]Впрочем, в старообрядческих поселках центральной России и в северной Белоруссии курганные захоронения, имитировавшие жилой дом, бытовали вплоть до XVIII в.[511] Кроме того, на Северо‑Западе России жальники использовались и позже – для погребения некрещеных покойников, прежде всего младенцев и выкидышей,[512] т. е. тех, кто не успел войти в круг православных.

Сопка.

«Голубец», надмогильное сооружение в форме домовины. Вологодская область.
Сохранялась и отмеченная нашими источниками традиция захоронения в лесных массивах. Так, Т. А. Бернштам отмечает, что кладбища на Руси везде располагались на возвышенных местах в рощах, «отчего и древние (заброшенные) могильники, и поздние (функционирующие) кладбища назывались лес, роща, рощение, боровина и т. п.».[513] Поэтому нет необходимости, подобно Н. А. Криничной, объяснять взгляд народа на лес как на обитель умерших скифскими обрядами повешения покойников на дереве.[514] Славянские погребальные обычаи вполне объясняют подобные представления.
Важно подчеркнуть, что кладбища использовались отнюдь не только как место упокоения умерших. По словам приведенной выше грамоты архиепископа Макария, они служили мольбищами, что указывает на сохранение их дохристианского значения. Кроме того, именно вблизи могил в рощах простая чадь творила по весне бесовские потехи, осужденные в 41‑й главе Стоглава (к сути подобных потех мы еще вернемся). Подобные факты заставляют внимательно отнестись к мнению ряда ученых о схожих чертах устройства славянских курганов и памятников перынского типа, которые есть как у восточных, так и у западных славян и повсеместно располагаются рядом с кладбищами,[515] вероятно, будучи с ними генетически и функционально связаны.
Путь к месту погребения, похороны и поминки обычно сопровождались действиями, корни которых уходят вглубь столетий. Так, Д. Д. Фрэзер обратил внимание, что «во всех славянских странах с незапамятных времен придается большое значение громкому выражению горя по умершим. В прежнее время оно сопровождалось раздиранием лица скорбящих – обычай, сохранившийся среди населения Далмации и Черногории».[516] На Руси рассматриваемого периода надгробное раздирание лица упоминается в одном из имевших большое распространение слов Иоанна Златоуста. Соловецкий список Кормчей 1493 г. также разъяснял, что «грех есть дравшийся по мертвеце или над больным рвавши волосу или бороду или порты своя тръзати».[517] Кроме того, вопросы о раздирании лица и одежды при оплакивании покойника в большом количестве встречаются в исповедных текстах. Сопоставление подобных вопросов из разных памятников заставляет усомниться в справедливости предположений некоторых исследователей о том, что речь здесь может идти о битвах в честь умершего.[518] На ошибочность подобной точки зрения обратили внимание также В. Я. Петрухин и С. М. Толстая,[519]а М. В. Корогодина показала, что этот тип вопросов мог включаться в требники в полной и краткой форме. Последняя, наиболее характерная для ранних памятников XIV–XV вв., и породила предположение о погребальных боях.[520]
Нарочитая демонстрация скорби фиксируется многими источниками в отношении как общественно‑значимых, так и частных похорон. Пример первых может быть проиллюстрирован сообщением официального русского источника. В 1473 г. после смерти князя Юрия Васильевича, согласно московскому летописному своду конца XV в., князья, бояре и православные перед погребением «многы слезы излиаша, и вопль и кричание велико сътвориша».[521]
Такое массовое горе легко объяснимо отмеченной М. П. Одесским уверенностью средневековых людей в том, что жизнь и здоровье высших представителей государства и церкви являлись признаком благополучия страны, а их болезнь или смерть пророчили всевозможные беды.[522] Однако неизвестный англичанин описывал в середине XVI в. оплакивание покойного как привычную для всех москвитян норму поведения: «во время перенесения умершего в церковь родственники и знакомые идут с небольшими восковыми свечами, плачут, рыдают и много причитают».[523] Конечно, потеря близкого человека не могла оставить равнодушными его друзей и родственников. Это понимала и церковь. Но чрезмерное выражение горя вступало в противоречие с христианским учением, воспринимавшим смерть как конец земных страданий. И священники уличали своих прихожан в плохом понимании идеи Царства Божия, задавая им на исповеди вопрос: «Или плакала по мертвом много?».[524]
Особенно серьезные нарекания духовенства вызывал плач матерей над умершими младенцами, о чем свидетельствует большое число списков посвященного данной проблеме Слова Иоанна Златоуста.[525] Это заставляет думать, что повсеместно распространенный запрет на подобный плач был порожден именно в недрах церкви, а не исходил из идеи неизжитого века, как считают О. А. Седакова и А. К. Байбурин.[526] Безусловно, дети не могли испытать всех тех удовольствий, которые выпадали на долю долго жившего человека. Однако митрополит Даниил, занимавший кафедру до 1539 г., осуждал факт оплакивания как крещеных, так и некрещеных младенцев, так как первые сподобятся Царствия Небесного и избегут соблазнов и грехов земного мира, а вторые хотя и не попадут в рай, но не окажутся и в аду, что могло бы случиться из‑за грешной жизни.[527]
Языческое сознание, напротив, считало смерть не избавлением от грехов, а утратой радостей жизни, о чем свидетельствует содержание исполнявшихся над телом причитаний. Согласно запискам Д. Флетчера, усопшего спрашивали, чего ему не доставало в этом мире и зачем он умер.[528] Те же вопросы, судя по этнографическим данным, составляли суть причитаний и в более позднюю эпоху, включая XX в. При этом, например, на Русском Севере полагали, что чем больше плача по умершему, тем ему приятнее, но причитание по детям здесь считали грехом.[529] Видимо, проповеди деятелей церкви все‑таки возымели действие на паству, по крайней мере в отношении плача над младенцами. Впрочем, в разных местах и в древности мог быть разный подход к оплакиванию умерших детей. Причитания же по взрослым, согласно этнографическим записям, ограничивались специальными поминальными сроками, в противном случае, по справедливому замечанию М. В. Корогодиной, они могли привести к нежелательным посещениям покойного во внеурочное время.[530]
Вопросы требников XV–XVI вв. говорят не только о причитаниях, но и о нанесении телесных повреждений и обезображивании внешнего облика: «Или по мертвом плакал еси без меры и власы терзал еси?», «Дравшие по мертвем или волос рвавши, или порты терзавши?», «Или власы на свое главе стригла?».[531] Смысл этих действий разъясняется в тексте многочисленных списков Слов Иоанна Златоуста о плачущих над умершими младенцами или в дни поминания предков, которые запрещали нерадивым христианкам «много плаката ни влас на себе терзати ни лица драти», видя в данных действиях проявление древнего жертвоприношения обитателям навьего мира.[532] Не случайно автор Повести об Улиянии Осорьиной начала XVII в. поставил ей в заслугу то, что после гибели сына на царской службе она «ни кричаше бо без лепоты, ни влас терзаше, яко же прочия жены творят… по обычаю язычников».[533]
Приведенные цитаты со всей очивидностью показывают, что подобные формы выражения скорби в первую очередь были присущи прекрасному полу, представительницы которого гораздо дольше, чем мужчины, сохраняли приверженность языческим традициям. В связи с этим считаем необходимым обратить внимание на факт терзания волос, так как исследования этнографов показывают, что манипуляции с волосами всегда означали прекращение прежних связей, переход в новое социальное объединение и даже связывание себя с сакральным миром.[534] А ведь похоронный ритуал ориентирован не только на умершего, но и на его ближайшее окружение, также совершающее переход в иной статус – статус вдовы/вдовца, сирот.[535] Расставаясь со старой прической, женщина прекращала отношения с умершим, вырывая вместе с волосами тот магический узел, который связывал их с момента заключения брака, завершения родов или другого события. Вырванные или срезанные волосы являлись такой же долей покойного, как часть полотна – долей разведенных супругов. С той разницей, что в указанный период вырывание волос, судя по всему, практиковалось лишь женщинами, тогда как мужчины, напротив, отращивали их во время траура. Возможно, это указывает на то, что в символическом смысле мужчине следовало привязать себя к реальному миру, тогда как женщина обеспечивала поддержание отношений с потусторонними силами, но в новом качестве. Поэтому и слова Иоанна Златоуста подчеркивали жертвенный характер женского печалования по мертвым.
Терзание волос означало, что демонстрация горя сопровождалась, помимо прочего, нарушением привычной формы одежды, зафиксированной путешествовавшим по Псковской и Московской землям в конце XVI в. Самуилом Кихелем: «Женщины выходят на улицу до того покрытые, что у них видны одни только глаза, иначе ходить считается постыдным…».[536] В похоронном же ритуале волосы не просто открывались, но и распускались. Так, А. Поссевино, наблюдавший похороны Ивана Молодого, отметил, что распущенные волосы считались знаком траура.[537] Однако волосы распускали не только родственницы умершего, но все, кто участвовал в печальной процессии, в том числе женщины, приглашавшиеся для оплакивания покойного (правда, о растрепанности последних говорит источник более позднего времени – записки имперского посла Майерберга, посетившего Россию в 1661 г.[538]).
Такая всеобщая «раскосмаченность» женщин объясняется тем, что во время проводов умершего они вступали в зону действия потустороннего мира, предъявлявшего свои претензии к внешнему виду людей. Вступление во владения смерти требовало освобождения от упорядоченности человеческого общества, символом которой и выступали уложенные в соответствии с нормой волосы. Их распускание предполагало отказ от человеческой нормы и подчинение правилам бесформенного царства нави. Не случайно этнографические материалы отмечают восприятие простоволосой женщины как лешачихи или ведьмы, знающейся с нежитью.[539]
Посредническая роль женщин в похоронных ритуалах видна не только из этих примеров, но и из того факта, что к мертвецам нередко приглашали специальных плакальщиц, хотя нам ничего не известно об аналогичном институте среди мужской части общества. Роль этих участниц обряда была такой же, как и у родственников покойного – достойно проводить его в последний путь. А потому, согласно Флетчеру, наблюдавшему подобные проводы в 1588–1589 гг., плакальщицы «по языческому обычаю испускают вопли, стоя над телом» и спрашивают, чего недоставало усопшему и зачем он умер.[540]По сведениям Маржерета, нанятые плакальщицы участвовали в ритуале как до, так и после погребения, в том числе в ежегодных поминальных пирах, устраивавшихся в богатых семьях в честь ушедшего из жизни. В этом случае плакальщицы также задавали вопросы умершему вместо его родственников.[541]
Интересное описание траурной процессии оставил Петрей де Ерлезунд, заброшенный в Россию в эпоху Смуты. В увиденном им кортеже шествие возглавляли причитавшие перед носилками с гробом четыре девушки, по мнению Петрея – подруги усопшего. Они шли «под белыми покрывалами на головах и лицах, чтобы их не видали».[542]Эта деталь одежды плакальщиц весьма примечательна, так как лишний раз подчеркивает их посредническую роль между умершими предками и живыми потомками. Сокрытие лица означало, что исполнительницы плачей выступали здесь не от своего имени, поэтому остальным участникам обряда незачем было их видеть. Белый же цвет вообще «репрезентирует потусторонний мир, мир мертвых».[543]Любопытно, что Петрей считал русский обычай причитания над покойником заимствованным у греков, но аналогичные традиции известны и у других народов и очень архаичны.[544]
К сожалению, не известно, какие еще похоронные обычаи соблюдались москвитянами к концу правления Ивана Грозного, когда А. Гваньини отмечал, что «простой народ совершает пред погребением мертвых различные церемонии, продиктованные суеверием».[545] Остается лишь предполагать, что могло скрываться за этими церемониями, кроме уже названных причитаний, терзания волос и одежды и раздирания лица. По крайней мере, о драках над могилой, продолжавших традиции древней тризны, речь явно не шла, как было показано выше.
Возможно, итальянец имел в виду обнаруженную этнографами преимущественно в южнорусских губерниях (Калужской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской) традицию выпекания в день похорон лесенки с тремя и более ступенями, которую затем ставили на могилу, чтобы облегчить покойному переправу в мир нави. Такую лесенку выпекали также для поминок 40‑го дня и в канун Вознесения, а в Белоруссии – на годовщину.[546] Во всяком случае существование подобного обычая в XV–XVI вв. подтверждается списками Слова св. Григория, согласно которым русские «в тесте мосты делають и колодязе» или «мосты чинят по мртвых и просветы, и бдельник».[547] По славянским представлениям, мост обеспечивал переход между мирами, поэтому его, например, устраивали над символическим колодцем из дров для прихода жениха во время гаданий.[548] Правда, В. Й. Мансикка считал, что под мостами автор поучения мог подразумевать как ритуальное печенье, так и белорусский обычай делать кладки или мосты через ручьи и мокрые места в память умершей женщины, чтобы каждый проходящий мог ее помянуть.[549] Разные списки памятника могли отразить разные традиции, но упоминание теста указывает, скорее, на выпечные изделия. Как поминальную еду толкует мосты и колодцы и Н. И. Зубов.[550]
Интересно упоминание «бдельника» в Чудовском списке памятника. Вероятно, речь идет о сохранившемся до сего дня обычае бдения, т. е. бодрствования над телом, пока оно находится в доме. С. М. Толстая объясняет его широко распространенным у восточных и южных славян поверьем, что если под гробом пробежали домашние животные, если они прыгнули на покойника или если над умершим что‑то передали друг другу, то он станет ходячим и после погребения будет беспокоить живых.[551]
В том же Слове св. Григория говорится и еще об одном погребальном обычае, дошедшем до наших дней, – «и ногти обрезавше кладуть, и за надра мецють, а ножнии на голову».[552] Ногти покойного, срезавшиеся при обмывании или специально собиравшиеся еще при жизни, клали в гроб, чтобы в потустороннем царстве ему легче было взбираться на стеклянную гору.[553]
Складывание ногтей с ног в головах, а с рук – в ногах, видимо, призвано было запутать покойного, чтобы, занимаясь раскладыванием обрезков в нужном порядке, он не мог возвращаться домой и беспокоить живых.
Возможно, туже цель преследовали помещаемые в могилы части растений, о которых свидетельствуют археологические материалы. По наблюдениям Т. Д. Пановой, более чем в ста псковских погребениях XVI–XVII вв. найдены пучки травы, которые не находят аналогий в язычестве, т. е. в могилах предшествующего периода.[554] Тем не менее связь этой травы с языческими представлениями, возможно, существует.
По материалам этнографии, в Курской губернии колдунам и самоубийцам в гроб клали освященные травы, а утопленнику – освященные же семена мака, чтобы он их собирал, а не пугал живых своими посещениями.[555] Также в могиле мог оказаться одетый на умершего венок из трав и цветов или вечнозеленых растений, который обычно делали для детей или неженатой молодежи.[556] Кроме того, в России и Болгарии существовало поверье, что души умерших прорастают с первой зеленью, а когда зелень и цветы сохнут, души уходят на тот свет. Причем на Карпатах верили, что душа старика сгнивает вместе с телом, а душа девушки переходит в цветы на могиле.[557] Поскольку в приведенных примерах растения связаны с погребениями «заложных» покойников, можно предположить, что их присутствие в средневековых псковских захоронениях также предназначалось для обезвреживания опасных мертвецов и направления их энергии в нужное русло, т. е. соответствовало языческому мировосприятию.
Любопытно, что нательных крестов, которые археологи считают свидетельством распространения христианства, по наблюдению Т. Д. Пановой и вопреки распространенным в научной литературе представлениям, в погребениях XI–XV вв. обнаружено крайне мало. Даже во второй половине XVI в. они имеются лишь в трети могил, что видно на примере Пскова. Окончательное же закрепление обычая похорон с крестиком прослеживается только в XVIII в.[558] Но, на наш взгляд, это явление отражает не столько масштабы христианизации страны, сколько степень проникновения христианской символики в погребальный культ.
Поведение родственников покойного после похорон также не отличалось приверженностью христианским установлениям и явно противоречило представлениям церкви о приличествующей случаю умеренной печали. Петрей сообщает, что они «идут домой, веселятся и радуются в память усопшего, тоже делают и на третий день после похорон, также на девятый и двадцатый день».[559] А некоторые поминальщики столь усердно провожали умершего в последний путь, что и сами отправлялись вслед за ним, провоцируя священников задавать вопрос о причине тяжкого недуга или даже смерти: «Или поминание творил, и в том дни сам палея?».[560]
Первый поминальный пир, судя по археологическим данным, мог совершаться прямо на могиле, если речь шла о курганном захоронении, и таким образом, продолжал древнюю традицию.[561]Третий, девятый и двадцатый дни маркировали этапы удаления умершего из мира живых и предполагали проведение специальных поминальных обрядов, исполняемых отчасти и по сей день. Правда, особое поведение на 20‑й день после похорон – полусороковины – носит локальный характер и встречается в основном в центральной России и у белорусов, в XVI в. отчасти попавших под власть русского царя в составе переходившего под его руку населения западно‑русских земель.[562]
Радость и веселье, отмеченные Петреем на поминках, исследователи обычно объясняют магическим характером смеха, способного попрать саму смерть. Так, представительница современной этнографии Е. Е. Левкиевская полагает, что «смеховые и эротические элементы в похоронном ритуале могут трактоваться, с одной стороны, как продуцирующие, призванные „восстановить“ жизнь в месте, отмеченном смертью, создать „противовес“ смерти. С другой стороны, ритуальный смех может рассматриваться как своеобразное „профилактическое“ средство, предохраняющее от возврата смерти в этот дом».[563]
Должны подчеркнуть, что поминки как таковые предполагают временный возврат покойного в родные пенаты, почему для него обычно ставилась вода для омовения и отдельный столовый прибор, о чем упоминает Чудовский список Слова св. Григория,[564] и приглашались плакальщицы. Но, судя и по другим обычаям, о которых речь впереди, печальное общение с усопшим сменялось веселым пиром оставшихся в этом мире его родных и близких. То есть умерший продолжал свой путь в царство теней, а живые устанавливали новую систему взаимосвязей, в которой уже не было места ушедшему В то же время нельзя забывать, что в нашем случае речь идет о Средних веках, когда были еще очень сильны традиции родового общества, предполагавшие наличие связи между предками и потомками. Только нормальное функционирование живых, продолжение человеческого рода, символом чего и являлся смех, обеспечивало существование навий. Прародители жили в наследниках, поэтому ритуальное веселье восстанавливало не только границу между мирами, но и нормальные отношения между ними. Именно такой смысл видел в поминальных трапезах в период траура и А. ван Геннеп.[565]
Помимо трех поминальных пиров, сопровождавшихся радостью и весельем, иностранные авторы упоминают также обряды 40‑го дня, завершавшие положенные траурные церемонии. Неизвестно, имели ли место в этот день смеховые элементы, так как единственное описание, сохранившееся от того времени благодаря запискам капитана Ж. Маржерета, ничего о них не говорит. Рассказывается лишь, что у простонародья вдова и друзья через шесть положенных для траура недель приносят на могилу еду и питье, которые съедают сами, а остатки после трапезы и плача раздают нищим.[566]
Хотя и сорокадневный траур, и милостыня нищим вполне укладываются в рамки христианского культа, но остальные составляющие поминального обычая указывают на его языческую подоплеку. Это и плач по усопшему, и перенос поминок из дома, где они проходили ранее, на могилу, что лишний раз подчеркивало завершение первой части переходного обряда, закрывавшей мертвецу путь на прежнее место жительства. Но центральное звено поминок 40‑го дня – трапеза. Как уже было показано, поедание, а точнее, пожирание жертвенной пищи предназначалось не для насыщения жертвователей или тех, кому посвящалась трапеза, а для перераспределения их совокупной доли при изменении численного состава обеих частей родового сообщества.
В данном случае речь идет об аналогичной ситуации, отличающейся только тем, что ряды людей не увеличивались, а сокращались. Поэтому остатки трапезы распределялись не между полноценными членами человеческого коллектива, причем способными к продолжению рода, как в обычае родиной каши, но между нищими, а согласно этнографическим свидетельствам, также чужаками и священниками, не имевшими своей доли в общем котле и занимавшими промежуточное положение между мирами яви и нави.[567] Посредническую функцию всех перечисленных выше лиц в поминании на могиле отмечают, например, Т. А. Новичкова и А. М. Панченко.[568]А. К. Байбурин же подчеркивает значение поминальной пищи как пищи мертвых,[569] остатки которой, в силу этого, не могут рассматриваться в качестве милостыни. К тому же О. Г. Оксле, опираясь на исследования М. Мосса, пришел к выводу, что в Средние века милостыня нищим исполняла роль социального дарения в контексте обычая обмена дарами, в данном случае – обмена между живыми и умершими.[570] Такое понимание обычая видно и из практики старообрядцев, у которых даже не явившимся на поминальную трапезу участникам похорон обязательно передавали их долю, чтобы обеспечить удачу покойному на том свете [571]. И хотя церковь пыталась придать данному элементу обряда христианское звучание, но его первоначальный смысл отчасти сохранялся и в XIX–XX вв., когда тайная милостыня приносилась не нищим или церкви, но оставлялась у колодца и попадала в руки неизвестного жертвователю лица.[572]
Что же касается обычая отдавать жертвенную долю нищим, то он существовал уже в дохристианскую эпоху. Еще в 1891 г. В. Томсен обратил внимание на то, что в описании Ибн Фадлана лишь часть мяса, приносимого в X в. русами‑торговцами идолам в надежде на успешную торговлю, предлагалась истуканам, другая же часть раздавалась беднякам.[573] Точно так же в XIX в. в Тульской губернии при открытии ярмарки хозяева ради хорошей торговли забивали обещанную скотину и раздавали мясо нищим, а в Вятской губернии в целях обеспечения размножения гусей лучшего гуся обещали подать нищим с блинами в Дмитриевскую родительскую субботу[574](т. е. в поминальный день). Кроме того, дарение нищему повсеместно считалось наиболее надежным способом передачи чего‑нибудь покойному, наряду с передачей через другого мертвеца при его похоронах.[575] Таким образом, и в древности, и в Новое время нищие непременно включались в число получателей части жертвенной трапезы наряду с богами или душами умерших, тем самым лишаясь права претендовать на долю полноценных членов общества.
В связи с вышесказанным мы не можем согласиться с А. К. Байбуриным, считающим, что «поминальную трапезу можно рассматривать как распределение доли покойного между живыми. Такая доля не имеет значения при жизни, но становится весьма значимой после смерти. Ее смысл выражен в… ситуации первой встречи, когда от имени покойного первому встречному дается хлеб или холст».[576] Доля умерших никак не могла принадлежать живым и должна была переправляться на новое место обитания владельца, где происходило ее перераспределение среди членов навьего мира. Для посмертного существования мертвеца она действительно имела большое значение, обеспечивая его место в новом сообществе. Потому и передать ее следовало в момент прибытия покойного на место назначения (на 40‑й день) через посредников, роль которых мог играть первый встречный, как в приведенном А. К. Байбуриным примере, или нищие, как в сообщении Ж. Маржерета.
Трапеза, употреблявшаяся на могиле родственниками умершего и частично раздававшаяся нищим, и служила символом выделения доли покойного, окончательным расчетом с ним, так как теперь его участие в пиршестве живых предполагалось лишь вместе с другими навьями в отведенные для этой цели календарные сроки или при очередном перераспределении общей доли. В подобном контексте утверждение А. К. Байбурина о том, что окончательный раздел происходит уже при выносе гроба из дома, чтобы удалить вместе с ним все, имеющее отношение к смерти,[577] представляется недостаточно обоснованным.
Еще менее обоснованным выглядит тезис Г. Ловмянского, согласно которому монополия христианства в области эсхатологической доктрины уже к XII в. перечеркнула возврат масс к групповой религии.[578] Разобранные нами свидетельства, в том числе в отношении поминальной трапезы, со всей очевидностью показывают сохранение в рамках погребального культа именно групповых форм, поскольку соблюдение похоронных ритуалов оказывало влияние на жизнь общества в целом, а не только на судьбу отдельного мертвеца.
Рассмотренное здесь сообщение Ж. Маржерета заставляет обратить внимание еще на одну особенность русских погребально‑поминальных обычаев, подтверждающих ту, уже отмеченную нами, большую роль, которую играли в них женщины. Нужно сказать, что далеко не везде место женщины в заупокойных ритуалах было столь велико. Например, в Афинах в V–IV вв. до н. э. учредителями культов в честь умершего обычно были мужчины.[579] На Руси же во всех поминальных обрядах по мужчине (и народных, и церковных) – трапезе на могиле и дома, кормлении нищих, вкладах в церкви и монастыри и кормлении церковной братии, место руководителя занимала вдова. Такой обычай существовал на Руси еще с языческих времен. Русские летописи донесли до нас известие о поминальнальном ритуале, проведенном княгиней Ольгой по убитом древлянами муже. Великородная язычница пришла в древлянскую землю с огромным войском и согласно языческому обычаю кровной мести уничтожила виновных в смерти князя искоростеньцев, а затем устроила тризну и поминальный пир на могиле Игоря с принесением человеческих жертв.[580]
Разумеется, обрядовая практика правнучек великой княгини не могла исполняться по тем же законам – они были христианками. Но сохранилась главная черта древнего обычая – ведущая роль вдовы, правда, только в том случае, если она оставалась членом семьи своего умершего супруга, что было возможно, только если за время замужества у нее появился ребенок.[581] Если же женщина вторично выходила замуж или постригалась в монастырь, она порывала связи с мужниным родом, и указанные обязанности переходили к его ближайшим родственникам.[582] Следует оговориться, что последний вывод мы делаем на основании источников, отражающих быт высших слоев общества, а не простонародья, о поведении которого в подобных случаях информация отсутствует.
Завершая разговор о похоронных ритуалах, совершавшихся над обычными мертвецами, необходимо подчеркнуть, что вопрос о происхождении сроков индивидуального поминовения – на 3‑й, 9‑й, 20‑й и 40‑й дни после смерти – мы намеренно оставили за рамками данной работы в силу его объемности и дискуссионности. Вместе с тем считаем необходимым отметить неубедительность выводов ряда авторов о сугубо христианских, эллинских, иудейских или даже тюркских источниках появления этих сроков,[583] поскольку есть данные об очень давнем их существовании в местной среде. В частности, в V в. до н. э. «отец истории» Геродот писал об обычае скифов перед погребением умершего простого звания возить его тело в течение 40 дней по местам, где он бывал при жизни, с раздачей угощения тем, кто его знал.[584] Таким образом, сорокадневное поминание было известно на территории Восточной Европы, по крайней мере, за две тысячи лет до изучаемой эпохи.
Кроме того, поминки 9‑го и 40‑го дня вовсе не были повсеместными для христианских стран, на Западе, по наблюдениям Л. Штайндорфа, практиковался ритм 3‑го, 7‑го и 30‑го дней.[585] Так что при выборе тех или иных поминальных сроков в разных культурах существенную роль играли как раз дохристианские традиции, получавшие новое, основанное на евангельских текстах, объяснение со стороны церкви. Например, автор Дубенского сборника XVI в. утверждал, что третины творят в честь трехдневного воскресения Христа, девятины – в воспоминание усопших, а сороковины – по ветхозаветной традиции поминовения Моисея.[586]
Календарные обряды
Возвращаясь к вопросу об общих поминальных днях в честь предков, мы должны отметить, что в этом плане памятники XV–XVI вв., как принято считать, акцентируют внимание на весеннелетних месяцах годового цикла. И все поминальные обычаи данного периода оказываются так или иначе увязаны с церковным календарем, хотя и включают в себя целый ряд архаических ритуалов. Речь идет о Великом четверге, Радунице и Троице.
Исследователи объясняют весеннюю концентрацию поминальных дат пробуждением природы после зимней спячки. Вместе с природой пробуждались, согласно Б. А. Успенскому, и обитатели потустороннего мира, выходившие на землю на весенне‑летний период. Названный автор даже нашел подтверждение своей идеи в источниках рассматриваемого нами времени. Он обратил внимание, что предание о далеком царстве, где люди умирают на зиму и воскресают весной, зафиксировано у русских еще в XVI столетии благодаря свидетельствам Герберштейна, Гваньини, Рейтенфельса и др.[587] Выход навий на божий свет заставлял живых позаботиться как о собственной безопасности, так и о будущем достатке, воздав мертвецам приличествующие случаю почести. Ведь, как полагает А. К. Байбурин, «в соответствии с традиционными представлениями урожай, приплод скота и другие ценности поступают в мир людей из мира мертвых. Все это – дар предков, предполагающий взаимность», для чего и существуют календарные поминальные дни, на которых предки выступают единой безликой массой.[588]
Весеннее почитание предков, с этой точки зрения, как нельзя лучше могло обеспечить преобладавшее на Руси крестьянское общество природными дарами, поскольку цикл сельскохозяйственных работ в обозначенное время только начинался. Помощь или помехи, чинимые бродившими по белу свету душами, могли оказаться решающими для его конечного результата. Поэтому, по мнению этнографов, крестьяне и спешили встретить просыпавшихся на страстной неделе предков во всеоружии, совершая действия, описанные в 26‑м вопросе Стоглава из числа дополнительных: «А великий четверг по рану солому палят, и кличют мертвых… И о том ответ. Заповедати в великий бы четверг порану соломы не палили, и мертвых не кликали…, понеж такова прелесть эллинская и хула еретическая».[589]
Жжение соломы и кликание мертвых являются, по представлениям ученых, составными частями одного обряда, направленного на предков. Но при этом, например, Д. К. Зеленин подчеркивал, что паление соломы рассматривается в Стоглаве как суеверие исключительно в связи с кликаньем мертвых, придающим ему ритуальное значение.[590] Должны отметить, что солома в принципе имела несомненное отношение к культу мертвых. Так, Б. А. Рыбаков пишет: «солома применялась в первобытных кострищах‑зольниках и в погребальных кострах курганов».[591] И. П. Калинский обратил внимание на обычай полагать умершего на солому в доме.[592] Соломой выстилали и дно гроба.[593] Если же сравнить названные факты с обычаем покрывать соломой пол на Новый год перед заклинанием будущего урожая ржи [594] и с сожжением соломенных кукол на поле по весне,[595] то становится очевидным продуцирующее назначение вызревших стеблей злаков – они должны были передать остатки своей силы умершему, способствовать его воскресению.
Вместе с тем четверговый костер мог разжигаться не только из соломы, что видно на примере Чудовского списка Слова св. Григория, сообщающего: «…И сметье у ворот жгут в великой четверг молвящ тако у того огня душа приходяще огреваются».[596] Сметье – это мусор, старье, сожжение которого обеспечивало приход нового и переносило на него неиспользованный запас сил того, что уничтожалось. Не случайно весенние «пожары» предполагали в качестве горючего материала старые, негодные вещи, пепел которых разбрасывался по полям или закапывался в землю в преддверии ожидавшегося урожая [597]. Другими словами, обновляющий характер обряда сохранялся и в случае сожжения сметья, отнюдь не исключавшего солому.
Сам Д. К. Зеленин изучил данный фрагмент в контексте обычая «греть покойников» на зимних святках, когда крестьяне разжигали во дворах костры из соломы и навоза, иногда вставая вокруг огня в хоровод. Поступая подобным образом, они полагали, что тем самым отогревают души усопших и обеспечивают будущий урожай яровой пшеницы.[598] Т. А. Агапкина отмечает, что этот обряд имел место как в рамках похоронного ритуала (например, у сербов после погребения несколько дней не гасили огня, чтобы отогревалась душа умершего), так и в дни выхода предков на землю. Так, у славянских народов повсеместно в один из святочных вечеров сильно топилась печь, а на Украине сжигался сор во дворе. На Балканах же и в Карпатах обычай приурочивался к весеннему выходу предков на землю и сопровождался кормлением дедов.[599] Д. К. Зеленин указывал также на существование других вариантов согревания родителей – в Дорогобуже это делали накануне Радуницы и вторника Фоминой недели, т. е. через 10 дней после Страстного четверга, причем возжжение огня осуществлялось в поле и сопровождалось прыжками через пламя и играми.[600] Напомним, что в поле, согласно Александру Гваньини, принято было хоронить так же, как и в лесу[601].
На Руси костры для умерших приурочивались к страстной седмице, что, по мнению И. П. Калинского, нашло отражение в старинной веснянке, в которой пелось: «На белой неделе пожары горели»[602](эти слова могут быть связаны совсем с другими пожарами – очистительными, о которых шла речь в предыдущей главе, и которые не имели отношения к навьям). Стоглав однозначно фиксирует возжжение соломенных костров в Великий четверг. Это существенно, так как современная исследовательница Т. А. Агапкина пришла к выводу, что в эпоху Стоглава Великий четверг у всех славян отмечался в качестве поминального дня. Свидетельством того служит упоминание костров для отогревания выходящих на землю душ покойников в Чудовском списке Слова св. Григория, в проповедях польского священника Михаила из Яновца (костры жгут на кладбище), в описании трансильванских обычаев конца XVI в.[603]
Столь единодушное разжигание огня для мертвецов в день, предшествующий распятию Христа, заставило этнографов предположить глубокую архаичность обычая и даже искать его связь с языческими божествами. Так, например, Д. К. Зеленин полагал, что в древности на день, соответствующий христианскому Великому четвергу, мог когда‑то падать тотемный праздник с возжжением костров, пережитки которого он видел в обычае выкармливания/высматривания домового,[604] принадлежавшего миру духов. Б. А. Успенский обнаружил соотнесенность обрядов Великого четверга с культом древнего славянского бога Волоса – покровителя скота и властителя царства мертвых, что, по его мнению, «особенно отчетливо проявляется в специальных обрядах, связанных с золой и пеплом…».[605] По словам названного автора, знаменательно также то, что «производимая в этот день обрядовая „окличка“ мертвых… находит формальное и функциональное соответствие в „окличке“ домашних животных, когда в страстной четверг хозяйка кличет скотину по именам в печную трубу, а хозяин, стоя снаружи, отвечает за них…».[606] Таким образом, выкликаются все подвластные Волосу существа – и скот, и предки.
В отличие от Б. А. Успенского мы не склонны видеть в четверговых обычаях проявления культа Волоса (как, впрочем, и предположенного Д. К. Зелениным тотемного праздника). Но сделанное исследователем сравнение оклички домашних животных и навий, на наш взгляд, заслуживает внимания, тем более, что, по этнографическим данным, словесная формула в обоих случаях была сопряжена с использованием огня либо дыма.
Ритуальное употребление огня в Великий четверг мы уже рассматривали в связи с очистительными обрядами, которым подвергали себя люди. Здесь же аналогичная процедура производилась в отношении миров, тесно связанных с человеческой культурой. Не случайно окликался и окуривался домашний, окультуренный людьми скот, но не дикие животные, возрождавшиеся к новой жизни естественным путем, вместе с не освоенной человеком природой. Впрочем, кликание диких зверей для обеспечения всезверия и соответственно удачной охоты, также известно в этот день, но, разумеется, без окуривания.[607] Людям (бывшим и настоящим) и прирученным ими животным требовалось пройти через специальные обряды, позволявшие оказаться в новом пространстве‑времени. Поскольку в социокультурном пространстве ведущая роль принадлежит человеку, то именно живущие члены родового коллектива призывали к участию в ритуале остальных его адресатов и создавали необходимые условия для совместного преодоления границы между стариной и новизной.
Такова языческая составляющая упоминаемого Стоглавом четвергового паления соломы и кликания мертвых. Однако данный обычай имеет под собой и христианскую основу, которая, как правило, проходит мимо взоров ученых. Считаем необходимым особо остановиться на этом вопросе, чтобы более четко развести языческие и христианские черты народного обычая.
Как уже отмечалось выше, весенние почести предкам на Руси и в других славянских странах обнаруживают приуроченными к Великому четвергу. Подобную привязку языческого обряда к церковному календарю объясняют культовым значением четверга в дохристианских воззрениях славянских народов (хотя это значение имеет лишь косвенные подтверждения), либо тем, что тот весенний день, на который приходилось общение миров, оказался вытеснен Страстным четвергом по мере укрепления христианства.[608]
Вместе с тем в рамках христианского учения Великий четверг является днем, предшествующим распятию и смерти Спасителя, на которую он пошел ради искупления человеческих грехов и дарования людям вечной жизни. Этот день маркировал перелом в ходе Великого поста, так как смерть Христа означала его скорое воскресение, к которому, с точки зрения народа, следовало подготовиться не только людям, но и навьям. Поэтому население тщательно перемывало все что можно, мылось и топило бани для покойных. Не случайно и сам Страстной четверг получил прозвание чистого. Именно теперь происходило очищение от следов смерти, парализовавшей все живое на время Великого поста. Такое понимание полуторамесячного воздержания в XVI в. зафиксировал Даниил Принтц, объяснявший обычай взаимного прощения в последний день масленицы тем, что на время Великого поста люди как бы умирают для мира.[609]Тот же смысл прощания друг с другом и с предками, аналогичного прощанию с умершим, подчеркивают и современные авторы.[610]С момента распятия Спасителя земная смерть отступала в прошлое, а впереди всех очистившихся от скверны инобытия ждало воскресение вместе с Христом.
Таким образом, получается, что христианская по своей сути подготовка к празднованию Пасхи подверглась переосмыслению в свете языческого восприятия окружающего мира и способов его преобразования. Народ приспособился к христианскому культу, введя в него новый элемент для того, чтобы обеспечить совместное возрождение членов родового коллектива в новом годовом цикле. Это идущее снизу творчество не осталось незамеченным духовенством, которое на соборе 1551 г. объявило искажавший смысл православия обычай не только «прелестью эллинской», но и «хулой еретической».[611]
Совмещение христианских и языческих идей в обрядах Великого четверга подтверждается и другим памятником XVI в. – Словом «О посте к невежам…», гласящим: «В святый великий четверток поведают мрътвым мясо и млеко и яйца. И мылница топят. И на печь льют. И попел посреди сыплют слада ради и глаголють мыитеся. И чехли вешают и убруси и велят ся терети. Беси же смиются злоумию их. И вълезте мыются и порплются в попели том. Яко и кури след свои показают на попеле на прельщение им и трутся чехлы и убрусы теми и проходят топившеи мовници и глядають на попеле следа и егда видят на попели след и глаголють приходили к нам навья мытся»[612] (церковные требники подтверждают сохранение описанного обычая и в XVII в.[613]).
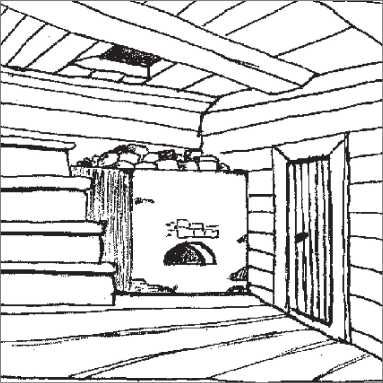
Баня – место проведения переходных обрядов (из книги Л. Нидерле).
Уже первая фраза приведенного фрагмента указывает на связь описанного обычая с христианским ожиданием пасхального разговения. Н. И. Зубов ошибочно решил, что готовящие баню и скоромную еду для предков в Великий четверг нарушали правила соблюдения поста.[614] На самом деле в Слове сказано, что православные «поведают», т. е. обещают мертвецам скоромную пищу – мясо, молоко и яйца, запрещавшиеся к употреблению во время Великого поста. Это хорошо видно из заключительных слов о мови навьям: «…Еже та мяса приповедають мертвым в четверток, и паки скверное то приповедание в воскресение господне ядят сами».[615] Н. М. Гальковский также пришел к выводу, что в бане люди лишь предлагали мертвым скоромное, а не съедали его в их честь, так как даже по более мягкому Студийскому уставу мясо разрешалось употреблять не раньше Светлого воскресения.[616] Но заготавливали пасхальные кушанья, как мы уже отмечали в предыдущей главе, именно в четверг.
Ошибочным представляется и толкование В. Й. Мансиккой слова «проповедати», для которого исследователь с удивлением отмечал необычное употребление в значении жертвования, а не предсказывания или объявления.[617] Контекст памятника не дает оснований считать, что речь идет о жертве, а не об обещании трапезы.
Любопытно, что автор поучения утверждает от имени бесовнавий, что им обеспечены не только мясо, молоко, яйца, но и выпечные изделия, и хмельные напитки, которые, однако, вовсе не были обещаны.[618] Схожий набор приношений предкам – «пироги и яйца надгробные» – упоминается в письме Иоанна Вишенского, написанном около 1597 г. острожскому князю.[619] Поэтому можно считать, что умершим предназначались как мясо‑молочные, так и мучные продукты и спиртное. Но для получения «поведанного» покойные должны были омыться, очиститься, так же, как делали это люди – в мовнице, как нередко называли на Руси баню.
Упоминавшийся выше Чудовский список Слова св. Григория разъясняет, что при приготовлении бани мертвецам живые мылись и сами, а помывшись, целовали перт (печь) и кланялись, после чего покидали мовницу.[620] Получается, четверговая баня не специально топилась для навий, но оставлялась им после омовения людей, так же как оставлялась позднее после каждого похода в мыльницу четвертая смена пара, опасная для обычного человека.[621] Вместе с тем этнографические данные показывают, что в разных местах правила ритуальной бани мертвецам могли отличаться. Например, на Русском Севере баню для умершего могли топить в день похорон, накануне поминок 9‑го, 20‑го и 40‑го дня, причем в одних местах считалось, что покойный моется вместе с живыми или перед ними, а в других баню готовили только для него.[622] Не исключено, что и для четверговой бани рассматриваемого периода существовали разные варианты.
Полагаем, нет необходимости считать обычай оставления бани для духа заимствованием из похоронных обрядов, как это сделал И. С. Вахрос,[623] хотя этнографические материалы и позволяют говорить об идентичности четвергового творения мови навьям банным обрядам, проводившимся на поминках. Кстати, явное сходство этих ритуалов показывает несостоятельность утверждения Б. А. Рыбакова о том, что навьи были не предками, а чужими мертвецами, или, как думал А. И. Соболевский, вообще злыми духами.[624] Банное пространство в принципе осмыслялось в качестве пограничного, и встреча миров здесь была неизбежна. А потому к ней следовало тщательно подготовиться, а затем удостовериться, что все прошло, как задумано. Лишь увидев следы навий на пепле, люди, согласно Слову об идолах, «отходят, поведающе друг другу, и то все проповеданное сами ядять пиють», но не в четверг, как можно было бы подумать, а в воскресенье – на Пасху,[625] так как разговляться до совершения церковных служб по случаю Христова воскресения православным запрещалось. Поэтому покойники получали обещанную жертвенную пищу лишь через несколько дней после омовения, когда ее поедали, а точнее, пожирали хозяева дома.
Интересно отметить, что один из исследователей русского язычества Е. В. Аничков, комментируя сообщение распространенного в XIV–XVII вв. Слова некоего христолюбца и ревнителя по правой вере о трапезе Роду и роженицам, предположил, что она либо просто оставлялась после обеда людей, либо вносилась в баню, которая служила местом отправления культа предков, как в древности, так и в начале XX в.[626] С этой точки зрения получается, что отклад от пасхальной снеди в пользу навий являлся таким же нарушением, как и освящение незаконной рожаничьей трапезы тропарем Богородицы. Впрочем, четверговый скором также приносился в церковь для освящения накануне Светлого Воскресения, что видно, например, из 35‑го вопроса 5‑й главы Стоглава.[627]
Таким образом, очевидно, что описанный здесь обычай также совмещал в себе как языческие, так и христианские традиции. Вместе с тем поучение включает черту, находящую объяснение только в языческой культуре – пепел, который, как уже отмечалось, Б. А. Успенский считает признаком культа Волоса.[628] Мы не разделяем подобной уверенности насчет Волоса, но вот к культу предков и потустороннему миру как таковому пепел, зола имели самое прямое отношение. В частности, общеизвестны русские девичьи гадания в ночь под Новый год, при которых в избе или бане сеяли золу и звали суженого ступить на нее, а утром по оставленному духом следу судили о будущем женихе.[629] Т. А. Новичкова обратила внимание на способность пепла к оборачиванию золотом и к возрождению в виде плодов в случае его предания земле.[630] В Вологодской губернии пепел из кадила считали хорошим средством для провокации беременности,[631] т. е. тоже видели в этой субстанции порождающее начало. Интересная параллель банному обычаю известна в Курской губернии, где на Радуницу и в Дмитровскую субботу в красный угол вешали полотенце, на котором умершие оставляли черный след.[632]
Исходя из текста рассмотренного выше памятника церковноучительной литературы и из этнографических данных, можно сделать вывод о том, что в глазах простых людей пепел служил чем‑то вроде телесного признака навий и духов. Поэтому только на нем можно было обнаружить следы присутствия мертвецов, возрождавшихся после зимней смерти/спячки.
В то же время для автора поучения народная вера в возможность прихода умерших на землю даже по случаю Пасхи являлась ложной, противоречащей христианскому учению. Не случайно популярный на Руси, в том числе в XVI в., новозаветный апокриф «Хождение Богородицы по мукам», утверждавший, что Христос даровал томящимся в аду грешникам отдых от мук на период от Великого четверга до Пятидесятницы, был включен церковью в число отреченных книг.[633] Распространенность этого апокрифа лишь укрепляла уверенность прихожан в необходимости топления четверговой бани для обитателей потустороннего царства. Чтобы разъяснить пастве ошибочность этих представлений, церковь переводила их на язык христианской символики. И тогда получалось, что не навьи навещают своих потомков в моменты общих родовых празднеств, но бесы смеются глупости людей, принимающих их проказы за знаки прихода предков и тем самым отдаляющихся от Царства Божия.
Схожее представление о мнимости прихода предков, за образом которых скрываются бесы, отражено в единственном списке поучения против медоварцев из сборника западнорусского происхождения, датируемого второй половиной XVI в.:«…ачто ставят медоварцы по гридням их на ночь питье ложачися спати, аркучи то: мертви наши пришед изопьють. А беси ими блазнять въяве, им мечты творят, и ведут их в пагубу, да быше не веровали завпокойщину…».[634]Было ли это ночное поставление медов приурочено к какому‑то конкретному времени, не ясно. Но для церкви оно являлось столь же неприемлемым, как и другие обычаи, связанные с верой в возможность прихода умерших к живым.
Завершая разговор об обрядах Великого четверга, считаем нужным подчеркнуть неосновательность общепринятого мнения о нем как о сугубо поминальном дне. Установление связи с предками в данном случае не являлось самоцелью, но представляло собой часть единого ритуального комплекса. Поэтому мы не обнаруживаем в этот день характерных для поминок форм поведения, в частности, переходящего в смех плача, которые, однако, имеют место в другие посвященные общению с усопшими даты – Радуницу и Троицу. Это одна из причин, по которой мы не можем согласиться с авторами, полагающими, что наблюдаемые у русских, финнов и чувашей радуницкие обряды представляют собой не что иное, как перенос поминок с Великого четверга. Сохранение бани для мертвых в канун Радуницы, отмечаемое, например, у жителей села Копалкино Пермской губернии, не может служить доводом в пользу приведенной точки зрения, так как семантика бани как переходного пространства вполне укладывается не только в обычаи Страстной недели, но и в практику общения с предками как таковую. Схема же проведения Радуницы, скорее, напоминает троицкие, нежели четверговые обряды, из‑за чего ученые нередко считают их равнозначными.[635]
Радуница составляла следующее звено того ритуального комплекса, который начинался в четверговой бане. Это видно из того факта, что автор слова «О посте к невежам в понеделок второй недели» объединил критику проведения Великого четверга и Радуницы как навьих дней. Н. И. Зубов подчеркивает, что данное поучение было призвано показать прихожанам, что на радуницкой неделе следует праздновать воскресение Христа, а не поминать умерших, поскольку «от субботы же Лазоревы не несуться просфоры ни кутья за упокой».[636] Таким образом, проповедник либо не понимал, либо, скорее, сознательно искажал суть радуницкого почитания мертвых, которое совершалось населением не «за упокой», а во имя воскресения.
«Радуницей усопших» назывался вторник второй после Пасхи Фоминой недели, что подтверждает Тверская летопись под 1493 г.[637]Видимо, слово «О посте к невежам…» предполагалось к чтению в понедельник этой недели именно для того, чтобы предостеречь паству от нежелательного поведения на следующий день. Само по себе поминание умерших во вторник, а не в субботу, по замечанию Л. Штайндорфа, необычно для православной традиции и может указывать на языческое происхождение праздника.[638] В памятниках конца XV–XVI вв. особенности проведения Радуницы отражены очень плохо. Так, например, Стоглав глухо заявляет: «А о велице дни окличка на радуницы в юнець, и всякое в них бесование. И о том ответ. Что бы о велице дни оклички на радуницы не было не творили, и скверными речми не упрекалися…».[639] Сообщение соборных постановлений столь обтекаемо, что исследователи часто не знают, к чему его отнести – к воплям ли по покойникам, которые, согласно этнографическим материалам, в этот день устраивались русскими на кладбище (из‑за чего некоторые авторы производят его название от лит. rauda – жалоба, плач, родственного русскому «рыдать»[640]); к окликанию ли весны, которое могло происходить в разные сроки, но в том числе и на Красную горку – в Фомино воскресенье; или к окликанию молодоженов, также происходившему на Радуницкой неделе.[641]
В. К. Соколова решила эту дилемму весьма своеобразным способом, объяснив содержание приведенного выше 25‑го вопроса, исходя из брачной обрядности; радуницкое же хождение на кладбище она без каких либо оговорок проиллюстрировала 23‑м вопросом, описывающим троицкие обычаи.[642] Так же, впрочем, поступили И. П. Калинский и С. В. Максимов.[643] Вероятно, авторы исходили из той же порожденной этнографическими данными идеи, которую высказал на этот счет В. Я. Пропп: «То, что Стоглав сообщает о Троицкой субботе, в равной степени относится к навьему дню и Радунице, когда поминальные обряды достигали своего апогея».[644] Схожесть названных обычаев Л. А. Тульцева объясняет не взаимным переносом обрядов, который «противоречит психологии патриархального мышления, не позволявшего нарушать границы сакрального времени»,[645] а необходимостью повтора ритуальных действий, посредством чего подчеркивается их цикличность.[646] Мы склонны согласиться с данной точкой зрения, хотя полная идентичность радуницких и троицких празднований мнима – ее не показывают ни исторические, ни этнографические памятники.
Как бы там ни было, но в прошлом радуницкий понедельник или вторник называли навьим днем, что указывает на самодостаточность приходившихся на него поминальных обрядов.[647] Название Радуницы навьим днем регистрируется в Подмосковье, а в форме навьи проводы – в Курской, Орловской, Брянской и Калужской губерниях и в Полесье (здесь оно могло относиться не только ко вторнику Фоминой недели, но и к пасхальному четвергу, и к Семику).[648] В фоминский вторник русские люди шли на могилы оплакивать и угощать предков, христосоваться с ними (причем согласно Киево‑Печерскому патерику, в 1463 г. усопшие святые ответили на христосование), а затем до глубокой ночи предавались играм, аналогичным троицким.[649]
По данным этнографии, христосование с умершими во многих русских местах происходило в первый день Пасхи, а на Севере обычно в понедельник или вторник Фоминой недели, но в некоторых местах на кладбище ходили и на Пасху, и на Радуницу.[650]Христосование, безусловно, являлось следствием православного влияния. Мы имеем в виду обмен словесными формулами «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», о котором, на наш взгляд, собственно, и ведется речь в сообщении Стоглава, утверждающего, что на Радуницу происходили оклички «о Велице дни», как называли Пасху (именно на Радуницу, а не в само Светлое Воскресенье, как думал И. М. Снегирев[651]). Вместе с тем пасхальные поздравления мертвым, да еще производившиеся после окончания Светлой недели, вряд ли имели отношение к христианству. Полагаем, радуницкие оклички являлись своего рода проверкой, на месте ли предки.
Не случайно внезапный переход от плача к смеху на Радуницу В. Я. Пропп считал необходимым для воскресения природы и божества, показывающим, что мертвые на самом деле не умерли.[652]Мы придерживаемся на этот счет другого мнения, но думаем, что Радуница действительно служила выявлению усопших в новом временном пространстве, подтверждала удачность их перехода, чему и следовало радоваться. Относительно же перерастания поминальных причитаний в веселье считаем нужным вновь обратиться к выводу А. К. Байбурина о том, что демонстрация жизни в присутствии смерти имела целью разведение двух сфер – пассивной и активной, указывая пределы каждой из них.[653] Недаром в Вологодской губернии на Радуницу «девушки и женщины плакали и причитали у могил тех, кто ушел из жизни недавно»,[654] а значит, не имел еще точного места приписки.
Что касается трапезы на могилах, то ее смысл уже был подробно рассмотрен на примере поминок 40‑го дня и приношений Роду и роженицам. Он заключался в переделе доли. Только в данном случае речь шла о той новой совокупной доле, которую предки и потомки получили при вступлении в очередной природный цикл. (Любопытно, что В. К. Соколова поминальный пир на могилах тоже сравнивает, но в другом контексте, с поставлением второй трапезы Роду и роженицам из церковных поучений, считая этот незаконный, с точки зрения церкви, обед «общей основой ритуала пасхального поминовения усопших».[655])
Несколько сложнее обстоит дело с троицкими обрядами, описание которых в 23‑м вопросе 41‑й главы Стоглава практически полностью соответствует этнографическим свидетельствам о праздновании Радуницы и Троицы: «В Троицкую суботу по селом и по погостом сходятца мужи и жены на жальниках и плачютца по гробом с великим кричанием, и егда начнут играти скоморохи гудцы и прегудницы, они ж от плача преставше начнут скакати и плясати и в долони бити и песни сотониньские пети на тех же жалникех оманщики и мошеники. И о том ответ. Всем священником по всем градом, и по селом чтобы детей своих духовных наказывали и поучали в кое времяна родителей своих поминали, и они бы нищих покоили и кормили по своей силе. А скоморохом же и гудцом, и всяким глумцом запрещали и возбраняли, чтобы в те времена, коли родителей поминают православных крестиан, не смущали [и не прелщали] теми бесовскими играми».[656]
Из приведенного фрагмента следует, что во времена Стоглавого собора Троицкая суббота отмечалась церковью, как и другие родительские субботы, а вовсе не была объявлена таковой впоследствии для ликвидации нежелательных народных обычаев, как полагает И. А. Кремлева.[657] Несмотря на это, критиковавшиеся собором обычаи были характерны и для XIX – начала XX в., за исключением участия скоморохов, к ведущей роли которых в некоторых ритуалах XVI столетия мы еще вернемся в другом месте. Здесь же обратим внимание на тот факт, что в отношении Троицы не идет речи об окличке – только о плаче и играх, которые в то же время не находят отражения в сообщении Стоглава о Радунице. Напомним, что ритуальное сквернословие, также как и оклички, могло относиться к другому обряду и вовсе не обязательно сочеталось с причитаниями, песнями и плясками. Поэтому нельзя с уверенностью говорить о существовании идентичности радуницких и троицких обрядов в рассматриваемую нами эпоху.
Кроме того, весеннее поминание предков могло иметь региональные отличия, связанные с разными сроками смены сезонов. По крайней мере, этнографам такие отличия известны. Так, В. К. Соколова отмечает, что посещение могил на Троицу было характерным преимущественно для северорусских областей, где не прослеживаются девичьи обряды завивания березки и кумления, причем хождение на кладбище в этот день было принято здесь больше, нежели на Пасху. Пришедшие «опахивали», «парили», т. е. обметали могилы березовыми ветками, а затем втыкали их в насыпь и оставляли на ней венки. Здесь же устраивали трапезу и веселье.[658] Возможно, в Стоглаве нашел отражение именно северорусский вариант обычая, поскольку никаких других особенностей празднования Троицы, кроме посещения кладбища, памятник не упоминает.
В любом случае трапеза на могилах и ритуальное веселье Троицкой субботы имели тот же смысл, который мы отметили, разбирая радуницкую обрядность, – разведение двух миров, передел совокупной доли родового сообщества. Однако нельзя не обратить внимания на отличие поминания усопших на Радуницу и Троицу не только от обрядов Великого четверга, но и от поминок, совершавшихся в день похорон и на 3‑й, 9‑й и 20‑й дни после них. Последние проводились в доме умершего, тогда как первые переносились на могилы, принадлежавшие в большей мере миру нави, нежели яви. Это сближает радуницкие и троицкие обряды с поминками 40‑го дня, когда живые также вступали во владения смерти. Но если в последнем случае покойный получал причитавшуюся ему часть для нормального устройства в мире теней, то во время ежегодного весеннего почитания предков мы сталкиваемся совсем с иной ситуацией. Поэтому в отличие от поминок 40‑го дня трапеза на могилах перерастала в пляски и пение. Только теперь они имели иное назначение, чем на обычных поминках в доме, – не показать мертвецам, что им нет места среди живых, а спровоцировать их возрождение в новом качестве.
Исследования, посвященные представлениям архаических народов о посмертном существовании души, показывают, что некогда повсеместно бытовало убеждение в своеобразном переселении душ в животных и растения.[659] Н. А. Криничная, изучив северорусские травники XVIII–XIX вв., пишет по этому поводу: «Неслучайно царь‑трава прорастает из ребер лежащего под ней человека, вобрав в себя его плоть и душу: ведь ребро, согласно древним верованиям, как раз и является одним из вместилищ жизненной силы, или души».[660]О наличии подобных представлений в Древней Руси позволяет говорить и содержание некоторых русских народных сказок, где новая жизнь предполагается обычно в растительной форме яблони или ракитового куста. Правда, Д. К. Зеленин подчеркивает, что в сказках чудесное растение вырастает лишь на могилах «заложных», т. е. преждевременно умерших покойников,[661] о которых речь пойдет ниже.
Этнографы обнаруживают также связь весенне‑летнего почитания предков с вегетативным периодом развития растений, прежде всего злаков, которые зацветают как раз около празднования Троицы. Не случайно, по народным поверьям, после Троицы русалки, в которых ученые дружно усматривают покойных, бегают по полям и лесам и способствуют или препятствуют росту хлебов и льна, после чего люди провожают их в рожь, где они и поселяются,[662] причем болгары полагают, будто русалки приходят, чтобы напоить поля влагой и опылить колосья.[663]
По нашему мнению, троицкое почитание предков не только маркировало завершение шестинедельного перехода в новую временную реальность (поскольку пасхальная неделя считалась за один день), но и призвано было способствовать возрождению усопших в растениях, прежде всего зерновых. Именно поэтому на могилы приглашались скоморохи, способные своей игрой вызвать не только продуцирующий магический смех, но и пляски эротического содержания, имевшие то же назначение. А. А. Морозов также пришел к выводу, что приглашение скоморохов для участия в троицких и семицких обрядах на жальниках имело целью попрать смерть и обеспечить воскресение умерших.[664] Правда, об участии гудцов и глумцов в семицких обрядах источники ничего не сообщают, это домыслы исследователя.
Семик, согласно этнографическим материалам, тоже предполагал посещение могил, прежде всего «заложных» покойников, с обрядами, аналогичными троицким.[665] Но памятники XV–XVI вв. не дают нам о нем никакой другой информации, кроме нескольких летописных сообщений 1474, 1521 и 1561 гг. о хождении москвичей и псковитян на скудельницы, «иже имеють гражане на погребение странным», а вовсе не «заложным», «мертвых проводить»,[666] причем о каких‑то особых языческих обрядах применительно к этому дню, вопреки мнению А. И. Алексеева,[667] летописи не говорят.
Не говорит о них и иезуит Джованни Паоло Кампани, утверждавший, что в Московии «в мае месяце два дня поминают умерших, этот праздник называется „поминанье душ“».[668] Очевидно, что речь здесь идет о Семике и Троицкой субботе, которые и в 1581, и в 1582 гг., когда Кампани выполнял свою миссию, действительно выпадали на первую неделю мая. Однако иезуит рассказывает в основном о действиях духовенства, относительно же народа упоминает только принесение на могилы кушаний родственниками погребенных.
И это – все, что известно о Семике в рассматриваемый период. Подписанный 21 июня 1548 г. документ об установлении «по всем церквам, в городех и на посадех» общей панихиды по погибшим «нужной», т. е. безвременной смертью,[669] не имеет отношения ни к Семику, ни к «убогим» домам. Связь этой статьи с отправлявшимися в четверг накануне Троицы языческими обрядами – не более чем фантазия И. П. Калинского, весьма вольно истолковавшего источник.[670] В середине XVI в. поминовение убиенных, утопших, сгоревших или погибших от нужды вовсе не было приурочено к Семику. Грамота 1548 г. устанавливала совершать панихиду 21 июня, а значит, во время Петровского поста, который начинался самое позднее 20 июня. Семик же мог отмечаться – в зависимости от времени Пасхи – в четверг, падавший на период от 4 мая до 10 июня. Поэтому и в 1548 г., когда принималось рассматриваемое решение, панихида пришлась вовсе не на 7‑й, а на 12‑й четверг после Пасхи. На основании вышеизложенного, мы не будем останавливаться здесь на семицких обрядах, но обратим внимание на причины, побудившие духовенство установить дополнительные поминальные дни.
Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
