Русская журналистика в пореформенную эпоху
(60-е – 70-е г.г. 19 века)
Несмотря на то, что реформа 1861 года была проведена, крепостное право отменено, но результатами ее большинство россиян удовлетворено не было. Демократическая пресса очень активно выступала против власти. И власть наносит адекватные удары: ужесточает цензуру ( Временные правила о печати 1865 и 1882 г.г.), преследует инакомыслящих.
Одним из самых важных результатов реформы стала дальнейшая и очень быстрая капитализация страны. Все это, естественно, находило свое отражение в журналистике. Интеллигенция пыталась найти выходы из тупика и общую, объединяющую нацию идею. Такой идеей, по мнению Ф.М.Достоевского, могла стать теория «почвенничества», заключавшаяся в единении интеллигенции и народа (почвы) для взаимного духовного обогащения. Трибуной для этой теории становятся журналы братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» (1861-1865г.г.).
В конце 60-х – 70-е г.г. 19 века самым демократическим становится журнал Некрасова и Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки». Именно здесь была напечатана лучшая гражданская лирика и сатирическая публицистика авторов издания, которое продолжало лучшие критические традиции Белинского, Добролюбова и Чернышевского. Но после смерти Некрасова и отстранения Салтыкова-Щедрина к управлению в журнале приходят народники (Н.Михайловский и др.), чья идеология будет ведущей в этот период. Журнал был связан с революционным подпольем. В 1884 году «Отечественные записки» были закрыты.
|
|
|
Практическое занятие 14
Ф.М.Достоевский
[ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» НА 1861 ГОД]
С января 1861 года будет издаваться
«ВРЕМ Я»
журнал литературный и политический ежемесячно,
| П |
книгами от 25 до 30 листов большого формата
режде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.
Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время... Все это только явления и признаки того огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равносилен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.
|
|
|
Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно, важнейший из них есть вопрос об улучшении крестьян- / ского быта. Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий, победителей и побеждённых, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.
Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. G самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлением, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя—иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вожатаями и предводителями показывает, какою дорогою ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем старых допетровских форм, тупого старообрядства.
|
|
|
Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.
|
|
|
Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все последовавшие за Петром узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем; теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных,— точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, пашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на родную почву мы возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.
Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий,' что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность яв- . лений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы та- кую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными, людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть па себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил...Но теперь, кажется, и мы вступаем в новую жизнь.
И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее,— вот наша передовая мысль, вот девиз наш.
Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделан, первый шаг к сближению с ним — вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастием. А счастие его — счастие наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. Но пока за образованным сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением И воспользоваться усиленно. Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг [ко всякой деятельности.
Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала, намекнули па характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем и другую причину,— побудившую нас основать новый независимый литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике, и последние годы, развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам, Разумеется, мы не обвиняем нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подобострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет знание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние па массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной власти, литературного превосходства, литературного чина иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство в числе скандалезных анекдотов о русской литературе в половине девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются все чаще и чаще, и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит и не смеет до них дотрагиваться. Есть в литературе нашей до сих пор несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится все реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе, обращает иные периодические издания в дело преимущественно коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда о ней и не мыслится.
Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов,— несмотря па наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем признаваться в собственных своих ошибках и промахах, и признаваться печатно, и не считаем себя смешными за то, что хвалимся этим (хотя бы и заранее). Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и «пораздразнить» литературных гусей1; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хотя и не всегда спасает Капитолий2. Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая замечательная книга, но и всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно, как прежде, а в журналах. Оставляя в стороне всякие личности", обходя молчанием неё посредственное, если оно не вредно, «Время» будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко кидающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм — где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячие мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и некстати какими-то опошлившими-ся, странными и досадными афоризмами, точно так же подлежит критике, как и вновь вышедшая книга или журнальная статья. Журнал наш поставляет себе неизменным правилом говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде. Громкое имя, подписанное под ним, обязывает суд быть только строже к нему, и журнал наш никогда низойдет до общепринятой теперь уловки - наговорить известному писателю десять напыщенных комплиментов, чтобы иметь право сделать ему одно не совсем лестное для него замечание. Похвала всегда целомудренна; одна лесть пахнет лакейской, Не имея места в простом объявлении входить во все подробности нашего издания, скажем только, что программа наша, утвержденная правительством, чрезвычайно разнообразна. Вот она:
Программа
I. Отдел литературный. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.
П. Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так и об иностранныx. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.
III. Статьи ученого содержания. Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, но занимающихся специально этими предметами.
IV. Внутренние новости. Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.
.V. Политическое обозрение. Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.
VI. Смесь, а) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. Ь) Фельетон, с) Статьи юмористического содержания.
Из этого перечня видно, что всё, что может интересовать современного читателя, входит в нашу программу. Из статей юмористического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки.
Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения внимания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, дававшее громкие имена только в своем объявлении. Хотя и мы в нашем могли бы выставить не одно известное в нашей литературе имя, но нарочно удерживаемся от этого, потому что, при всем уважении к нашим литературным знаменитостям, сознаем, что не они составляют силу журнала.
«Время» будет выходить каждый месяц, в первых числах, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в объеме наших больших ежемесячных журналов.
[ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» НА 1863 ГОД]
| С |
«Время» журнал литературный и политический, издаваемый М. Достоевским
будущим годом начнется третий год издания нашего журнала. Направление наше остается то же самое. Мы знаем, что некоторые из недоброжелателей наших стараются затемнить нашу мысль в глазах публики, стараются не понять ее. Недоброжелателей у нас много, да и не могло быть иначе. Мы нажили их сразу, вдруг. Мы выступили на дорогу слишком удачно, чтоб не возбудить иных враждебных толков. Это очень попятно. Мы, конечно, на это не жалуемся: иной журнал, иная книга иногда по нескольку лет не только не возбуждают никаких толков, но даже не обращают на себя никакого внимания на литературе, ни в публике. С нами случилось иначе, и мы этим даже довольны. Но крайней мере, мы возбудили толки, споры, Это ведь более лестно, чем встретить всеобщее невнимание,
Конечно, мы оставляем в стороне пустые и ничтожные толки рутинных крикунов, не понимающих дела и неспособных понять его. Они с чужого голоса бросаются на добычу; их натравливают те, у которых они в услужении и которые за них думают. Это — рутина. В рутине никогда не было ни одной своей мысли. С ними и толковать не стоит. Но в нашей литературе есть теоретики и есть доктринеры, и они постоянно нападали на нас. Эти действуют сознательно. И они понимают нас, и мы их понимаем. С ними мы спорили и будем спорить. Но объяснимся, почему они на нас нападали.
С первого появления нашего журнала теоретики почувствовали, что мы с ними во многом разнимся. Что хотя мы и согласны с ними в том, в чем всякий в настоящее время должен быть убежден окончательно (мы разумеем прогресс), но в развитии, в идеалах и в точках отправления и опоры общей мысли мы с ними не могли согласиться. Они, администраторы и кабинетные изуча-тели западных воззрений, тотчас же поняли про себя то, что мы говорили о почве, и с яростью напали на нас, обвиняя нас в фразерстве, говоря, что почва — пустое слово, которого мы сами не понимаем и которое мы изобрели для эффекта. А между тем они нас совершенно понимали, и об этом свидетельствовала самая ярость их нападений. На пустое слово, на рутинную гонку за эффектом не нападают с таким ожесточением. Повторяем: было много изданий и с претензией на новую мысль и с погоней за эффектом, которые по нескольку лет издавались, но не удостоивались даже малейшего внимания теоретиков. А на нас они обрушились со всею яростью.
Они очень хорошо знали, что призывы к почве, к соединению с народным началом не пустые звуки, не пустые слова, изобретенные спекуляцией для эффекта. Эти слова были для них напомипаньем и упреком, что сами они строят не на земле, а на воздухе. Мы с жаром восставали на теоретиков, не признающих не только того, что в народности почти всё заключается, но даже и самой народности. Они хотят единственно начал общечеловеческих и верят, что народности в дальнейшем развитии стираются, как старые монеты, что всё сливается в одну форму, в один общий тип, который, впрочем, они сами никогда не в силах определить. Это — западничество в самом крайнем своем развитии и без малейших уступок. В своей ярости они преследовали не только грязные и уродливые стороны национальностей, стороны, и без того необходимо долженствующие со временем уступить правильному развитию, по даже выставляли в уродливом виде и такие особенности народа нашего, которые именно составляют залоги его будущего самостоятельного развития; которые составляют его надежду и самостоятельную, вековечную силу. В своем отвращении от грязи и уродства они, за грязью и уродством, многое проглядели и многое не заметили. Конечно, желая искренно добра, они были слишком строги. Они с любовью самоосуждения и обличения искали одного только «темного царства» и не видали светлых и свежих сторон. Нехотя они иногда почти совпадали с клеветниками народа нашего, с белоручками, смотревшими на него свысока; они, сами того не зная, осуждали наш народ на бессилие и не верили в его самостоятельность. Мы, разумеется, отличали их от тех гадливых белоручек, о которых сейчас упомянули. Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа, мы уважали и будем уважать их искреннюю и честную деятельность, несмотря па то, что мы не во всем согласны с ними. Но эти чувства не заставят нас скрывать и наших убеждений. Молчание было бы пристрастием; к тому же мы не молчали и прежде. Теоретики не только по понимали народа, углубясь в свою книжную мудрость, по даже презирали его и, разумеется, без худого намерения и, так сказать, нечаянно. Мы положительно уверены, что самые умные из них думают, что при случае стоит только десять минут поговорить с пародом и он всё поймет; тогда как парод, может быть, и слушать-то их не станет, об чем бы они пи говорили ему. В правдивость, в искренность нашего сочувствия не верит народ до сих пор и даже удивляется, зачем мы не за себя стоим, а за его интересы, и какая нам до него надобность. Ведь мы до сих нор для него птичьим языком говорим. Но теоретики на это упорно не хотят смотреть, и кто знает, может быть, не только рассуждения, но даже самые факты не могли бы их убедить в том, что они одни, па воздухе, в совершенном одиночестве и без всякой опоры па почву; что всё это не то, совершенно не то.
Что касается до наших доктринеров, то они, конечно, не отвергают народности, но зато смотрят на нее свысока. В том-то и дело, что весь спор состоит в том, как нужно понимать народ и народность. Они понимают еще слишком по-старому; они верят в разные общественные слои и осадки. Доктринеры хотят учить парод, согласны писать для него народные книжки (до сих пор, впрочем, по умели написать ни одной) и не понимают .главнейшей аксиомы, что только тогда народ станет читать их книжки, когда они сами станут народом, от всего сердца и разума, а не по-маскарадному, то есть когда народные интересы станут совершенно нашими, а наши его интересами. По подобное возвращение па почву для них и немыслимо. Недаром же они так много говорят о своих пауках, профессорствах, достоинствах и чуть ли не об чинах своих. Самые милостивые из них соглашаются разве только на то, чтоб возвысить парод до себя, обучив его всем паукам и тем образовав его. Они не понимают нашего выражения «соединение с народным началом», и нападают на нас за него, как будто это какая-то таинственная формула, под которой заключается какой-то таинственный смысл. «Да и что нового в народности?— говорят нам1 они.— Это тысячу раз говорилось и прежде, говорилось даже в недавние давнопрошедшие времена. В чем тут новая мысль, в чем особенность?»
Повторяем: все дело в понимании слова «народность». В наших словах о соединении не было никакого таинственного смысла. Надо было понимать буквально, именно буквально, и мы до сих пор убеждены, что мы ясно выразились. Мы прямо говорили и теперь говорим, что нравственно надо соединиться с народом вполне и как можно крепче; что надо совершенно слиться с ним и .нравственно стать с ним как одна единица. Вот что мы говорили и до сих пор говорим. Такого полного соединения, конечно, теоретики и доктринеры ее могли понимать. Не могли понимать и те, которые уже полтораста лет поневоле привыкли себя считать за особое общество. Мы согласны, что совершенно понять это довольно трудно. Из книг иногда труднее полян, то, что понимается часто само собой на фактах и в действительной жизни. Но, впрочем, нечего пускаться в слишком подробные объяснения. За нашу идею мы не боимся. Никогда и быть того не могло, чтоб справедливая мысль не была наконец понята. За нас жизнь и действительность. И боже! какие нам иногда делали возражения: боялись за пауку, за цивилизацию!.. «Куда денется наука?— кричат они.— И неужели нам всем воротиться назад, надеть зипуны и куда-нибудь приписаться?» На это мы отвечаем и теперь, что за науку опасаться нечего. Она — вечная и высшая сила, всем присущая и всем необходимая. Она — воздух, которым мы дышим. Она никогда не исчезнет и везде найдет себе место. Что же касается до зипунов, то, может быть, их и не будет, когда мы настоящим образом поймем, что такое народ и народность. Может быть, оттого-то именно, что мы искренно, а не па шутку воротимся к пароду, и начнут исчезать у пего зипуны. Разумеется, это замечание мы делаем для робких и белоручек, им в утешение. Мы же уважаем зипун. Это честная одёжа, и гнушаться ею нечего.
Мы признаемся: нам труднее издавать журнал, чем кому-нибудь. Мы вносим новую мысль о полнейшей народной нравственной самостоятельности, мы отстаиваем Русь, наш корень, наши начала. Мы должны говорить патетически, уверять и доказывать. Мы должны выказать идеал наш и выказать в полной ясности. Обличителям легче нашего. Им стоит только обличать, нападать и свистать, чтоб быть всеми понятыми, часто не давая отчета, во имя чего они обличают, нападают и свищут. Боже пас сохрани, чтоб мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважаем, а если обличение основано на глубокой, живой идее, то, конечно, оно нелегко достается. Мы сами обличители; ссылаемся на журнал наш за всё это время. Мы хотим только сказать, что обличителю легче найти сочувствие. Даже разномыслящие и не совсем согласные с обличителем готовы примкнуть к нему ради обличения. Разумеется, мы вместе с нашими обличителями, и дельными и дешевыми, отвергаем и гнилость иных наносных осадков и исконной грязи. Мы рвемся к обновлению уж, конечно, не меньше их. Но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золота; а жизнь и опыт убедили нас, что оно есть в земле нашей, свое, самородное, что залегает оно в естественных, родовых основаниях русского характера и обычая, что спасенье в почве и народе. Этот парод недаром отстоял свою самостоятельность. Над ним глумятся иные дешевые критики; говорят, что он ничего не сделал, ни к чему не пришел. Вольно ж не видать. Это-то мы и хотим указать, что он сделал. Это укажут и последствия, разовьет и наука; мы верим и это. Уж одно го, что он отстоял себя в течение многих веков, что па его месте другой парод, после таких испытаний, которые тысячу раз посылало ему провидение, может быть, давно стал бы чем-нибудь вроде каких-нибудь чукчей. Пусть на нем много грязи. Но в его взглядах на жизнь, в иных его родовых обычаях, в иных уже сложившихся основаниях общества и общины есть столько смысла, столько надежды в будущем, что западные идеалы не могут к нам подойти беззаветно. Не подойдут и потому, что не нашим племенем, не нашей историей они выжиты, что другие обстоятельства были при созданьи их и что право народности есть сильнее всех нрав, которые могут быть у пародов и общества. Это аксиома слишком известная. Неужели повторять ее? Неужели повторять и то, что считающие народ несостоятельным, готовые только обличать его за его грязь и уродство, считающие его неспособным к самостоятельности, уже тем самым про себя презирают его? В сущности, один только наш журнал признает вполне народную самостоятельность нашу даже и в том виде, в котором: она теперь находится. Мы идем прямо от нее, от этой народности, как от самостоятельной точки опоры, прямо, какая она ни есть теперь — невзрачная, дикая, двести лет прожившая в угрюмом одиночестве. Но мы верим, что в ней-то и заключаются все способы ее развития. Мы не ходили в древнюю Москву за идеалами; мы не говорили, что всё надо переломить сперва по-немецки и только тогда считать нашу народность за способный материал для будущего вековечного здания. Мы прямо шли от того, что есть, и только желаем: этому что есть наибольшей свободы развития. При свободе развития мы верим в русскую будущность; мы верим в самостоятельную возможность ее.
И кто знает, пожалуй, нас назовут обскурантами, не понимая, что мы, может быть, несравненно дальше и глубже идем, чем они, обличители наши, доказывая, что в иных естественных началах характера и обычаев земли русской несравненно более здравых и жизненных залогов к прогрессу и обновлению, чем в мечтаниях самых горячих обновителей Запада, уже осудивших свою цивилизацию и ищущих из нее исхода. Возьмем хоть один из многих примеров. Там, на Западе, за крайний и самый недостижимый идеал благополучия считается то, что у нас уже давно есть па деле, в действительности, но только в естественном, а не в развитом, не в правильно организованном состоянии. У нас существует, например, так, что, кроме ограниченного числа мещан и бедных чиновников, никто не должен бы родиться бедным. Всякая душа, чуть выйдет из чрева матери, ужо приписана к. земле, уже ей отрезан клочок земли в общем владении, и с голоду она умереть не должна бы. Если же у нас, несмотря на то, столько бедных, так ведь это единственно потому, что эти народные начала до сих пор оставались в единственном, в неразвитом состоянии, даже не удостаивались внимания передовых людей наших. Но с 19 февраля уже началась новая жизнь. Мы. жадно встречаем ее.
Мы долго сидели в бездействии, как будто заколдованные страшной силой. А между тем в нашем обществе начала сильно проявляться жажда жить. Через это-то самое желание жить общество и дойдет до настоящего пути, до сознания, что без соединения с народом оно одно ничего не сделает. Но только чтоб без скачков и без опасных salto-mortale совершился этот выход на настоящую дорогу. Мы первые желаем этого. Оттого-то мы желаем благовременного соединения с народом. Но во всяком случае лучше прогресс и жизнь, чем застой и тупой беспробудный сон, от которого всё коченеет и всё парализуется. В нашем обществе уже есть энтузиазм, есть святая, драгоценная сила, которая жаждет применения и исхода. И потому дай бог, чтоб этой силе был дан какой-нибудь законный, нормальный исход. Разумеется, свобода, данная этому выходу, хотя бы в свободном слове, сама себя регуляризировала бы, сама себя судила бы и законно, нормально направила. Мы искренно ждем и желаем того.
Нам кажется, что с нынешнего года паша прогрессивная жизнь, наш прогрессизм (если можно так выразиться) должен принять другие формы и даже в иных случаях и другие начала. Необходимость народного элемента в жизни становится очевидной и ощутительной. Иначе не будет основания, не будет поддержки пи для чего, ни для каких благих начинаний. Это слишком очевидно, и на деле в этом согласны: и прогрессисты и консерваторы.
Мы уважаем всякое благородное начинание; в наше время, когда всё запуталось и когда повсеместно возникает спор об основаниях и принципах, мы стараемся смотреть как можно шире п беспристрастнее, не впадая в безразличность, потому что имеем свои собственные убеждения, за которые горячо стоим. Но вместе с тем и всем сердцем сочувствуем всему, что искренно и честно.
Но мы ненавидим пустых, безмозглых крикунов, позорящих всё, до чего они ни дотронутся, марающих иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в пей участвуют; свистунов, свистящих из хлеба и только для того, чтоб свистать; выезжающих верхом на чужой, украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма. Убеждения этих господ им ничего не стоят. Не страданием достаются им убеждения. Они их тотчас же и продадут за что купили. Они всегда со стороны тех, кто сильнее. Тут одни слова, слова и слова, а нам довольно слов; пора уж и синицу в руки.
Мы не боимся авторитетов и презираем лакейство в литературе; а этого лакейства у пас еще много, особенно в последнее время, когда всё в литературе поднялось и замутилось. Скажем еще одно слово: мы надеемся, ч го публика в эти два года убедилась в беспристрастии нашего журнала. Мы особенно этим гордимся. Мы хвалим хорошее и во враждебных нам изданиях и никогда из кумовства не похвалили худого у друзей наших. Увы! неужели такую простую вещь приходится в наше время ставить себе в заслугу?..
Мы стоим за литературу, мы стоит и за искусство. Мы верим в их самостоятельную и необходимую силу. Только самый крайний теоретизм и, с другой стороны, саман пошлая бездарность могут отрицать эту силу. Но бездарность, рутина отрицают с чужого голоса. Им с руки невежество. Не за искусство для искусства мы стоим. В этом отношении мы достаточно высказались. Да и беллетристические произведения, помещенные нами, достаточно это доказывают.
Мы не станет говорить здесь о тех улучшениях, какие намерены сделать в будущем году. Читатели сами их заметят.1
ОБ ИЗДАНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЖУРНАЛА «ЭПОХА», ЛИТЕРАТУРНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО, ИЗДАВАЕМОГО СЕМЕЙСТВОМ М. М. ДОСТОЕВСКОГО
| И |
здание «Эпохи», журнала литературного и политического, будет продолжаться в будущем 1865 году семейством покойного Михаила Михайловича Достоевского.. «Эпоха» будет выходить по-прежнему раз в месяц, в прежней программе, в объеме наших ежемесячных журналов, то есть от 30 до 35 листов большого формата в каждой книге.
Собственники журнала принимают в издании его непосредственное участие.
Все прежние всегдашние сотрудники покойного редактора и почти все те писатели, которые помещали свои произведения в изданиях М. Достоевского (г-да Порецкий, Аверкиев, Страхов, М. Владиславлев, Ахптарумов, А. А. Головачев, Долгомостьев, Островский, Плещеев, Полонский, Милюков, Ф. Достоевский, Бабиков, Фатеев, Майков, Тургенев и многие другие), по-прежнему будут помещать своп труды в «Эпохе».
Из них А. Н. Островский1 положительно обещал нам в будущем году свою комедию. И. С. Тургенев2 уведомил нас, что первая написанная им повесть будет помещена в нашем журнале. Ф. М. Достоевский: кроме постоянного, непосредственного своего участия в «Эпохе», поместит в ней в будущем году свой роман. Журнал постоянно расширяет круг своих сотрудников.
Направление журнала неуклонно остается прежнее. Разработка и изучение наших общественных и земских явлений в направлении русском, национальном по-прежнему будут составлять главную цель нашего издания. Мы по-прежнему убеждены, что не будет в нашем обществе никакого прогресса, прежде чем мы не станем сами настоящими русскими. Признак же настоящего рус 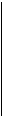
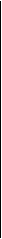 ского теперь — это знать то, что именно теперь надо не бранить у нас на Руси. Но хулить, не осуждать, а любить уметь — вот что надо теперь наиболее настоящему, русскому. Потому что кто способен любить и не ошибается в том, что именно ему надо любить на Руси,— тот уж знает, что и хулить ему надо; знает безошибочно, и чего пожелать, что осудить, о чем сетовать, и чего домогаться ему надо; и полезное слово умеет он лучше if понятнее всякого другого сказать — полезнее всякого присяжного обличителя. Многое научились мы бранить в пашем отечестве, и иногда, надо отдать справедливость, довольно остроумно и как будто даже и метко бранились. Чаще же всего городили ужаснейший вздор, за который покраснеют за нас грядущие поколения. Но зато мы до сих пор не научились и, почти сплошь, не знаем того, что именно должно не бранить на Руси. За это и нас никто не похвалит. В самом деле, в чем мы наиболее все ошибаемся и в чем все до ярости несогласны друг с другом:? В том, что именно у нас есть хорошего. Если б нам только удалось согласиться в этом пункте, мы б тотчас же согласились и в том, что у нас есть нехорошего. Неумелость эта — опасный и червивый признак для общества. Вот отчего нас (то есть общество) до сих пор и не понимает парод. Народ и мы — любим розно; вот в чем наш главный пункт разделения. Непонятно и смешно другим стало наше выражение: «почва». Почва вообще есть то, за что все держатся и на чем все держатся и на чем все укрепляются. Ну а держатся только того, что любят. А что мы любим и умеем любить теперь в России искренно, непосредственно, всем существом нашим? Что нам в ней теперь дорого? Разве не за стыд, не за ретроградство считают у нас до сих пор идею о том, что мы — сами по себе, что мы своеобразны, своеисторичны? Разве не за принцип пауки считают у лас, что национальность, в смысле высшего преуспеяния, есть нечто вроде болезни, от которой избавит пас всестирающая цивилизация?
ского теперь — это знать то, что именно теперь надо не бранить у нас на Руси. Но хулить, не осуждать, а любить уметь — вот что надо теперь наиболее настоящему, русскому. Потому что кто способен любить и не ошибается в том, что именно ему надо любить на Руси,— тот уж знает, что и хулить ему надо; знает безошибочно, и чего пожелать, что осудить, о чем сетовать, и чего домогаться ему надо; и полезное слово умеет он лучше if понятнее всякого другого сказать — полезнее всякого присяжного обличителя. Многое научились мы бранить в пашем отечестве, и иногда, надо отдать справедливость, довольно остроумно и как будто даже и метко бранились. Чаще же всего городили ужаснейший вздор, за который покраснеют за нас грядущие поколения. Но зато мы до сих пор не научились и, почти сплошь, не знаем того, что именно должно не бранить на Руси. За это и нас никто не похвалит. В самом деле, в чем мы наиболее все ошибаемся и в чем все до ярости несогласны друг с другом:? В том, что именно у нас есть хорошего. Если б нам только удалось согласиться в этом пункте, мы б тотчас же согласились и в том, что у нас есть нехорошего. Неумелость эта — опасный и червивый признак для общества. Вот отчего нас (то есть общество) до сих пор и не понимает парод. Народ и мы — любим розно; вот в чем наш главный пункт разделения. Непонятно и смешно другим стало наше выражение: «почва». Почва вообще есть то, за что все держатся и на чем все держатся и на чем все укрепляются. Ну а держатся только того, что любят. А что мы любим и умеем любить теперь в России искренно, непосредственно, всем существом нашим? Что нам в ней теперь дорого? Разве не за стыд, не за ретроградство считают у нас до сих пор идею о том, что мы — сами по себе, что мы своеобразны, своеисторичны? Разве не за принцип пауки считают у лас, что национальность, в смысле высшего преуспеяния, есть нечто вроде болезни, от которой избавит пас всестирающая цивилизация?
По нашему убеждению, как бы ни была плодотворна сама по себе чья-нибудь захожая к ном идея, по она лишь тогда только могла бы у нас оправдаться, утвердиться и принести нам действительную пользу, когда бы сама национальная жизнь паша, безо всяких внушений и рекомендаций извне, сама собой выжила эту идею, естественно и практически, вследствие практически сознанной всеми ее необходимости и потребности. Ни одна в мире национальность, ни одно сколько-нибудь прочное государственное общество еще никогда не составлялись доселе по предварительно рекомендованной и заимствованной откуда-нибудь извне программе. Всё живое составлялось само собой и жило в самом деле, заправду. Все лучшие идеи и постановления Запада были выжиты у него самостоятельно, рядом веков, вследствие органической, непосредственной и постепенной необходимости. Те, которые начинали в Англии парламент, уж, конечно, не знали, во что он обратится впоследствии. Отчего же обличители наши отказывают нам в собственной, своеобразной жизни in смеются над выражениями нашими: «органическая, почвенная, самостоятельная жизнь»? Но, смеясь, свысока, они то и дело ошибаются сами и путаются в современных явлениях нашей национальной жизни, не зная, как и определить их: органическими или наносимыми, хорошими или дурными, здоровыми или червивыми? Они до того теряют точность в определениях, что даже начинают бояться определений и все чаще и чаще спасаются в отвлеченность. Все более и более нарушается в заболевшем обществе нашем понятие о зле и добро, о вредном и полезном. Кто из нас, по совести, знает теперь, что зло и что добро? Всё обратилось в спорный пункт, и всякий толкует и учит по-своему. Говоря это, мы не выставляем, разумеется, себя безошибочными и всезнающими; напротив, мы, так же как и все, можем городить вздор, совершенно искренно и добросовестно. Мы, не попрекая, говорили сейчас: мы, сокрушаясь, говорили. По нам все-таки кажется, что наша точка зрения дает возможность вернее и безошибочнее разузнать и точнее распределить то, что кругом нас происходит ;(мы не журнал наш хвалим теперь, мы точку зрения хвалим). На такой точке зрения мы уже не можем, например, оставаться в недоумении перед недавними фактами нашей национальной жизни, не зная, как отнестись к ним, то есть и за общечеловеческие наши убеждения боясь, и неотразимый факт проглядеть боясь,— сбиваясь и путаясь и на всякий случай наблюдая благоразумное виляние туда и сюда.
Ни одна земля от своей собственной жизни не откажется и скорее захочет жить туго, но все-таки жить, чем жить по чужому и совсем не жить. Мудрецы и реформаторы являлись в народах тоже органически и имели успех не иначе как только когда состояли в органической связи с своим народом. Говорят, в то время, когда шло у нас дело об улучшении быта наших крестьян, один французский префект заявил и свой проект из Франции. По его мнению выходило, что ничего нет легче, как дело освобождения; что стоит только издать указ, состоящий в том, что все имеющие родиться в русской земле, с такого-то года и с такого-то числа, родятся свободными. Et c'esl tout...* И удобно и гуманно. Над этим французом у нас смеялись — совершенно напрасно, по-нашему. Во-первых, он, разумеется, решил по-своему, по духу и идеалу своей нации, и не мог быть в своем решении не французом. По убеждению же француза, человек без земли, пролетарий — все-таки может считаться свободным человеком. Но русскому, основному, самородному понятию, не может быть русского человека без общего права на землю. Западная паука и жизнь доросли только до личного права на собственность, следственно, чем же был француз виноват? Чем же он виноват, когда мы сами наше братское, широкое понятие о праве на землю за низшую степень экономического развития по западной пауке считаем? А во-вторых, чем выше этого француза наши собственные журнальные мыслители и теоретики?— Всякая здоровая и земская сила верит в себя и в свою правду, и это есть самый первый признак здоровья народного. Эта народная вера в себя и в собственные силы — вовсе по застой, а, напротив, залог жизненности и энергии жизни и отнюдь но исключает прогресса и преуспеяния. Без этой веры в себя не устоял бы, например, в продолжение веков белорусский парод и не спас бы себя никогда.— Народ, как бы ни был он груб, не станет упорствовать в дряни, если только сам сознает, что это дрянь, и будет иметь возможность изменять ее по своему собственному распоряжению и усмотрению. От науки тоже никогда, народ сам собой не отказывается. Напротив, если кто искренно чтит науку, так это народ. Но туг опять то же условие: надо непременно, чтоб народ сам, путем совершенно самостоятельного жизненного процесса дошел до этого почитания. Тогда он сам к вам придет и попросит себя научить. Иначе и науку он не примет от вас и от дряни своей никогда не откажется. Народ же выживает свои выводы практически, на примерах. А чтобы иметь собственный, неоспоримый пример, надо жить самостоятельно, надо натолкнуться на этот пример настоящей практической жизнию. Итак, что же выходит? Выходит, что не надо посягать па самостоятельность жизни национальной, а, напротив, всеми силами расширять эту жизнь и как можно более стоять за ее самобытность и оригинальность. Наш русский прогресс не иначе может определиться и хоть чем-нибудь заявить себя как только по мере развития национальной жизни нашей и пропорционально расширению круга ее самостоятельной деятельности как в экономическом, так и в духовном отношении,— пропорционально постепенности освобождения ее от вековой ее в себе замкнутости. Повторяем, вот к чему прежде всего надо стремиться и чему надо способствовать. До тех пор будет у нас на виду одно только смешение языков в нашем образованном обществе и чрезвычайное духовное его бессилие. Мы видим, как исчезает наше современное поколение, само собою, вяло и бесследно, заявляя себя странными и невероятными для потомства признаниями своих «лишних людей». Разумеется, мы говорим только об избранных из «лишних» людей (потому что и между «лишними» людьми есть избранные); бездарность же и до сих пор в себя верит и, досадно, не замечает, как уступает она дорогу новым, неведомым здоровым русским силам, вызываемым наконец к жизни в настоящее царствование. И слава богу! Конечно, все мы, в пашей литературе, все, кроме весьма немногих, вообще говори — любим Россию, желаем ей преуспеяния и все ищем для нее того, что получше. Одного только жаль: все мы желаем и ищем каждый по-своему и расползлись в разных «направлениях», как раки из кулька. Почти все у нас ссорятся и перессорились. Правда, ничего более нам не оставалось и делать в качестве уединенных людей и покамест никому ненадобных и никем не прошенных. Но все-таки если проявлялись где признаки самостоятельной жизни в нашем обществе (то есть собственно в образованном обществе), то уж, конечно, наиболее в литературе. Вот почему мы, несмотря на смешение языков и понятий и па всеобщие ссоры, все-таки смотрим на нашу литературу с уважением, как на явление жизненное и в своем роде — совершенно органическое. Осуждая других в ссорах и распрях, мы не думаем исключить и себя; мы тоже не избежали своей участи; не извиняемся и не оправдываемся; скажем одно: мы всегда дорожили не верхом в споре, а истиной. Конечно, и ловкие спекуляции на убеждения уже водятся в нашей литературе; по, в сущности, даже и тут — более явлений смешных, чем серьезных; более комических историй, раздраженных самолюбий и напрашивающихся в карикатуру претензий, чем истинно грустных и позорных фактов. Мы обещаемся внимательно следить за ходом и развитием нашей литературы и обращать внимание па все, по нашему мнению, значительное и выдающееся. Мы не будем избегать и споров и серьезной полемики и готовы даже преследовать то, что считаем вредным нашему общественному сознанию; но личной полемики3 мы положительно хотим избегать, хотя и не утверждаем, что до сих пор не были сами в ней, хотя бы и невзначай, виноваты. Мерзит это нам, и не понимаем мы, как можно позорить бранью и сознательной клеветой людей (на что решаются некоторые) за то только, что те не согласны с нами в мыслях.— Хвалить дурное и оправдывать его из-за принципа мы не можем и не хотим. Издавать журнал, так чтобы все отделы его пристрастно составлять из одних подходящих фактов; видеть в данном явлении только то, что нам хочется видеть, а все прочее игнорировать и умышленно устранять; называть это «направлением» и думать, что это и правильно и беспристрастно и честно,— мы тоже не можем. Не так разумеем мы направление. Мы не боимся исследования, свету и ходячих авторитетов. Мы всегда готовы похвалить хорошее даже у самых яростных наших противников. Мы всегда тоже готовы искренно сознаться в том в чем мы ошибались, тотчас же, как вам это докажут...4
* И это всё (фр-).
Вопросы и задания.
1. Журналы братьев Достоевских «Время» и «Эпоха». Позиция Ф.М.Достоевского по вопросам общественного развития и текущей литературы. Полемика с другими изданиями.
2. Теория «почвенничества».
3. Особенности публицистики Достоевского. Объявление об издании журналов «Время» за 1861 и 1863 г.г. и «Эпоха» за 1864 г. как программа изданий и выражение политико-литературных взглядов писателя.
4. Роль А.Григорьева в критическом отделе журнала «Время».«Органическая» критика.
Практическое занятие 15
Н.Михайловский
ЛИСИЙ ХВОСТ И ВОЛЧИЙ РОТ
1. К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛОРИС-МЕЛИКОВА
Говорят, что к фигурам Минина и Пожарского на известном московском монументе' будет в скором времени прибавлена статуя графа Лорис-Меликова. Говорят, что благодарная Россия изобразит графа в генерал-адьютантском мундире, но с волчьим ртом спереди и лисьим хвостом сзади, в отличие от прочих генерал-адьютантов, отечества не спасавших. Мы ничего не имеем против такого увековечения памяти графа. Мы даже готовы принять посильное участие в национальной подписке на сооружение статуи. Но так как подписка еще не объявлена, то ограничимся пока духовной лептой, сообщением данных, свидетельствующих, что граф достоин памятника.
Велико было ликование наших легальных собратов по газетному делу при назначении графа субалтерн-императором2. Все знают цену подобных ликований. Как ни жестоко относятся к нам наши собраты, но мы всегда готовы войти в их положение и признать, что им, вынужденным кланяться «собаке дворника, чтоб ласкова была»3, нельзя было не ликовать при назначении диктатора, кто бы он нибыл. На этот раз, однако, ликование было довольно понятно. Графу предшествовала смутная репутация умного и либерального человека, и сам он, с первого же дня своего диктаторства стал мягко и любезно пошевеливать лисьим хвостом. Прокламация к жителям столицы, призыв представителей города в комиссию, интимные беседы с журналистами, правительственное сообщение о пересмотре дел административно-ссыльных,— такова казовая сторона первого периода диктатуры графа Лорис-Меликова. Каждый из этих взмахов лисьего хвоста приветствовался не только сам по себе, но и как задаток какого-то огромного подарка, который благородный граф сделает благодарной России. Чьи-то услужливые языки и перья муссировали4 каждое из этих событий, удесятеряли их фактическое и принципиальное значение, — Россия была накануне золотого века. Независимо от газетных восторгов, нам приходилось слышать, как старые седые практики выражали полную уверенность в том, что петербургские думцы станут постоянными членами верховной комиссии, что в нее войдут представители других городов, земств, сословий. Мы слышали фантастические рассказы о тысячах, чуть ли даже не десятках тысяч ссыльных, возвращенных семье, отечеству, науке. Мы слышали серьезные уверения, что III Отд<еление> собст<венной> его величества канцелярии уничтожается. Открытая реакция, нагло-жестокая и безумно-кровожадная, опечалилась. Она опустила бы голову еще ниже, если бы граф с первого шага не показал, что у него есть не только лисий хвост, а также волчий рот. Мы разумеем казнь Млодецкого5.
Наиболее выдающийся факт второго периода диктатуры графа Лорис-Меликова есть низвержение графа Толстого6. Отставка этого министра народного помрачения есть действительная заслуга диктатора. Но радуясь этой несомненно всероссийской радости, а также таким, пока еще сомнительным радостям, как назначение Сабурова, Абазы, Маркова, Буше7, надо помнить, что все это только изменения в составе населения бюрократического Ноева ковчега. Новый министр, новые товарищи министра, новый начальник главного управления по делам печати еще не успели определиться. Но положим, что в ковчеге русской бюрократии, как и в библейском Ноевом ковчеге, чистых животных по семи пар, а нечистых только по две. Мы готовы этому радоваться вместе с легальной журналистикой и со всем русским обществом. Приятно видеть, что попечительное правительство дает нам хороших начальников взамен дурных. Но взмахи лисьего хвоста не это обещали, не паллиативы в виде хорошего начальства. А из-за них забыты все обещания первого периода диктатуры.
Типический азиатский дипломат, граф умеет товар лицом показать. С треском и громом явилась прокламация к жителям столицы, а за кулисами обещанное в ней обращение к содействию общества свелось к нулю. Кимвалы и тимпаны возвестили приглашение представителей города Петербурга в верховную комиссию, а на деле они не были там ни одного раза. Отставке Дрентельна8 был придан характер сокращения деятельности, если не уничтожения III Отделения, а на деле оно продолжает свою гнусную деятельность в усиленных размерах.
Того требуют азиатская натура и азиатские привычки графа. Еще будучи начальником Терской области, он занимался насаждением шпионства, то же продолжал делать в Харькове, то же делает в Петербурге. Мы имеем довольно достоверные сведения, что, кроме обыкновенных агентов III Отделения, шпионством, под видом прислушивания к общественному мнению, занимаются и некоторые русские литераторы, даже довольно видные, и попы, посещающие Дом предварительного заключения. Еще больший гром, чем отставка шефа жандармов, произвело правительственное сообщение о пересмотре дел административно-ссыльных. Мы знаем, что князь Имеретинский9 объезжал некоторые тюрьмы и бегло расспрашивал содержавшихся там в ожидании отправки на место административной ссылки. Но если этот объезд и даст какие-нибудь результаты, то до сих пор их не видно, а видно совсем другое. Видно, что как раз в момент правительственного сообщения из Петербурга происходили усиленные высылки на место родины, в Сибирь, в захолустье европейской России *.
Правительственное сообщение мотивировало, между прочим, пересмотр желанием дать некоторым молодым людям, оторванным от науки, возможность кончить образование. А нам известны такие, например, случаи: в июне месяце студент IV курса М<едико>-х<ирургической> Академии Неуймен, обязанный два года назад подпискою о невыезде, обратился в III Отделение с запросом, может ли он уехать на каникулы. Запрос заставил вспомнить о нем, и студент был немедленно выслан административным порядком. Нам известны и другие подобные случаи.
Все это лисий хвост, где же волчий рот?
Лисий хвост многие охотно простят графу, даже, может быть, похвалят за него. Скажут — ловкий человек. Но азиатский дипломат не только ловкий человек, он жестокий человек. Сам увлекаясь процессом надувательства, граф в этом увлечении не остановится ни перед чем.
Наши легальные собраты берут иногда из «Народной воли» отдельные клочки, как матерьял для довольно плохих острот. Но они никогда ничего не заимствуют, напр., хотя бы из нашей хроники арестов. Тем более не посмеют они перепечатать нижеследующих фактов, за достоверность которых мы ручаемся. Но мы усердно просим иностранные газеты обратить на них внимание. "Если нам, как людям гонимым и пристрастным, не поверят, то пусть поручат своим петербургским корреспондентам навести точные и подробные справки. Пусть Европа узнает, что такое либеральный азиат, так ловко умеющий муссировать грошевую подачку, вроде, напр., помилования Ванчакова, Судейкина и Чу-гуевца 10, осужденных всего на два месяца1 к заключению в смирительном доме без ограничения прав. Об этом знаке милосердия и либерализма протрубили и русские и иностранные газеты. Пусть же Россия и Европа заглянут за кулисы!
Вот эпизоды из харьковского генерал-губернаторства графа.
За участие в побеге Фомина" Ефремов был приговорен к смертной казни11. На самом деле он ничего не знал о побеге, а был только знаком с некоторыми участниками. На суде это вполне выяснилось. Главною уликою против него признавалось будто бы им написанное письмо, в котором обсуждались различные планы побега. На самом деле письмо это было написано И. Ивичевичем. Последний собственноручно сообщил об этом графу Лорис-Меликову, указывая на тождество своего почерка с почерком преступного письма. Несмотря на все это, суд вынес Ефремову смертный приговор. Затем к Ефремову являлся прокурор и говорил такие гнусные речи: «Мы знаем, что вы не причастны, но власть не должна быть компрометирована безнаказанностью преступления; виновные скрылись, вы ответите». Он обещал, однако, от имени графа помилование, если Ефремов подаст прошение. Тот отказался. Прокурор вновь пришел и уже просил приговоренного к смерти подать прошение: «снимите, говорит он, тяжесть с совести, ручаюсь за помилование». Совесть!.. Ефремов не соглашался. Прокурор обратился к его товарищам, чтобы те его уговорили. Товарищи стали уговаривать не губить себя (а товарищи тоже безвинно попали) и, наконец, чтобы облегчить ему путь, подали все за себя прошение о смягчении участи. Ефремов был сломан... «Если бы я знал, какую жизнь мне придется вести, я бы не подал прошения: такая жизнь не стоит унижения», — пишет он уже с каторги. — «Но тогда я не имел достаточно сил. Мучусь этим до сих пор. Я не ждал приговора к смерти и был совершенно убит. Я ничего не делал, не имел даже ясных убеждений. Смерть меня так пугала, что я даже опасался, что не выдержу на эшафоте и малодушным поведением скомпрометирую партию». Подал прошение и попал на 20 лет на каторгу... Затем граф Лорис-Меликов поместил сестру Ефремова в учебное заведение. Услужливые языки распускают слух, что он лично за нее платил, но это не верно; она воспитывается на казенный счет, хотя и по ходатайству графа.
Нужны ли комментарии к этим оригинальным всполохам азиатской совести? Нужно ли доказывать, что заботы о воспитании сестры человека, заведомо невинно погубленного, это все равно что та свечка, которую анекдотический разбойник ставит Николаю Чудотворцу после убийства? Хорош суд, осуждающий на смерть невинного человека, хорош прокурор, умоляющий снять с его совести тяжесть, но лучше всех граф, истинный виновник этого возмутительного эпизода.
В Петербурге история Ефремова повторилась на Сабурове. Все помнят, что суд по делу Адриана Михайлова, Веймара, Сабурова и других 12, назначенному к слушанию в конце апреля, был отложен на неделю. Все помнят также, что приговор Сабурова к смертной казни вовсе не вытекал из данных, выяснившихся на суде. Вот объяснение этих фактов. Граф почему-то уверился, что Сабуров есть убийца Мезенцова 13. Незадолго перед судом диктатор явился к Сабурову и долго вилял перед ним своим мягким лисьим хвостом, всячески убеждая его открыть свое настоящее имя. Граф обещал помилование, обещал сохранить тайну имени, говорил о своем великодушии, оцененном даже в Европе. А когда Сабуров остался непоколебим, граф оставил лисий хвост в покое и разинул волчий рот. Он объявил Сабурову напрямик, что он будет повешен. На другой день к Сабурову явился Черевин 14, подтверждая и просьбу, и угрозу принципала 15. В конце разговора он дал Сабурову неделю на размышление, вследствие чего суд и был отложен на неделю. Так как Сабуров за неделю не одумался, то финалом гнусной комедии суда был смертный приговор, чудовищный в юридическом смысле, но вполне соответствующий азиатской совести диктатора.
Таков граф Лорис-Меликов, спаситель отечества, восстановитель правды, насадитель свободы! Для этого азиата, в котором наивные люди хотят видеть европейца, нет унижения: он спустится до роли палача, шпиона, политического шулера, он растопчет суд, правду, жизнь, но сделает это так, что наивные люди увидят только мягкие движения пушистого хвоста...
Каков поп, таков и приход. Многие верят, что с воцарением графа Лорис-Меликова деятельность тайной и явной полиции приняла более мягкие формы. В действительности, при графе происходят иногда вещи, до сих пор не слыханные и не виданные. Недавно, осужденные по делу Михайлова и других, Малиновская, Коленкина, Ольга Натансон и Витаньева подверглись в Доме предварительного заключения варварской и совершенно бесцельной пытке: их свидетельствовали для осмотра особых примет. Обыкновенно эту операцию над женщинами производят женщины же. Но тут целая свора самцов, состоящая из членов Врачебной управы и жандармов, набросилась на несчастных женщин. Началось с Натансон, которая незадолго перед тем сама просила подвергнуть ее медицинскому осмотру, в виду ее болезненного состояния. Поэтому она сперва не протестовала, но когда она поняла, в чем дело, началась возмутительная сцена насилия, повторившаяся потом над Малиновской, Коленкиной и Витанье-вой. В результате Малиновская покушалась на самоубийство,- о чем было напечатано в газетах, разумеется, с умолчанием о причинах. Теперь она психически больна и отвезена в больницу. Остальные находятся в состоянии сильного нервного расстройства.
Наши легальные собраты, вам не нравятся наши теории! Нравятся ли вам сообщенные нами факты? Нравится ли вам волчья пасть графа Лорис-Меликова, или вы еще не разочаровались в его лисьем хвосте?
* По сведениям «Голоса» от 4-го июня, в восточную Сибирь проследовало 64 человека политических ссыльных, из которых 23 административных. По нашим сведениям, в Москве на 14 июля была собрана новая партия в 83 человека политических ссыльных, из которых административных свыше 30 человек
2. ЕЩЕ О ЛИСЬЕМ ХВОСТЕ
Наши легальные собраты так усердно восторгались земным раем, насаждением которого занят граф Лорис-Меликов, что, наконец, сам граф решил выгнать их из рая.
Такого-то числа редакторы газет и журналов были приглашены к графу для выслушания отеческого наставления. Наши собраты привыкли к,подобным наставлениям. Они выслушивали их и от Макова, и от Григорьева 16, не говоря о периодических, канцелярски лаконических письменных приказаниях не писать о том, о сем, об этом, о короле прусском, о пирогах с сигом, о тетке Варваре, о тверди небесной, о гадах земных; в особенности о гадах.
Приглашения предстать пред светлые очи министра или начальника управления по делам печати практикуются сравнительно редко, но зато в этих торжественных случаях из-под перьев наших собратов выхватываются уже не тетка Варвара или какой-нибудь единичный гад, а целые отделы литературы. Последнее приглашение состоялось на другой день после взрыва в Зимнем дворце17, когда Григорьев наложил табу на 1) народное образование, 2) политические отношения России к Германии и 3) крестьянские наделы и переселения.
Не удивительно, что редакция «Народной воли» не была до сих пор приглашена на эти собрания. Но мы надеялись, что граф Лорис-Меликов, будучи либеральным чиновником, а также искоренив крамолу, пришлет нам пригласительную повестку. Мы ошиблись: нашего представителя не было в приемном покое графа. Получив поэтому сведения об отеческом наставлении графа из вторых рук, мы не можем передать содержание графской речи с полнотою и точностью тем более желательными, что наши собраты, конечно, не расскажут публике, как их выгоняли из рая.
Граф начал с того, чем он всегда начинает, — помахал пушистым лисьим хвостом. Он сказал несколько слов о своем уважении к печати, оказавшей столько услуг при осуществлении реформаторских предначертаний... Но, продолжал граф, волновать общественное мнение намеками на необходимость конституции, земского собора или вообще какого-нибудь решительного шага печать отнюдь не должна. Ничего подобного не имеется в виду и не будет. Ему, графу, восторги печати тем неприятнее, что неосновательные надежды связываются с его именем. Граф готов сделать, что может, но он может сделать немного. Он уже объединил полицию и снарядил сенаторские ревизии, которые на месте узнают нужды населения; он возвратит земству его права, следующие ему по положению, предоставит печати критику правительственных мероприятий и избавит ее от административных кар, если только печать послушается его отеческого наставления и по добру по здорову уберется из рая. Вот все, что граф может обещать.
«И за это спасибо!»—-подумали, вероятно, наши, привыкшие к благодарности собраты: все-таки «критика» предоставляется, и по крайней мере с точностью обозначаются пределы свободного слова. Граф поспешил разочаровать редакторов. Переходя от общего к частному, он взял со стола номер газеты «Молва»18 и прочитал редактору ее, г. Полетике, наставление по поводу какого-то фельетона, в котором заключаются непочтительные отзывы о попечителе одесского учебного округа... «У вас есть дети?» — спросил между прочим граф редактора. — «Есть». — Так как же вы не понимаете, что подобными статьями подрываете уважение к школьному начальству?» Взял граф другой номер «Молвы» и прочитал наставление по поводу передовой статьи о необходимости подчинить администрацию самоуправлению. «Вы ведь и сами не верите тому, что пишете»,— закончил граф. «Ваше сиятельство, — возразил г. Полетика, — я не желаю выслушивать подобные упреки». Граф моментально спрятал свой лисий хвост и разинул волчий рот. «Как! — вскричал он. — Так я закрою вашу газету!» Г. Полетика с мужеством, которого мы, признаться, от него не ожидали, — отвечал: «Ваше сиятельство, можете закрыть газету, можете подвергнуть ее какому угодно взысканию, но я повторяю, что не желаю слушать эти упреки». — «Наконец я вам передаю высочайшее повеление, чтобы подобных статей больше не было», — замял граф щекотливый разговор и, уже не экзаменуя других редакторов по одиночке, отпустил их.
Подводим итоги:
1) земной рай торжественно ликвидирован. По собственному признанию граф Лорис-Меликова, рай существует только личными его, графа, добрыми намерениями, но
2) намерения графа более, чем скромны, а сам он достаточно сильный, чтоб закрыть газету за обнаружение редактором человеческого достоинства, по собственному признанию, бессилен; в виду этого:
3) в частности, пределы свободного слова остаются прежние, потому что возбраняется свободное осуждение даже деятельности попечителя учебного округа, а следовательно, и всякого другого чиновника.
Собраты! вы рай во сне видели! Пора вставать!
Впервые статья была напечатана без подписи в «Листках Народной воли» (№ 2, 20 августа 1880 г., стр. 3—5; № 3, 20 сентября 1880 г., стр. 7). Название «Лисий хвост и волчий рот» было дано статье впоследствии.
Критик и публицист, идеолог народничества Николай Константинович Михайловский (1842—1904) был, по словам В. И. Ленина, «одним из лучших представителей и выразителей взглядов русской буржуазной демократии в последней трети прошлого века» (Поли. собр. соч., т. 24, стр.333). Входя в число ведущих сотрудников «Отечественных записок» в семидесятые-восьмидесятые годы, Михайловский становится после смерти Н. А. Некрасова соредактором журнала. В эти же, годы установились у Михайловского тесные связи с революционно-народническим подпольем, и хотя организационно он не входил в тайное общество «Народная воля», Михайловский часто выступал на страницах нелегальных народнических изданий, принимал участие в редактировании нескольких номеров газеты «Народная воля».
С 1892 г. Михайловский сотрудник, а затем и руководитель либерально-народнического журнала «Русское богатство», яростно боровшегося против марксизма и русских социал-демократов. В. И. Ленин, постоянно подвергая уничтожающей критике либерально-народнические «грехи» Михайловского, в то же время отмечал и положительные стороны его общественной и литературной деятельности, его заслуги в истории русского освободительного движения. Михайловский, — писал В. И. Ленин в статье «Народники о Н. К. Михайловском» (1914), — «горячо сочувствовал угнетенному положению крестьян, энергично боролся против всех и всяких проявлений крепостнического гнета, отстаивал в легальной, открытой печати — хотя бы намеками сочувствие и уважение к «подполью», где действовали самые последовательные и решительные демократы разночинцы, и даже сам помогал прямо этому подполью» (Поли. собр. соч. т. 24 стр. 333 —334).
Статья «Лисий хвост и волчий рот» направлена против министра внутренних дел М. Т Лорис-Меликова (1821—1888) бывшего фактическим диктатором \ России. В феврале 1880 г. Лорис-Меликов был назначен председателем ' «Верховной распорядительной комиссии для поддержания государственного порядка и общественного спокойствия» с неограниченными правами и полномочиями (ему были подчинены все министры и генерал-губернаторы даже судебная власть сначала не имела силы по отношению к его распоряжениям). В августе того же года Лорис-Меликов стал министром внутренних дел с подчинением ему корпуса жандармов и тайной полиции. Жестокую борьбу с революционным движением Лорис-Меликов прикрывал обещаниями незначительных либеральных подачек. «Народная воля» поэтому постоянно разоблачала «политику двусмысленностей», проводимую Лорис-Меликовым, считая, что «личности, подобные графу, страшны не интенсивностью своей деятельности, но деморализациею, которую они вносят в сферы нашего общежития» «Народная воля», № 3, 1 января 1889 г., стр. 17). Вскоре после убийства народовольцами Александра II Лорис-Меликов был вынужден уйти в отставку.
Печатается по изданию: Н. К. Михайловский. Поли. собр. соч. Изд. 2. Т. 10. Спб., 1913, стлб. 37—44.
1 Имеется в виду памятник К. Минину и Д. Пожарскому работы скульптора И. П Мартоса, установленный на Красной площади в Москве (1818).
2 Здесь: помощником, заместителем императора (от франц. subalterne — низший, подчиненный, подначальный).
3 Слова Молчалина из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».
4 Муссировать (от франц. mousser) — взбивать пену, пениться; в переносном смысле — преувеличивать, раздувать значение.
6Млодецкий И. О. (1855—1880) стрелял в Лорис-Меликова 20 февраля 1880 г., но промахнулся. Казнен 22 февраля 1880 г.
6 Толстой Д. А. (1823—1889)—реакционнейший царский чиновник, с 1865 г. — обер-прокурор Синода, в 1866—1880 гг. — министр народного просвещения. Провел реформу средней школы, положив в ее основу «классическое» образование, т. е. преимущественное изучение древних языков в ущерб общеобразовательным дисциплинам, осуществлял сословный принцип в системе образования: для простого народа — низшая церковно-приходская школа, для буржуазии и купцов — реальные училища, для дворян — классическая гимназия и университет. Подготовил введение нового университетского устава, упразднившего позже университетскую автономию. Во -время диктаторства Лорис-Меликова ушел в отставку, вместо него министром народного просвещения был назначен «более либеральный» А. А. Сабуров (1838—1916). С 1882 г. Толстой — министр внутренних дел, шеф жандармов и одновременно президент Академии наук.
1 С а б у р о в А. А. — см. прим. 6. А б а з а Н. С. (1837—1901) — член Верховной распорядительной комиссии, в 1880 г.—начальник Главного управления по делам печати. Марков П. А. (1841—1913)—товарищ министра народного просвещения с 1880 г., иногда временно управлял этим министерством. В 1883 г. был назначен товарищем министра юстиции. Бунге Н. X. (1823—1895) —товарищ министра финансов в 1880 г., затем—в 1881—1886 гг. министр финансов, в 1887—1895 гг. — председатель комитета министров.
8 Дрентельн А. Р. (1820—1888) — генерал-адыотант, шеф жандармов и главный начальник III отделения в 1878—1880 гг. С февраля 1880 г. корпус жандармов и III отделение были подчинены Лорис-Меликову.
9 Имеретинский А. К., князь (1837—1900)—генерал-адьютант, в 1880—1891 гг. — главный военный прокурор и начальник Главного военно-судного управления.
10 Студент В. В. Ванчаков и его товарищи были арестованы по подозрению и народнической пропаганде. Осужденные в 1880 г. всего на два месяца, они были «высочайше» помилованы.
и Фомин (настоящая фамилия — А. Ф. Медведев) был осужден в 1879 г. за попытку освободить П. И. Войнаральского; из тюрьмы бежал. В. С. Ефремов был приговорен к каторжным работам в Сибири.
12 Народовольцы А. Ф. Михайлов, О. Э. Веймар, А. Д. Сабуров (Оболешев), а также упоминаемые в статье Михайловского А. Н. Малиновская,
М. А. Коленкина, О. А. Натансон и О. В. Витаньева были арестованы и осуждены по делу об убийстве 4 августа 1878 г. шефа жандармов и главного начальника III отделения Н. В. Мезенцов,а.
13 Мезенцова убил С. М. Степняк-Кравчинский.
14 Черевин- П. А. (1837—1896)—товарищ министра внутренних дел и начальник полиции в 1880—1883 гг.
15 Принципал (устар.) — начальник, хозяин.
16 Маков —см. прим. 3 на стр. 359. Григорьев В. В. (1816—1881) — ученый-востоковед, был начальником Главного управления по делам печати до назначения на эту должность Н. С. Абазы (см. прим. 7-).
17 Имеется в виду взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г., организованный Степаном Халтуриным с целью убийства Александра II.
18 «М о л в а»— политическая, экономическая и литературная ежедневная газета либерально-буржуазного направления. Издавалась в Петербурге в 1879—1881 гг. Издателем-редактором ее был журналист и промышленный деятель В. А. Полетика (1820—1888).
Л.Н.Толстой
СТЫДНО
В 1820-х годах семеновские офицеры, цвет тогдашней молодежи, большей частью масоны и впоследствии декабристы, решили не употреблять в своем полку телесного наказания, и, несмотря на тогдашние строгие требования фронтовой службы, полк и без употребления телесного наказания продолжал быть образцовым.
Один из ротных командиров Семеновского же полка, встретясь раз с Сергеем Ивановичем Муравьевым ', одним из лучших людей своего, да и всякого, времени, рассказал ему про одного из своих солдат, вора и пьяницу, говоря, что такого солдата ничем нельзя укротить, кроме розог. Сергей Муравьев не сошелся с ним и предложил взять этого солдата в свою роту.
Перевод состоялся, и переведенный солдат в первые же дни украл у товарища сапоги пропил их- и набуянил. Сергей Иванович собрал роту и, вызвав перед фронт солдата, сказал ему: «Ты знаешь, что у меня в роте не бьют и не секут, и тебя я не буду наказывать. За сапоги, украденные тобой, я заплачу свои деньги, но прошу тебя, не для себя, а для тебя самого, подумать о своей жизни и изменить ее». И, сделав дружеское наставление солдату, Сергей Иванович отпустил его.
Солдат опять напился и подрался. И опять не наказали его, но только уговаривали: «Еще больше повредишь себе; если же ты исправишься, то тебе самому станет лучше. Поэтому прошу тебя больше не делать таких вещей».
Солдат был так поражен этим новым для него обращением, что совершенно изменился и стал образцовым солдатом.
Рассказывавший мне это брат Сергея Ивановича, Матвей Иванович2, считавший, так же как и его брат и все лучшие люди его времени, телесное наказание постыдным остатком варварства, позорным не столько для наказываемых, сколько для наказывающих, никогда не мог удержаться от слез умиления и восторга, когда говорил про это. И, слушая его, трудно было удержаться от того же.
Так смотрели на телесное наказание образованные русские люди 75 лет тому назад. И вот прошло 75 лет, и в наше время внуки этих людей заседают в качестве земских начальников в присутствиях и спокойно обсуждают вопросы о том, должно ли или не должно, и сколько ударов розгами должно дать такому и такому-то взрослому человеку, часто отцу семейства, иногда деду. Самые же передовые из этих внуков в комитетах и земских собраниях составляют заявления, адресы и прошения о том, чтобы ввиду гигиенических и педагогических целей сечь не всех мужиков, людей крестьянского сословия, а только тех, которые не кончили курса в народных училищах.
Очевидно, перемена в среде так называемого высшего образованного сословия произошла огромная. Люди 20-х годов, считая телесное наказание позорным действием для себя, сумели уничтожить его в военной службе, где оно считалось необходимым; люди нашего времени спокойно применяют его не над солдатами, а над всеми людьми одного из сословий русского народа и осторожно, политично, в комитетах и собраниях, со всякими оговорками и обходами, подают правительству адресы и прошения о том, что наказание розгами не соответствует требованиям гигиены и потому должно бы было быть ограничено, или что желательно бы было, чтобы секли только тех крестьян, которые не кончили курса грамоты, или чтобы были уволены от сечения те крестьяне, которые подходят под манифест по случаю бракосочетания императора.
Очевидно, совершилась страшная перемена в среде так называемого высшего русского общества; и что удивительнее всего,— что эта перемена совершилась именно тогда, когда в том самом одном сословии, которое считается необходимым подвергать отвратительному, грубому и глупому истязанию сечения, в этом самом сословии совершилась за эти 75 лет, а в особенности за последние 35 лет со времени освобождения, такая же огромная перемена, но только в обратном направлении.
В то время как высшие правящие классы так огрубели и нравственно понизились, что ввели в закон сечение и спокойно рассуждают о нем, в крестьянском сословии произошло такое повышение умственного и нравственного уровня, что употребление для этого сословия телесного наказания представляется людям из этого сословия не только физической, но и нравственной пыткой.
Я слышал и читал про случаи самоубийства крестьян, приговоренных к розгам. И не могу не верить этому, потому что сам видел, как самый обыкновенный молодой крестьянин при одном упоминании на волостном суде о возможности совершения над ним телесного наказания побледнел, как полотно и лишился голоса; видел также, как другой крестьянин, 40 лет, приговоренный к телесному наказанию, заплакал, когда на вопрос мой о том, исполнено ли решение суда, должен был ответить, что оно уже исполнено.
Знаю я тоже, как знакомый мне почтенный, пожилой крестьянин, приговоренный к розгам за то, что он, как обыкновенно, поругался с старостой, не обратив внимания на то, что староста был при знаке, был приведен в волостное правление и оттуда в сарай, в котором приводятся в исполнение наказания. Пришел сторож с розгами; крестьянину велено было раздеться.
— Пармен Ермилыч, ведь у меня сын женатый,— дрожа всем телом, сказал крестьянин, обращаясь к старшине.— Разве нельзя без этого? Ведь грех это.
— Начальство, Петрович... я бы рад, что делать?—отвечал смущенный старшина.
Петрович разделся и лег.
— Христос терпел и нам/велел,— сказал он.
Как рассказывал мне присутствовавший писарь, у всех тряслись руки, и все не смели смотреть в глаза друг другу, чувствуя, что они делают что-то ужасное. И вот этих-то людей считают необходимым и, вероятно, полезным для кого-то, как животных,— да и животных запрещают истязать,— сечь розгами.
Для блага нашего христианского и просвещенного государства необходимо подвергать нелепейшему, неприличнейшему и оскорбительнейшему наказанию не всех членов этого христианского просвещенного государства, а только одно из его сословий, самое трудолюбивое, полезное, нравственное и многочисленное.
Высшее правительство огромного христианского государства, 19 веков после Христа, ничего не могло придумать более полезного, умного и нравственного для противодействия нарушениям законов, как то, чтобы людей, нарушавших законы, взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить прутьями по заднице*.
И люди нашего времени, считающие себя самыми передовыми, внуки тех людей, которые 75 лет тому назад уничтожили телесное наказание, теперь почтительнейше и совершенно серьезно просят господина министра и еще кого-то о том, чтобы поменьше сечь взрослых людей русского народа, потому что доктора находят, что это нездорово, не сечь тех, которые кончили курс, и избавить от сечения тех, которых должны сечь вскоре после бракосочетания императора. Мудрое же правительство глубокомысленно молчит на такие легкомысленные заявления или даже воспрещает их.
Но разве можно об этом просить? Разве может быть об этом вопрос? Ведь есть поступки, совершаются ли они частными людьми, или правительствами, про которые нельзя рассуждать хладнокровно, осуждая совершение этих поступков только при известных условиях. И сечение взрослых людей одного из сословий русского народа в наше время и среди нашего кроткого и христиански-просвещенного народа принадлежит к такого рода поступкам. Нельзя для прекращения такого преступления всех законов божеских и человеческих политично подъезжать к правительству со стороны гигиены, школьного образования или манифеста. Про такие дела можно или совсем не говорить, или говорить по существу Дела и всегда с отвращением и ужасом. Ведь просить о том, чтобы не стегать по оголенным ягодицам только тех из людей крестьянского сословия, которые выучились грамоте, все равно, что если бы, — где существовало наказание прелюбодейной жене, состоящее в том, чтобы, оголив эту женщину, водить ее по улицам,— просить о том, чтобы наказание это применять только к тем женщинам, которые не умеют вязать чулки или что-нибудь подобное.
Про такие дела нельзя «почтительнейше просить» и «повергать к стопам» и т. п., такие дела можно и должно только обличать. Обличать же такие дела должно потому, что дела эти, когда им придан вид законности, позорят всех нас, живущих в том государстве, в котором дела эти совершаются. Ведь если сечение крестьян — закон, то закон этот сделан и для меня, для обеспечения моего спокойствия и блага. А этого нельзя допустить. Не хочу и не могу я признавать того закона, который нарушает все законы божеские и человеческие, и не могу себя представить солидарным с теми, которые пишут и утверждают такие преступления под видом закона.
Если уже говорить про это безобразие, то можно говорить только одно: то, что закона такого не может быть, что никакие указы, зерцала, печати и высочайшие повеления не сделают закона из преступления, а что, напротив, облечение в законную форму такого преступления (как то, что взрослые люди одного, только одного, лучшего сословия могут по воле другого, худшего сословия — дворянского и чиновничьего — подвергаться неприличному, дикому, отвратительному наказанию) доказывает лучше всего, что там, где такое мнимое узаконение преступления возможно, не существует никаких законов, а только дикий произвол грубей власти.
Если уже говорить про телесное наказание, совершаемое только над одним крестьянским сословием, то надо не отстаивать прав земского собрания или жаловаться на губернатора, опротестовавшего ходатайство о несечении грамотных, министру, а на министра сенату, а на сенат еще кому-то, как это предлагает тамбовское земство, а надо не переставая кричать, вопить о том, что такое применение дикого, переставшего уже употребляться для детей наказания к одному лучшему сословию русских людей есть позор для всех тех, кто, прямо или косвенно, участвуют в нем.
Петрович, который лег под розги, перекрестившись и сказал: «Христос терпел и нам велел», простил своих мучителей и после розог остался тем, чем был. Одно, что произвело в нем совершенное над ним истязание,— это презрение к той власти, которая, может предписывать такие наказания. Но ца многих молодых людей не только самое наказание, но часто одно .признание того, что оно возможно, действует, понижая их нравственное чувство и возбуждая иногда отчаянность, иногда зверство. Но не тут еще главный вред этого безобразия. Главный вред — в душевном состоянии тех людей, которые устанавливают, разрешают, предписывают это беззаконие, тех, которые пользуются им, как угрозой, и всех тех, которые живут в убеждении, что такое нарушение всякой справедливости и человечности необходимо для хорошей, правильной жизни. Какое страшное нравственное искалечение должно происходить в умах и сердцах таких людей, часто молодых, которые, я сам слыхал, с видом глубокомысленной практической мудрости говорят, что мужика нельзя не сечь и что для мужика это лучше.
Вот этих-то людей больше всего жалко за то озверение, в которое они впали и в котором коснеют.
И потому освобождение русского народа от развращающего влияния узаконенного преступления — со всех сторон дело огромной важности. И освобождение это произойдет не тогда, когда будут изъяты от телесного наказания кончившие курс, или еще какие-нибудь из крестьян, или даже все крестьяне, за исключением хотя' бы одного, а только тогда, когда правящие классы признают свой грех и смиренно покаются в нем.
14 декабря 1895
* И почему именно этот глупый, дикий прием причинения боли, а не какой-нибудь другой: колоть иголками плечи или какое-либо другое место тела, сжимать в тиски руки или ноги или еще что-нибудь подобное?
Впервые статья появилась в газете «Биржевые ведомости» 28 декабря 1895 г. Текст ее был изуродован большими цензурными пропусками и искажениями. Спустя несколько дней —31 декабря — статья с еще большими сокращениями была опубликована газетой «Русские ведомости». Полностью статья была напечатана в «Листках Свободного слова» (1899, № 4, стр. 1—5), издаваемых в Англии последователем толстовского учения. В. Г. Чертковым.
Телесные наказания — «постыдный остаток варварства» — всегда вызывали гневное осуждение Льва Николаевича Толстого, что отразилось и в ряде его произведений (например,. «Отрочество», «Николай Палкин», «Царство божие внутри нас», «После бала»). Весной 1895 г. группа сельских учителей Киевской губернии прислала Толстому письмо, в котором просила его сказать «свое могучее печатное слово» против применения телесных наказаний к крестьянам, на что писатель ответил согласием.
Статья была закончена во второй половине декабря 1895 г. Дату 14 декабря 1895, обозначавшую вначале время написания одного из вариантов статьи, Толстой перенес и в окончательную редакцию. Это напоминание о годовщине восстания декабристов на Сенатской площади еще сильнее подчеркивало противопоставление в статье высоких гуманных принципов декабристов аморальности и бесчеловечности современного писателю высшего общества, для которого законом стал «дикий произвол грубой власти».
Печатается по изданию: Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч. Т. 31. М., 1954, стр. 72—77.
1 Муравьев-Апостол С. И. — см. вступительную заметку к прим. на стр. 55.
2 Муравьев-Апостол М. И. (1793—1886)—видный декабрист, брат С. И. Муравьева-Аппостола; был приговорен к каторге, а затем к ссылке в Сибирь. После амнистии поселился в Москве (с 1860 г.), где с ним встречался
Л. Н. Толстой."
Вопросы и задания.
1. Формирование и развитие народнической идеологии в России. Разные точки зрения народников на переустройство общественно-политической системы («Народная воля» и «Черный передел»).
2. Участие народников в изданиях различных типов.
3. Статья Н.К.Михайловского «Волчий рот и лисий хвост»: особенности жанра; проблематика; система аргументации; стилистические особенности.
4. Л.Н.Толстой – публицист: тематика, проблематика, стиль. Статья «Стыдно».
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 245; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
