Русская журналистика и критика 30-х годов 19 века
После разгрома восстания декабристов в России усиливаются политическое давление. Николай 1 создает 111 отделение императорской канцелярии для борьбы с вольнодумством и революционным движением. Против свободомыслия борются также и Министерство просвещения, и суровая цензура (принят жесткий «чугунный» устав 1826 г.). В качестве национальной идеи предлагается «теория официальной народности» с формулой «православие, самодержавие, народность».Усиливается фланг официальной журналистики, появляется монополия на политические новости, формируется тип журналиста-приспособленца ( Ф.Булгарин, Н.Греч).
В связи с капитализацией экономики в журналистике складывается так называемое «торговое направление», главной целью которого становится прибыль любой ценой, а следовательно, понижение читательского вкуса и нравственных ценностей в обществе ( газета «Северная пчела» Булгарина и Греча, журнал «Библиотека для чтения» О.Сенковского). Против «торгового направления» в журналистике активно выступали лучшие писатели, публицисты, критики: А.С.Пушкин («Литературная газета», журнал «Современник»), Н.А.Полевой ( журнал «Московский телеграф»), Н.И.Надеждин ( журнал «Телескоп»), В.Г.Белинский («Телескоп», «Московский наблюдатель»). Власть со своей стороны активно преследовала их. Так в 1836 году за публикацию Первого философического письма П.Я.Чаадаева был закрыт журнал «Телескоп», его редактор Надеждин был отправлен в ссылку, а автор публикации объявлен сумасшедшим за своеобразный взгляд на историческое прошлое и настоящее России.
|
|
|
Практическое занятие 7
А.С.Пушкин
О ЗАПИСКАХ ВИДОКА
В одном из № «Литературной Газеты» упоминали о Записках парижского палача: нравственные сочинения Видока, полицейского сыщика, суть явление не менее отвратительное, не менее любопытное.
Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отьявленного плута, столь же бесстыдного, как и -гнусного, и потом вообразите себе, если можете, чт.о должны быть нравственные сочинения такого человека.
Видок в своих записках именует себя патриотом, коренным французом (un bоn Francais), как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество! Он уверяет, что служил в военной службе, и как ему не только дозволено, но и предписано всячески переодеваться, то и щеголяет орденом Почетного Легиона, возбуждая в кофейнях негодование честных бедняков, состоящих на половинном жалованье (officiers a ia demi-soide). Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей, находившихся в сношении с ним (кто молод не бывал? а Видок человек услужливый, деловой). Он с удивительной важностию толкует о хорошем .обществе, как будто вход в оное может ему быть дозволен, и строго рассуждает об известных писателях, отчасти надеясь на их презрение, отчасти по расчету: суждения Видока о Казимире де ла Вине, о Б. Констане должны быть любопытны именно по своей нелепости.
|
|
|
Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге (слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений: раздражительность, смешная во всяком другом писаке, но в Видоке утешительная, ибо видим из нее, что человеческая природа, в самом гнусном своем уничижении, все еще сохраняет благоговение перед понятиями, священными для человеческого рода.
Предлагается важный вопрос:
Сочинения шпиона Видока, палача Самсона и проч. не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности в общем смысле этого слова; со всем тем, нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?
|
|
|
Напечатано в № 20 "Литературной Газеты" 16 апреля 1830 г. в отделе "Смесь". Принадлежность Пушкину определяется заметкой в "Литературной Газете" 9 августа. "Издателю "Северной Пчелы" "Литературная Газета" кажется печальною: сознаемся, что он прав, и самою печальнейшею статьею находим мнение А.С. Пушкина о сочинениях Видока". Пушкин в это время находился в Москве. В дневнике Погодина 18 марта 1830 г. имеется запись: Пушкин "давал статью о Видоке и догадался, что мне не хочется помещать ее (о доносах, о фискальстве Булгарина), и взял". Статья о Видоке явилась ответом на пасквильный "Анекдот" Булгарина, в котором он вывел Пушкина под видом французского писателя, который "в своих сочинениях не обнаружил ни одной мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины; у которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова, род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно исступленным в басне Пильпая, бросающим камнями во всё священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан; который марает белые листы на продажу, чтоб спустить деньги на крапленых листах, и у которого одно господствующее чувство — суетность". В Видоке Пушкин изобразил самого Булгарина. Пушкин намекает на сомнительное прошлое жены Булгарина, на его службу во французских войсках во время войны 1812г., на его похвальбу дружбой с Грибоедовым и на политические его доносы. Характеристика была настолько точной, что смысл заметки ни для кого не был темным. В ответ на эту заметку Булгарин выступил с новым пасквилем о происхождении Пушкина от негритенка, купленного за бутылку рома (см. "Моя родословная").
|
|
|
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МИЗИНЦЕ Г. БУЛГАРИНА И О ПРОЧЕМ
Я не принадлежу к числу тех незлопамятных литераторов, которые, публично друг друга обругав, обнимаются потом всенародно, как Пролаз с Высоносом, говоря в похвальбу себе и в утешение: Ведь, кажется, у нас по полной оплеухе.
Нет: рассердясь единожды, сержусь я долго и утихаю не прежде, как истощив весь запас оскорбительных примечаний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного. Для поддержания же себя в сем суровом расположении духа, перечитываю я тщательно мною переписанные в особую тетрадь статьи, подавшие мне повод к таковому 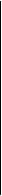
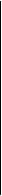 ожесточению. Таким образом, пересматривая на днях антикритику, подавшую мне случай заступиться за почтенного друга моего А. А. Орлова, напал я на следующее место:
ожесточению. Таким образом, пересматривая на днях антикритику, подавшую мне случай заступиться за почтенного друга моего А. А. Орлова, напал я на следующее место:
— «Я решился на сие — (на оправдание Г, Булгарина) — не для того, чтоб оправдать и защищать Булгарина, который в этом не имеет надобности, ибо у него в одном мизинце более ума и таланта, нежели во многих головах рецензентов (см. № 27 «Сына Отечества», издаваемого гг. Гречем и Булгариным).
Изумился я, каким образом мог я пропустить без внимания сии красноречивые, но необдуманные строки! Я стал по пальцам пересчитывать всевозможных рецензентов, у коих менее ума в голове, нежели у г. Булгарина в мизинце, а теперь догадываюсь, кому Николай Иванович думал погрозить мизинчиком Фаддея Венедиктовича.
В самом деле, к кому может отнестись это затейливое выражение? Кто наши записные рецензенты?
Вы, г. издатель «Телескопа»? Вероятно, мстительный мизинчик указует и на вас: предоставляю вам самим вступиться за свою голову. [До мизинцев ли мне. Изд.] Но кто же другие?
Г. Полевой? Но несмотря на прежние раздоры, на письма Бригадирши, на насмешки славного Грипусье, на недавнее прозвище Верхогляда и проч. и проч., всей Европе известно, что «Телеграф» состоит в добром согласии с «Северной Пчелой» я «Сыном Отечества»: мизинчик касается не его.
Г. Воейков? Но сей замечательный литератор рецензиями мало занимается, а известен более изданием Хамелеонистики, остроумного сбора статей, в коих выводятся, так сказать, на чистую воду некоторые, так сказать, литературные плут-ни. Ловкие издатели «Северной Пчелы» уж верно не станут, как говорится, класть ему пальца в рот, хотя бы сей палец был и знаменитый, вышеупомянутый мизинчик.
Г. Сомов? Но, кажется, «Литературная Газета», совершив свой единственный подвиг — совершенное уничтожение (литературной) славы г. Булгарина, — почиет на своих лаврах, и г. Греч, вероятно, не станет тревожить сего счастливого усыпления, щекота Газету проказливым мизинчиком.
Кого же оцарапал сей мизинец? Кто сии рецензенты, у коих — и так далее? Просвещенный читатель уже догадался, что дело идет обо мне, о Феофилакте Косичкине.
Всему свету известно, что никто постояннее моего не следовал за исполинским ходом нашего века. Сколько глубоких и блистательных творений по части политики, точных наук и чистой литературы вышли у нас из печати в течение последнего десятилетия (шагнувшего так далеко вперед) и обратило на себя справедливое внимание завидующей нам Европы! Ни одного из таковых явлений не пропустил я из виду; обо всяком, как известно, написал я по одной статье, отличающейся учено-стию, глубокомыслием и остроумием. Если долг беспристрастия требовал, чтоб я указывал иногда на недостатки разбираемого мною сочинения, то может ли кто-нибудь из гг. русских авторов жа-ловаться на заносчивость или невежество Феофи-лакта Косичкина? Может быть, по примеру г. Полевого, я слишком лестно отзываюсь о самом себе; я мог бы говорить в третьем лице и попросить моего друга подписать имя свое под сими справедливыми похвалами; но я гнушаюсь таковым уловками, и гг. русские журналисты, вероятно, не укорят меня в шарлатанстве.
И что ж! Г. Греч в журнале, с жадностию читаемом во всей просвещенной Европе, даст понимать, будто бы в мизинце его товарища более ума и таланта, чем в голове моей! Отзыв слишком для меня оскорбительный! Полагаю себя вправе объявить во услышание всей Европы, что я ничьих мизинцев не убоюсь; ибо, не входя в рассмотрение голов, уверяю, что пальцы мои (каждый особо i все пять в совокупности) готовы воздать сторицею, кому бы то ни было Dixi [Я сказал].
Взявшись за перо, я не имел, однако ж, целию объявить о сем почтеннейшей публике; подобно нашим писателям-аристократам (разумею слово сие -в его ироническом смысле) а никогда не отвечал на журнальные критики: дружба, оскорбленная дружба призывает опять меня на помощь угнетенного дарования.
Признаюсь: после статьи, в которой так торжественно оправдал и защитил я А. А. Орлова (статьи, принятой московскою и петербургскою публикою с отличной благосклонностию) не ожидал я, чтоб «Северная Пчела» возобновила свои нападения на благородного друга моего и на первопрестольную столицу. Правда, сии нападения уже гораздо слабее прежних, но я не умолкну, доколе не принужу к совершенному безмолвию ожесточенных гонителей моего друга и непочтительного «Сына Отечества», издевающегося над нашей древнею Москвою.
«Северная Пчела» (№ 101), объявляя о выходе нового Выжигина, говорит: «Заглавие сего романа заставило нас подумать, что это одно из многочисленных подражаний произведениям нашего блаженного г. А Орлова, знаменитого автора... Притом же всякое произведение московской литературы, носящее на себе печать изделия книгопродавцев пятнадцатого класса... приводит нас в невольный трепет». — «Блаженный г. Орлов»... Что значит блаженный Орлов? О! конечно: если блаженство состоит в спокойствия духа, не возмущаемого ни завистью, ни корыстолюбием; в чистой совести, не запятнанной ни плутнями, ни лживыми доносами; в честном и благородном труде, в смиренном развитии дарования, данного от Бога, — то добрый и небогатый Орлов блажен и не станет завидовать ни богатству плута, ни чинам негодяя, ни известности шарлатана!!! Если же слово блаженный употреблено в смысле, коего здесь изъяснять не стану, то удивляюсь охоте некоторых людей, старающихся представить смешными вещи, вовсе не смешные, и которые даже не могут извинять неприлична мысли остроумием или веселости» оборота.
Насмешки над книгопродавцами пятнадцатого класса обличают аристократию чиновных издателей, некогда осмеянную так называемыми аристократическими нашими писателями. Повторим истину, столь же неоспоримую, как и нравственные размышления г. Булгарина: «чины не дают ни честности плуту, ни ума глупцу, ни дарования задорному мараке. Фильдинг и Лабрюер не были ни статскими советниками, да даже коллежскими ассесорамн. Разночинцы, вышедшие в дворянство, могут быть почтенными писателями, если только они люди с дарованием, образованностию и добро-совестностию, а не фигляры и не наглецы».
Надеюсь, что сей умеренный мой отзыв будет последним и что почтенные издатели «Северной Пчелы», «Сына Отечества» и «Северного Архива» не вызовут меня снова на поприще, на котором являюсь редко, но не без успеха, как изволите видеть. Я человек миролюбивый, но всегда готов заступиться за моего друга; я не похожу на того китайского журналиста, который, потакая своему товарищу и в глаза выхваляя его бредни, говорит на ухо всякому: «Этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми порядочными людьми, марает меня своим товариществом; но что делать? он человек деловой и расторопный!»
Между тем, полагаю себя вправе объявить о существовании романа, коего заглавие прилагаю здесь. Он поступит в печать или останется в рукописи, смотря, по обстоятельствам.
Настоящий Выжигин
Историко-нраественно-сатирический роман XIX века
Содержание Глава I. Рождение Выжигина в кудлашкиной конуре. Воспитание ради Христа. Глава II. Первый пасквиль Выжигина. Гарнизон, Глаза III. Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться! Глава IV. Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство. Глава V. Ubi bene, ibi patria . Глава VI. Московский пожар. Выжигин грабит Москву. Глава VII. Выжигин перебегает. Глава VIII. Выжигин без хуска хлеба. Выжигин ябедник. Выжигин торгаш. Глава IX Выжигин игрок. Выжигин и отставной квартальный. Глава X. Встреча Выжигина с Высухиным. Глава XI. Веселая компания. Курьезный куплет и письмо-аноним к знатной особе. Глава XII. Танта. Выжигин попадается в дураки. Глаза XIII. Свадьба Выжигина. Бедный племянничек! Ай да дядюшка! Глава XIV. Господин и госпожа Выжигины покупают на трудовые денежки деревню и с благодарностию объявляют о том почтенной публике. Глава XV. Семейственные неприятности. Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы. Глава XVI. Видок, или маску долой! Глава XVII. Выжигин раскаивается и делается порядочным человеком. Глава XVIII и последняя. Мышь в сыре.
Ф. Косичкин
Напечатано в сентябре 1831 г. в "Телескопе" за подписью "Ф. Косичкин". Статья продолжает полемику против Булгарина, начатую предыдущей статьей. В конце статьи Пушкин намекает на Греча ("китайский журналист"), ра ботавшего совместно с Булгариным, но в частных разговорах постоянно отгораживавшегося от него.План романа "Настоящий Выжигин" является сатирической схемой биографии Булгарина. Некоторые детали этой биографии Пушкин слышал от подполковника Спечинского, который рассказывал (вероятно, в апреле 1830 г.), что знал Булгарина в Ревеле, где он служил разжалованным в солдаты и страдал запоем. Он посещал слугу Спечинского Григория, у которого унес шинель и пропил ее. Главы V—VII основаны на том, что уволенный в 1811 г. из военной службы Булгарнн бежал в Варшаву, затем перебрался во Францию. служил в войсках Наполеона, принимал участие з походе 1812 г., затем вернулся в Россию, занялся журналистикой, после 1825 г., чтобы реабилитировать себя, как человек, бывший в близких отношениях с декабристами, занялся политическими доносами и устроился в качестве официозного журналиста под покровительством шефа жандармов Бенкендорфа. Вместе с Гречем ("Высухин" издавал "Сын Отечества". Как издатель этого журнала и газеты "Северная Пчела" был монополистом в петербургской печати.
ОПЫТ ОТРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НЕЛИТЕРАТУРНЫХ ОБВИНЕНИЙ
Сколько ни удален я моими привычками и правилами от полемики всякого роду, но еще не отрекся а совершенно от права самозащищения.
Southey
У одного из наших известных писателей спрашивали, зачем не возражал он никогда на критики."Критики не понимают меня, — отвечал он, — а я не понимаю моих критиков. Если будем судитъся перед публикою, вероятно, и она нас не поймет". Это напоминает старинную эпиграмму:
Глухой глухого звал к суду судьи глухого.
Глухой кричал: моя им сведена корова.
Помилуй, возопил глухой тому в ответ.
Сей пустошью владел еще покойный дед.
Судья решил: почто ж идти вам брат на брата:
Ни тот и ни другой, а девка виновата.
Можно не удостаивать ответом своих критиков (как аристократически говорит сам о себе издатель Истории русского народа), когда нападения суть чисто литературные и вредят разве одной продаже разбраненной книги. Но из уважения к себе не должно по лености или добродушию оставлять без внимания оскорбления личности и клеветы, ныне, к несчастию, слишком обыкновенные. Публика не заслуживает такого неуважения.
Если в течение 16-летней авторской жизни я никогда не отвечал ни на одну критику (не говорю уж о ругательствах), то сие происходило, конечно, не из презрения.
Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы вообще. Если приговоры журналов наших достаточны для нас, то из сего следует, что мы не имеем еще нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах. Презирать критику значило бы презирать публику (чего Боже сохрани). Как наша словесность с гордостию может выставить перед Европою Историю Карамзина, несколько од, несколько басен, пэан 12 года Жуковского, перевод Илиады, несколько цветов элегической поэзии, — так и наша критика может представить несколько отдельных статей, исполненных светлых мыслей и важного остроумия. Но они являлись отдельно, в расстоянии одна от другой, и не получили веса и постоянного влияния. Время их еще не приспело.
Не отвечал я моим критикам не потому также, чтоб и не доставало во мне веселости или педантства; не потому, чтоб я не полагал в сих критиках никакого влияния на читающую публику. Я заметил, что самое неосновательное суждение, получает вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист кажется святым. Мы все думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!
Но признаюсь, мне совестно было идти судиться перед публикою и стараться насмешить ее (к чему ни малейшей не имею склонности). Мне было совестно для опровержения критик повторять школьные или пошлые истины, толковать об азбуке и риторике, оправдываться там, где не было обвинений, а что всего затруднительнее, важно говорить:
Et moi je vous soutiens que me-s vers sort tres bons!". [ A я утверждаю, что мои стихи очень хороши (из Мольера).]
Например, один из моих критиков, человек впрочем добрый я благонамеренный, разбирая кажется Полтаву, выставил несколько отрывков и вместо всякой критики уверял, что таковые стихи сами себя дурно рекомендуют. Что бы мог я отвечать ему на это! А так поступали почти все его товарищи, ибо критики наши говорят обыкновенно: это хорошо потому, что прекрасно, а это дурно, потому, что скверно. Отселе их никак не выманишь
Еще причина и главная: леность. Никогда не мог я до того рассердиться на непонятливость или недобросовестность, чтоб взять перо и приняться за возражения и доказательства. Нынче, в несносные часы карантинного заключения, не имея с собою ни книг, ни товарища, вздумал для препровождения времени писать возражения не на критики (на это никак не могу решиться), но на обвинения нелитературные, которые нынче в большой моде. Смею уверить моего читателя (если Господь пошлет мне читателя), что глупее сего занятия отроду ничего не мог я выдумать.
----------
Один из великих ваших сограждан сказал однажды мне (он удостаивал меня своего внимания и часто оспаривал мои мнения), что если у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь. Все имеет свою злую сторону — и неуважение к чести граждан и удобность клеветы суть из главнейших невыгод свободы тиснения. У нас, где личность ограждена цензурою, естественно нашли косвенный путь для личной сатиры, имянно обиняки. Первым примером обязаны мы**, который в своем журнале напечатал уморительный анекдот о двух китайских журналистах, которых судия наказал бамбуковою палкою за плутни, унижающие честное звание литератора. Этот китайский анекдот так насмешил публику и так понравился журналистам, что с тех пор, коль скоро газетчик прогневался на кого-нибудь, тотчас в листках его является известие из-за границы (и большею частию из-за китайской), в коем противник расписан самыми черными красками, в лице какого-нибудь вымышленного или безыменного писателя. Большею частию сии китайские анекдоты, если не делают чести изобретательности и остроумию сочинителя, по крайней мере, достигают цели своей по злости, с каковой они написаны. Не узнавать себя в пасквиле безыменном, но явно направленном, было бы малодушием. Тот, о котором напечатают, что человек такого-то звания, таких-то лет, таких-то примет крадет, например, платки из карманов, — все-таки должен отозваться и вступиться за себя, конечно не из уважения к газетчику, но из уважения к публике. Что за аристократическая гордость, дозволять всякому негодяю швырять в вас грязью. Английский лорд равно не отказывается и от поединка на кухенрейтерских пистолетах с учтивым джентльменом и от кулачного боя с пьяным конюхом. Один из наших литераторов, бывший, говорят, в военной службе, отказывался от пистолетов, под предлогом, что на своем веку он вид ел более крови, чем его противник чернил. Отговорка забавная, но в таком случае, что прикажете делать с тем, который, по выражению Шатобриана, comraeun homme de nobie race, outrage et ne se bat pas?" [Как человек благородного происхождения, оскорбляет и не дерётся.]
Однажды (официально) напечатал кто-то, что такой-то французский стихотворец, подражатель Байрону, печатающий критические статьи в "Литературной Газете", человек подлый и безнравственный, а что такой-то журналист, человек умный, скромный, храбрый, служил с честью сперва одному отечеству, потом другому и проч. Француз отвечал подлинно так, что скромный и храбрый журналист об двух отечествах, вероятно, долго будет его помнить. On en rit, j'en ris encore moi-meme". [Над этим посмеялись, я сам ещё смеюсь.]
------------
В другой газете объявили, что я собою весьма неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко меня тронула.
Иной говорит: какое дело критику или читателю хорош ли я собой или дурен, старинный ли дворянин или из разночинцев, добр ли или зол, ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь, играю ли я в карты, и тому под. Будущий мой биограф, коли Бог пошлет мне биографа, об этом будет заботиться. А критику и читателю дело до моей книги и только. Суждение, кажется, поверхностное. Нападения на писателя и оправдания, коим подают они повод, суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц (hommes publics), к одному из главнейших условий высоко образованных обществ. В сем отношении и писатели, справедливо заслуживающие презрение ваше, ругатели и клеветники, приносят истинную пользу: мало-помалу образуется и уважение к личной чести гражданина и возрастает могущество общего мнения, на котором в просвещенном народе основана чистота его нравов.
Таким образом, дружина ученых и писателей, какого б рода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности.
----------
Недавно в Пекине случилось очень забавное происшествие. Некто из класса грамотеев, написал трагедию, долго не отдавал ее в печать, но читал ее неоднократно в порядочных пекинских обществах и даже вверял свою рукопись некоторым мандаринам. Другой грамотей (следуют китайские ругательства) или подслушал трагедию из прихожей (что, говорят, за ним наживалось), или тихонько взял рукопись из шкатулки мандарина (что в старину также с ним случалось) и склеил на скору руку из довольно нескладной трагедии чрезвычайно скучный роман. Грамотей-трагик, человек бесталанный, но смирный, поворчав немного, оставил было в покое похитителя, но грамотей-
Над этим посмеялись, я сам еше смеюсь.
романист, человек ловкий и беспокойный, опасаясь быть обличенным, первый стал кричать изо всей мочи, что трагик Фан-Хо обокрал его бесстыдным образом. Трагик Фан-Хо, рассердясь не на шутку, позвал романиста Фан-Хи в совестный Пекинский суд и проч. и проч.
-----------
Сам съешь [Происхождение сего слова: остроумный человек показывает шиш и говорит язвительно: съешь, а догадливый противник отвечает: сам съешь (Замечание для будуарных или даже для паркетных дам, как журналисты называют дам им незнакомых.) (Примеч. Пушкина.)]. Сим выражением в энергическом наречии вашего народа заменяется более учтивое, но столь же затейливое выражение: "Обратите это на себя". То и другое употребляется нецеремонными людьми, которые пользуются удачно шутками и колкостями своих же противников. "Сам съешь" есть ныне главная пружина нашей журнальной полемики. Является колкое стихотворение, в коем сказано, что Феб, усадив было такого-то, велел его после вывести лакею, за дурной тон и заносчивость, нестерпимую в хорошем обществе — и тотчас в ответ явилась эпиграмма, где то же самое пересказано немного похуже с надписью: Сам съешь".
Поэту вздумалось описать любопытное собрание букашек. — Сам ты букашка, закричали бойкие журналы, и стихи-то твои букашки, и друзья-то твои букашки. — Сам съешь.
Господа чиновные журналисты вздумали было напасть на одного из своих собратиев за то, что он не дворянин. Другие литераторы позволили себе посмеяться над нетерпимостью дворян-журналистов. Осмелились спросить, кто сии феодальные бароны, сии незнакомые рыцари, гордо требующие гербов и грамот от смиренной братии кашей? Что же они в ответ? Помолчав немного, господа чиновные журналисты с жаром возразили, что в литературе дворянства нет, что чваниться своим дворянством перед своею братьею (особенно мещанам во дворянстве) уморительно смешно, что и настоящему дворянину 600-летние его грамоты не помогут в плохой прозе или посредственных стихах. Ужасное "Сам съешь" ! К несчастию в "Литературной Газете" отыскали, кто были аристократические литераторы, открывшие гонение на недворянство. А публика-то что? А публика, как судия беспристрастный и благоразумный, всегда соглашается с тем, кто последний жалуется ей. Например, в сию минуту она, покамест, совершенно согласна с нашим мнением: т. е. что "сам съешь" вообще показывает или мало остроумия или большую надеянность на беспамятство читателей и что фиглярство и недобросовестность унижают почтенное звание литераторов, как сказано в Китайском анекдоте №1
Мы так привыкли читать ребяческие критики, что они даже нас и не смешат Но что сказали бы мы, прочитав, например, следующий разбор Расиновой "Федры", (если б к несчастию написал ее русский и в наше время).
"Нет ничего отвратительнее предмета, избранного г. сочинителем. Женщина замужняя, мать семейства влюблена в молодого олуха, побочного сына ее мужа (!!!). Какое неприличие! Она не стыдится в глаза ему признаваться в развратной страсти своей (!!!!). Сего недовольно: сия фурия, употребляя во зло глупую легковерность супруга своего, взносит на невинного Ипполита гнусную небывальщину, которую из уважения к нашим читательницам не смеем даже объяснить (!!!). Злой старичишка, не входя в обстоятельства, не разобрав дела, проклинает своего собственного сына (!!) — после чего Ипполита разбивают лошади (!!!); Федра отравливается, ее гнусная наперсница утепляется и точка. И вот что пишут, не краснея, писатели, которые, и проч. (тут личности и ругательства); вот до какого разврата дошла у нас литература — кровожадная, развратная ведьма с прыщиками на лице!"
Шлюсь на совесть самих критиков. Не так ли, хотя и более кудрявым слогом, разбирают они каждый день сочинения, конечно, не равные достоинством произведениям Расина, но, верно, ничуть не предосудительнее оных в нравственном отношении.
Спрашиваем: должно ли и можно ли серьезно отвечать на таковые критики, хотя б они были писаны и по-латыни, а приятели называли это глубокомыслием.
Если б "Недоросль", сей единственный памятник народной сатиры, "Недоросль", которым некогда восхищалась Екатерина и весь ее блестящий двор, если б "Недоросль" явился в наше время, то в наших журналах, посмеясь над правописанием Фонвизина, с ужасом заметили бы, что Простако-ва бранит Палашку канальей и собачьей дочерью, а себя сравнивает с сукою (!!) "Что скажут дамы! воскликнул бы критик, — ведь эта комедия может попасться дамам!" — В самом деле страшно! Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать! А дамы наши (Бог им судья!) их и не слушают и не читают, а читают этого грубого Вальтер Скотта, который никак не умеет заменять просторечие простомыслием.
"Граф Нулин" наделал мне больших хлопот Нашли его (с позволения сказать) похабным, — разумеется, в журналах — в свете приняли его благосклонно, и никто из журналистов не захотел за него заступиться. Молодой человек ночью осмелился войти в спальню молодой женщины и получил он нее пощечину! Какой ужас! Как сметь писать такие отвратительные гадости? Автор спрашивал, что бы на месте Натальи Павловны сделали петербургские дамы: какая дерзость!
Кстати о моей бедной сказке (писанной, будь сказано мимоходом, самым трезвым и благопристойным образом) — подняли противу меня всю 
 классическую древность и всю европейскую литературу! Верю стыдливости моих критиков; верю что "Граф Нулин" точно кажется им предосудительным. Но как же упоминать о древних, когда дело идет о благопристойности? И ужели творцы шутливых повестей: Ариост, Боккачио, Лафонтен, Касти, Спенсер, Чаусер, Виланд, Байрон известны им по одним лишь именам? Ужели, по крайней мере, не читали они Богдановича и Дмитриева? Какой несчастный педант осмелится укорить "Душеньку" в безнравственности и неблагопристойности? Какой угрюмый дурак станет важно осуждать "Модную жену", сей прелестный образец легкого и шутливого рассказа? А эротические стихотворения Державина, невинного, великого Державина? Но отстраним уже неравенство поэтического достоинства. "Граф Нулин" должен им уступить и в вольности, и в живости шуток.
классическую древность и всю европейскую литературу! Верю стыдливости моих критиков; верю что "Граф Нулин" точно кажется им предосудительным. Но как же упоминать о древних, когда дело идет о благопристойности? И ужели творцы шутливых повестей: Ариост, Боккачио, Лафонтен, Касти, Спенсер, Чаусер, Виланд, Байрон известны им по одним лишь именам? Ужели, по крайней мере, не читали они Богдановича и Дмитриева? Какой несчастный педант осмелится укорить "Душеньку" в безнравственности и неблагопристойности? Какой угрюмый дурак станет важно осуждать "Модную жену", сей прелестный образец легкого и шутливого рассказа? А эротические стихотворения Державина, невинного, великого Державина? Но отстраним уже неравенство поэтического достоинства. "Граф Нулин" должен им уступить и в вольности, и в живости шуток.
Эти г. критики нашли странный способ судить о степени нравственности какого-нибудь стихотворения. У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-летняя знакомая, и все, что по благоусмотрению родителей еще не дозволяется им читать, провозглашено неприличным, безнравственным, похабным etc.! Как будто литература и существует только для 16-летних девушек! Благоразумный наставник, вероятно, не дает в руки ни им, ни даже их братцам, полных собраний сочинений ни единого классического поэта, особенно древнего; на то издаются хрестоматии, выбранные места и тому под. Но публика не 15-летняя девица, и не 13-летний мальчик. Она, слава Богу, может себе прочесть без опасения и сказки доброго Ла-фонтена, и эклогу доброго Виргилия, и все, что про себя читают сами г. критики, если критики наши что-нибудь читают, кроме корректурных листов своих журналов.
Все эти господа, столь щекотливые насчет благопристойности, напоминают Тартюфа, стыдливо накидывающего платок на открытую грудь Дорины, и заслуживают забавное возражение горничной: Vous etes done bien tendre a la tentation Et la chair sur vos sens fait grande impression! Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte: Mais a convoiter, moi, je ne suis point si prompte, Et je vous verrais nu du haut jusques en bas, Que toute votre peau ne me tenterait pas . [Однако вы очень податливы на искушение. И тело производят сильное впечатление на ваши чувства! Не понимаю, право, что за пылкость вас одолела. Я совсем не так быстра на плотские желания, И когда 6 а увидела вас голым с головы до пят. — Bcя ваша кожа меня бы не соблазнила. Мольер, "Тартюф", действие III, сцена 2.]
Безнравственное сочинение есть то, коего целию или действием бывает потрясение правил, на коих основано счастие общественное или достоинство человеческое. Стихотворения, коих цель го рячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав, а музу — в отвратительную Канидию. Но шутка, вдохновенная сердечною веселостию и минутною игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное понятяе, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие.
------------
Кстати: начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени. Многое желал бы я уничтожить как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготеет, как упрек, на совести моей... По крайней мере не должен я отвечать за перепечатание грехов моего отрочества, а тем паче за чужие проказы. В альманахе, изданном г-ном Федоровым, между найденными Бог знает где стихами моими, напечатана Идиллия, писанная слогом переписчика стихов г-на Панаева. Г-н Бестужев, в предисловии какого-то альманаха, благодарит какого-то г-на Ап. за доставление стихотворений, объявляя, что не все удостоились напечатания.
Сей г-н Ап. не имел никакого права располагать моими стихами, поправлять их по-своему и отсылать в альманах г. Бестужева вместе с собственными произведениями стихи, преданные мною забвению или написанные не для печати (например, "Она мила, скажу меж нами"), или которые простительно мне было написать на 19 году, ко непростительно признать публично в возрасте более зрелом и степенном (например, "Послание к Юрьеву").
-------------
Отчего издателя "Литературной Газеты" и его сотрудников называют аристократами (разумеется в ироническом смысле, пишут остроумно журналисты). В чем же состоит их аристократия? В том ли, что они дворяне? — Нет: все журналы побожились уже, что над званием никто не имел и намерения смеяться. Стало быть в дворянской спеси? Нет: в "Литературной Газете" доказано, что главные сотрудники оной одни и вооружились противу сего смешного чванства, и заставили чиновных литераторов уважать собратьев мещан. Может быть, в притязаниях на тон высшего общества? Нет: они стараются сохранить тон хорошего общества; проповедают сей тон и другим собратьям, но проповедают в пустыне. Не они поминутно находят одно выражение бурлацким, другое мужицким, третье неприличным для дамских ушей, и т. п. Не они гнушаются просторечием и заменяют его простомыслием (niaiserie) (NB. не одно просторечие). Не они провозгласили себя опекунами высшего общества. Не они вечно пишут приторные статейки, где стараются подделаться под светский тон так же удачно, как горничные и камердинеры пересказывают разговоры своих господ. Не они comme un homme de noble race outragent el ве se battent pas . [Как человек благородного происхождения, оскорбляют и не дерутся.]
Не они находят 600-летнее дворянство мещанством; не они печатают свои портреты с гербами весьма сомнительными — разбирают дворянские грамоты и провозглашают такого мещанином, такого-то аристократом. Не они толкуют вечно о будуарных читательницах, о паркетных дамах. Отчего же они аристократы (разумеется в ироническом смысле)?
-------------
В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, наперсник его (как видно из собственноручного письма Екатерины II), отец Ганнибала, покорившего Наварил (см. памятник, воздвигнутый в Царском Селе гр. Ф. Г. Орлову), генерал-аншеф и проч. — был куплен шкипером за бутылку рому. [Голиков говорит, что он был прежде камердинером у государя, но что Петр, заметя в нем дарования и проч... Голиков ошибся. У Петра не было камердинеров, прислуживали ему деньщики, между прочны Орлов и Румянцев, — родоначальники исторических фамилий. (Примеч. Пушкина.)]
Прадед мой, если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался шкиперу, коего имя всякий русский произносит с уважением и не всуе.
Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцов.
-------------
Возвратясь из-под Арзрума, написал я послание к князю Юсупову. В свете оно тотчас было замечено и ... были мною недовольны. Светские люди имеют в высокой степени этого рода чутье. Один журналист принял мое послание за лесть итальянского аббата — и в статейке, заимствованной у "Минервы", заставил вельможу звать меня по четвергам обедать. Так-то чувствуют они вещи и так-то описывают светские нравы. [Будем справедливы: г. Полевого нельзя упрекнуть в низком подобострастии пред знатными, напротив, мы готовы обвинить его в юношеской заносчивости, не уважающей ни лет, ни звания, ни славы, и оскорбляющей равно память мертвых и отношения к живым. (Примеч. Пушкина.)
------------
Род мой один из самых старинных дворянских. Мы происходим от прусского выходца Радши, или Рачи, человека знатного (мужа честна, говорит летописец), приехавшего в Россию во время княжения святого Александра Ярославвча Невского (см. "Русский Летописец" и "Историю Российского государства"). От него произошли Пушкины, Мусины-Пушкины, Бобрищевы-Пушкины, Бутурли ны, Матлевы, Поводовы и другие. Карамзин упоминает об одних Мусиных-Пушкиных (из учтивости к покойному графу Алексею Ивановичу). В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Ивана Васильевича, историограф именует и Пушкиных. В царствование Бориса Годунова Пушкины были гонимы и явным образом обижаемы в спорах местничества. Г. Г. Пушкин, тот самый, который выведен в моей трагедии, принадлежит к числу самых замечательных лиц той эпохи, столь богатой историческими характерами. Другой Пушкин во время междуцарствия, начальствуя отдельным войском, один с Измайловым, по словам Карамзина, сделал честно свое дело. При избрании Романовых на царство четверо Пушкиных подписались под избирательною грамотою, а один из них окольничий, под соборным деянием о уничтожении местничества (что мало делает ему чести). При Петре они были в оппозиции, и один из них, стольник Федор Алексеевич, был замешан в заговоре Циклера и казнен вместе с ним и Соковниным. Прадед мой был женат на меньшой дочери адмирала графа Головина, первого в России андреевского кавалера и проч. Он умер очень молод и в заточении, в припадке ревности или сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах. Единственный сын его, дед мой Лев Александрович, во время мятежа 1762 года остался верен Петру III, не хотел присягнуть Екатерине и был посажен в крепость вместе с Измайловым (странная судьба сих имен!). См. Рюлиера и Кастера. Чрез 2 года выпущен по приказанию Екатерины и всегда пользовался ее уважением. Он уже никогда не вступал в службу и жил в Москве и своих деревнях.
------------
Если быть старинным дворянином значит подражать английскому поэту, то сие подражание весьма невольное. Но что есть общего между привязанностию лорда к своим феодальным преимуществам и бескорыстным уважением к мертвым прадедам, коих минувшая знаменитость не может доставить нам ни чинов, ни покравительства? Ибо ныне знать нашу большею частию составляют роды новые, получившие существование свое уже при императорах.
Но от кого бы я ни происходил — от разночинцев, вышедших во дворяне, или от одного из самых старинных русских родов, от предков, коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей, образ мнений моих от этого никак бы не зависел; и хоть нигде доныне я его не обнаруживал и никому до него нужды нет, но отказываться от него я ничуть не намерен.
Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. Смотря около себя и читая старые наши летописи, я сожалел, видя как древние дворянские роды уничтожились, как остальные упадают и исчезают, как новые фамилии, новые исторические имена, заступив место прежних, уже падают, ничем не огражденные, и как имя дворянина, час от часу более униженное, стало наконец в притчу и посмеяние даже разночинцам, вышедшим во дворяне, и даже досужим балагурам!
Образованный француз иль англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, падшего в такой-то битве, или в таком-то году возвратившегося из Палестины. Но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей отечества, й это ставите вы ему в достоинство! Конечно, есть достоинства, выше знатности рода, именно: достоинство личное, но я видел родословную Суворова, писанную им самим; Суворов не презирал своим дворянским происхождением.
Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные — но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами.
Статья написана в Болдине осенью 1830 г. "в несносные часы карантинного заключения". В одном из черновиков статьи имеется дата 2 октября. Она представляет собой собрание отдельных заметок по поводу различных замечаний критики, нападавшей на Пушкина не в порядке литературного спора. Пушкин отвечает на те нападки, которые именовались "личностями". Порядок, в котором следует располагать эти заметки, не совсем ясен, хотя и сохранился план статьи. Здесь мы придерживаемся порядка, установленного в издании сочинений Пушкина 1930 г. Пушкин останавливается преимущественно на полемике 1830 г., т. е. на статьях и памфлетах Булгарина и Полевого.
Критик, сказавший, что стихи Пушкина "себя дурно рекомендуют", — Раич в "Галатее" 1830 г., №14. Рецензия была написана не на "Полтаву", а на главу VII "Онегина".
Китайские анекдоты, в которых под видом сообщений из Китая и рассказов из китайской жизни изображались в карикатурном виде литературные враги, были пущены в оборот Булгариным, под видом китайского анекдота рассказавшим в "Северной Пчеле" историю столкновения Каченовского и Полевого (см. "Отрывок из литературных летописей").
Литератор, отказавшийся от дуэли, — Булгарин. Вызывал его Дельвиг, как это рассказал Пушкин в одном из анекдотов "Table-talk".
Рассказ о "французе" (Пушкине) напечатан был в "Северной Пчеле", а ответом была заметка Пушкина о Видоке.
"Забавное происшествие в Пекине" — обвинение Булгарина в плагиате из "Бориса Годунова". Пушкин сообщает, как он давал рукопись Бенкендорфу ("некоторым мандаринам"), от которого Булгарин получил рукопись. В романе Булгарина "Дмитрий Самозванец" (1830) Пушкин усмотрел несколько заимствований из своей трагедии, о чем стал открыто говорить. Булгарин по этому поводу обращался к Пушкину с письмом 18 февраля 1830 г., уверяя его, что он не читал "Бориса Годунова" и знает о нем понаслышке. Кроме того, он напечатал рецензию на главу VII "Евгения Онегина", в которой утверждал, что Пушкин "взял обильную дань из "Горя от ума" и просим не прогневаться, из другой известной книги" (имеется в виду "Иван Выжигин", роман Булгарина).
Колкое стихотворение о Фебе — эпиграмма Баратынского на Полевого: "Писачка в Фебов двор явился"; ответ-пародия на эту эпиграмму напечатан в "Московском Телеграфе".
Рецензия на "Графа Нулина", о которой пишет Пушкин, принадлежит Н. Надеждину и напечатана в "Вестнике Европы" 1829 г., № 3. Там, между прочим, говорится: "Но каково покажется это моему почтенному дядюшке, которому стукнуло уже пятьдесят, или моей двоюродной сестре, которой невступно еще шестнадцать; если сия по-следняя (чего Боже упаси!), соблазненная демоном девического любопытства, вытащит потихоньку из незапирающегося моего бюро это сокровище?..Греха не оберешься!.."
Альманах, изданный Федоровым, — "Памятник Отечественных Муз", где Б. Федоров напечатал без согласия Пушкина некоторые его лицейские стихи, между прочим "Фавн и пастушка". Альманах Бестужева (т.е. Бестужева-Рюмина) — "Северная Звезда", где самовольно были помещены стихи Пушкина (между прочим послание Чаадаеву) за подписью An.
Заметка о том, что прадед Пушкина куплен за бутылку рома, напечатана Булгариным в "Северной Пчеле" в ответ на заметку о Видоке. См. "Моя родословная".
Журналист, осуждавший послание "К Вельможе", — Полевой.
Эпиграмма о глухих переведена Пушкиным с французского из Пелисона (1624—1693). Слова "печатный лист кажется святым" — цитата из стихотворения И Дмитриева "Чужой толк".
Вопросы и задания
1. Общественно-исторические условия и повод для написания Пушкиным своих статей. Полемика Пушкина по главным вопросам общественной жизни.
2. Типологические особенности «Литературной газеты» и роль Пушкина в ее издании. Борьба против Булгарина и Греча.
3. Журнал «Современник» (1836 г.). Характер и содержание журнала. Пушкин – редактор и публицист. Борьба за нравственный облик журналиста.
4. Традиционные и нетрадиционные полемические жанры, используемые Пушкиным ( памфлет, фельетон, китайский анекдот, пародия). Как жанровые образования отвечают идейному содержанию пушкинских статей?
5. Язык и стиль Пушкина-журналиста. Основные приемы в его полемических статьях (дискредитация противника, ирония, пародия, система намеков,.. продолжите список).
6. Прочитайте эпиграммы Пушкина на Ф.Булгарина. Чем отличаются способы дискредитации литературного противника в данных произведениях и памфлете «О записках Видока»?
1.
Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин,-
И тут не вижу я стыда;
Будь жид – и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.
2.
Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман. (1830г.)
7. Значение публицистической и редакторской деятельности А.Пушкина в развитии русской журналистики.
Практическое занятие 8
П.Я.Чаадаев
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Да приидет царствие твое1
Сударыня2,
Именно ваше чистосердечие и ваша искренность нравятся мне всего более, именно их я всего более ценю в вас. Судите же, как должно было удивить меня ваше письмо. Этими прекрасными качествами вашего характера я был очарован с первой минуты нашего знакомства, и они-то побуждали меня говорить с вами о религии. Все вокруг нас могло заставить меня только молчать. Посудите же еще раз, каково было мое изумление, когда я получил ваше письмо! Вот все, что я могу сказать вам по поводу мнения, которое, как вы предполагаете, я составил себе о вашем характере. Но не будем больше говорить об этом и перейдем немедля к серьезной части вашего письма.
Во-первых, откуда эта смута в ваших мыслях, которая вас так волнует и так изнуряет, что, по вашим словам, отразилась даже на вашем здоровье? Ужели она — печальное следствие наших бесед? Вместо мира и успокоения, которое должно было бы принести вам новое чувство, пробужденное в вашем сердце,— оно причинило вам тоску, беспокойство, почти угрызения совести. И, однако, должен ли я этому удивляться? Это — естественное следствие того печального порядка вещей, во власти которого находятся у нас все сердца и все умы. Вы только поддались влиянию сил, господствующих здесь надо всеми, от высших вершин общества до раба, живущего лишь для утехи своего господина.
Да и как могли бы вы устоять против этих условий? Самые качества, отличающие вас от толпы, должны делать вас особенно доступной вредному влиянию воздуха, которым вы дышите. То немногое, что я позволил себе сказать вам, могло ли дать прочность вашим мыслям среди всего, что вас окружает? Мог ли я очистить атмосферу, в которой мы живем? Я должен был предвидеть последствия, и я их действительно предвидел. Отсюда те частые умолчания, которые, конечно, всего менее могли внести уверенность в вашу душу и естественно должны были привести вас в смятение. И не буду я уверен, что, как бы сильны ни были страдания, которые может причинить не вполне пробудившееся в сердце религиозное чувство, подобное состояние все же лучше полной летаргии,— мне оставалось бы только раскаяться в моем решении. Но я надеюсь, что облака, застилающие сейчас ваше небо, претворятся со временем в благодатную росу, которая оплодотворит семя, брошенное в ваше сердце, а действие, произведенное навес несколькими незначительными словами, служит мне верным залогом тех еще более важных последствий, которые без сомнения повлечет за собою работа вашего собственного ума. Отдавайтесь безбоязненно душевным движениям, которые будет пробуждать в вас религиозная идея: из этого чистого источника могут вытекать лишь чистые чувства.
Что касается внешних условий, то довольствуйтесь пока сознанием, что учение, основанное на верховном принципе единства и прямой передачи истины в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего более отвечает истинному духу религии; ибо он всецело сводится к идее слияния всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к постепенному установлению такой социальной системы или церкви, которая должна водворить царство истины среди людей. Всякое другое учение уже самым фактом своего отпадения от первоначальной доктрины заранее отвергает действие высокого завета спасителя: Отче святый, соблюди их, да будут едино, якоже и мы.*, и не стремится к водворению царства божия на земле. Из этого, однако, не следует, чтобы вы были обязаны исповедовать эту истину перед лицом света: не в этом, конечно, ваше призвание. Наоборот, самый принцип, из которого эта истина исходит, обязывает вас, ввиду вашего положения в обществе, признавать в ней только внутренний светоч вашей веры, и ничего более. Я счастлив, что способствовал обращению ваших мыслей к религии; но я был бы весьма несчастлив, если бы вместе с тем поверг вашу совесть в смущение, которое с течением времени неминуемо охладило бы вашу веру.
Я, кажется, говорил вам однажды, что лучший способ сохранить религиозное чувство — это соблюдать все обряды, предписываемые церковью. Это упражнение в покорности, которое заключает в себе больше, чем обыкновенно думают, и которое величайшие умы возлагали на себя сознательно и обдуманно, есть настоящее служение богу. Ничто так не укрепляет дух в его верованиях, как строгое исполнение всех относящихся к ним обязанностей. Притом большинство обрядов христианской религии, внушенных высшим разумом, обладают настоящей животворной силой для всякого, кто умеет проникнуться заключенными в них истинами. Существует только одно исключение из этого правила, имеющего в общем безусловный характер,— именно когда человек ощущает в себе верования высшего порядка сравнительно с теми, которые исповедует масса,— верования, возносящие дух к самому источнику всякой достоверности и в то же время нисколько не противоречащие народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляющие; тогда, и только тогда, позволительно пренебрегать внешнею обрядностью, чтобы свободнее отдаваться более важным трудам. Но горе тому, кто иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего ума принял бы за высшее просветление, которое будто бы освобождает его от общего закона! Вы же, сударыня, что вы можете сделать лучшего, как не облечься в одежду смирения, которая так к лицу вашему полу? Поверьте, это всего скорее умиротворит ваш взволнованный дух и прольет тихую отраду в ваше существование.
Да и мыслим ли, скажите, даже с точки зрения светских понятий, более естественный образ жизни для женщины, развитой ум которой умеет находить прелесть в познании и в величавых эмоциях созерцания, нежели жизнь сосредоточенная и посвященная в значительной мере размышлению и делам религии. Вы говорите, что при чтении ничто не возбуждает так сильно вашего воображения, как картины мирной и серьезной жизни, которые, подобно виду прекрасной сельской местности на закате дня, вливают в душу мир и на минуту уносят нас от горькой или пошлой действительности. Но эти картины — не создания фантазии; от вас одной зависит осуществить любой из этих пленительных вымыслов; и для этого у вас есть все необходимое. Вы видите, я проповедую не слишком суровую мораль: в ваших склонностях, в самых привлекательных грезах вашего воображения я стараюсь найти то, что способно дать мир вашей душе.
В жизни есть известная сторона, касающаяся не физического, а духовного бытия человека. Не следует ею пренебрегать; для души точно так же существует известный режим, как и для тела; надо уметь ему подчиняться. Это — старая истина, я знаю; но мне думается, что в нашем отечестве она еще очень часто имеет всю ценность новизны. Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас. Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.
Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесшие его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире,— не оказали на нас никакого влияния. То, что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для нас — только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой организацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые сладкие и самые чистые радости душе,— говоря откровенно, чего вы достигли при всех этих преимуществах? Вам приходится думать даже не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха,— у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.
Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою,— не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности.— Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поняли бы того, что я имею вам сказать.
У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. У нас ничего этого нет. Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть,— такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство,— вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.
Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созревали в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? Это — хаотическое брожение в мире духовном, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты. Мы до сих пор находимся в этой стадии.
Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие. Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к нашим услугам история народов и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; но прежде всего надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода и каково место, которое мы занимаем в общем строе.
Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их душе протекшие века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.
Что такое жизнь человека, говорит Цицерон3, если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить  родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это — естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание — в их внешнем быте, вся их душа — вне их. Именно таковы мы.
родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это — естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание — в их внешнем быте, вся их душа — вне их. Именно таковы мы.
Народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом — народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?
Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному, разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян — все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот, и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своею долей этого наследства, без труда и чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это — идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран.
Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, нежели история, больше, чем психология: это — физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? Не знаю, можно ли из сказанного сейчас вывести что-нибудь вполне безусловное и извлечь отсюда какой-либо непреложный принцип; но нельзя не видеть, что такое странное положение народа, мысль которого не примыкает ни к какому ряду идей, постепенно развившихся в обществе и медленно выраставших одна из другой, и участие которого в общем поступательном движении человеческого разума ограничивалось лишь слепым, поверхностным и часто неискусным подражанием другим нациям, должно могущественно влиять на дух каждого отдельного человека в этом народе.
Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики. Западный силлогизм нам незнаком. Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта. Это вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое в сущности представляло собою не что иное, как способность легко усваивать вещи, не исключавшую ни глубины, ни широты ума и вносившую в обращение необыкновенную прелесть и изящество; это — беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожащей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов, ни даже тем родовым наследием и теми бесчисленными предписаниями и перспективами, которые в условиях быта, основанного на памяти прошлого и предусмотрении будущего, составляют и общественную, и частную жизнь. В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц.
Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, несвободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что, если нам присущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, мы не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные.
Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать общий дух, составляющий их жизненное начало, ибо только он, а не та или иная черта их характера, может вывести их на путь нравственного совершенства и бесконечного развития.
Народные массы подчинены известным силам, стоящим вверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. За исключением некоторых отупелых племен, сохранивших лишь внешний облик человека, сказанное справедливо в отношении всех народов, населяющих землю. Первобытные народы Европы — кельты, скандинавы, германцы — имели своих друидов4, скальдов5 и бардов6, которые были по-своему сильными мыслителями. Взгляните на племена Северной Америки, которые так усердно старается истребить материальная культура Соединенных Штатов: среди них встречаются люди удивительной глубины.
И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам провидением. Больше того: оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.
Странное дело: даже в мире науки, обнимающем все, наша история ни к чему не примыкает, ничего не уясняет, ничего не доказывает. Если бы дикие орды, возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на Запад, нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы. Некогда великий человек7 захотел просветить нас, и для того, чтобы приохотить нас к образованию, он кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения. В другой раз, другой великий государь8, приобщая нас к своему славному предназначению, провел нас победоносно с одного конца Европы на другой9; вернувшись из этого триумфального шествия чрез просвещеннейшие страны мира, мы принесли с собою лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастие, отбросившее нас на полвека назад10. В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке. Я не могу вдоволь надивиться этой необычайной пустоте и обособленности нашего социального существования. Разумеется, в этом повинен отчасти неисповедимый рок, но, как и во всем, что совершается в нравственном мире, здесь виноват отчасти и сам человек. Обратимся еще раз к истории: она — ключ к пониманию народов.
Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца* эта семья народов только что была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью. В Европе все одушевлял тогда животворный принцип единства. Все исходило из него и все сводилось к нему. Все умственное движение той эпохи было направлено на объединение человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной потребности отыскать всемирную идею, которая является гением-вдохновителем нового времени. Непричастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужеземное иго и только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, мы подпали еще более жестокому рабству, освященному притом фактом нашего освобождения.
Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную мраком! Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже были предугаданы отдельными умами; характер общества уже определился, а, приобщившись к миру языческой древности, христианские народы обрели и те формы прекрасного, которых им еще недоставало. Мы же замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало до нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы. Высокие качества, которые религия принесла в дар новым народам и которые в глазах здравого разума настолько же возвышают их над древними народами, насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев; эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной власти, сделались столь же мягкими, как раньше были грубы,— все это нас совершенно миновало. В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения,—г мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созревал.
Спрашиваю вас, не наивно ли предполагать, как это обыкновенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, совершившийся столь медленно и под прямым и очевидным воздействием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся?
Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем есть чисто историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая заключает в себе, можно сказать, всю философию христианства, так как показывает, что оно дало людям и что даст им в будущем. С этой точки зрения христианская религия является не только нравственной системою, заключенной в преходящие формы человеческого ума, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире и чье явственное обнаружение должно служить нам постоянным уроком. Именно таков подлинный смысл догмата о вере в единую церковь, включенного в символ веры. В христианском мире все необходимо должно способствовать — и действительно способствует — установлению совершенного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово господа, что он пребудет в церкви своей до скончания века. Тогда новый строй,— царство божие,— который должен явиться плодом искупления, ничем не отличался бы от старого строя,— от царства зла,— который искуплением должен быть уничтожен, и нам опять-таки оставалась бы лишь та призрачная мечта о совершенстве, которую лелеют философы и которую опровергает каждая страница истории,— пустая игра ума, способная удовлетворять только материальные потребности человека и поднимающая его на известную высоту лишь затем, чтобы тотчас низвергнуть в еще более глубокие бездны.
Однако, скажете вы, разве мы не христиане? и разве не мыслима иная цивилизация, кроме европейской? — Без сомнения, мы христиане; но не христиане ли и абиссинцы? Конечно, возможна и образованность, отличная от европейской; разве Япония не образованна, притом, если верить одному из наших соотечественников, даже в большей степени, чем Россия? Но неужто вы думаете, что тот порядок вещей, о котором я только что говорил и который является конечным предназначением человечества, может быть осуществлен абиссинским христианством и японской культурой? Неужто вы думаете, что небо сведут на землю эти нелепые уклонения от божеских и человеческих истин?
В христианстве надо различать две совершенно разные вещи: его действие на отдельного человека и его влияние на всеобщий разум. То и другое естественно сливается в высшем разуме и неизбежно ведет к одной и той же цели. Но срок, в который осуществляются вечные предначертания божественной мудрости, не может быть охвачен нашим ограниченным взглядом. И потому мы должны отличать божественное действие, проявляющееся в какое-нибудь определенное время в человеческой жизни, от того, которое совершается в бесконечности. В тот день, когда окончательно исполнится дело искупления, все сердца и умы сольются в одно чувство, в одну мысль, и тогда падут все стены, разъединяющие народы и исповедания. Но теперь каждому важно знать, какое место отведено ему в общем призвании христиан, то есть какие средства он может найти в самом себе и вокруг себя, чтобы содействовать достижению цели, поставленной всему человечеству.
Отсюда необходимо возникает особый круг идей, в котором и вращаются умы того общества, где эта цель должна осуществиться, то есть где идея, которую бог открыл людям, должна созреть и достигнуть всей своей полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфера, в свою очередь, естественно обусловливают определенный строй жизни и определенное мировоззрение, которые, не будучи тождественными для всех, тем не менее создают у нас, как и у всех не европейских народов, одинаковый бытовой уклад, являющийся плодом той огромной 18-вековой духовной работы, в которой участвовали все страсти, все интересы, все страдания, все мечты, все усилия разума.
Все европейские народы шли вперед в веках рука об руку; и как бы ни старались они теперь разойтись каждый своей дорогой,— они беспрестанно сходятся на одном и том же пути. Чтобы убедиться в том, как родственно развитие этих народов, нет надобности изучать историю; прочтите только Тасса12, и вы увидите их всех простертыми ниц у подножия Иерусалимских стен. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был один язык для обращения к богу, одна духовная власть и одно убеждение. Подумайте, что в течение пятнадцати веков, каждый год в один и тот же день, в один и тот же час, они в одних и тех словах возносили свой голос к верховному существу, прославляя его за величайшее из его благодеяний. Дивное созвучие, в тысячу крат более величественное, чем все гармонии физического мира! Итак, если эта сфера, в которой живут европейцы и в которой в одной человеческий род может исполнить свое конечное предназначение, есть результат влияния религии и если, с другой стороны, слабость нашей веры или несовершенство наших догматов до сих пор держали нас в стороне от этого общего движения, где развилась и формулировалась социальная идея христианства, и низвели нас в сонм народов, коим суждено лишь косвенно и поздно воспользоваться всеми плодами христианства, то ясно, что нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать себе истинно христианский импульс, так как на Западе все создано христианством. Вот что я подразумевал, говоря, что мы должны от начала повторить на себе все воспитание человеческого рода.
Вся история новейшего общества совершается на почве мнений; таким образом, она представляет собою настоящее воспитание. Утвержденное изначала на этой основе, общество шло вперед лишь силою мысли. Интересы всегда следовали там за идеями, а не предшествовали им; убеждения никогда не возникали там из интересов, а всегда интересы рождались из убеждений. Все политические революции были там, в сущности, духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. Этим объясняется характер современного общества и его цивилизации; иначе его совершенно нельзя было бы понять.
Религиозные гонения, мученичество за веру, проповедь христианства, ереси, соборы — вот события, наполняющие первые века. Все движение этой эпохи, не исключая и нашествия варваров, связано с этими первыми, младенческими усилиями нового мышления. Следующая затем эпоха занята образованием иерархии, централизацией духовной власти и непрерывным распространением христианства среди северных народов. Далее следует высочайший подъем религиозного чувства и упрочение религиозной власти. Философское и литературное развитие ума и улучшение нравов под державой религии довершают эту историю новых народов, которую с таким же правом можно назвать священной, как и историю древнего избранного народа. Наконец, новый религиозный поворот, новый размах, сообщенный религией человеческому духу, определил и теперешний уклад общества. Таким образом, главный и, можно сказать, единственный интерес новых народов всегда заключался в идее. Все положительные, материальные, личные интересы поглощались ею.
Я знаю — вместо того, чтобы восхищаться этим дивным порывом человеческой природы к возможному для нее совершенству, в нем видели только фанатизм и суеверие; но что бы ни говорили о нем, судите сами, какой глубокий след в характере этих народов должно было оставить такое социальное развитие, всецело вытекавшее из одного чувства, безразлично — в добре и во зле. Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью,— мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины, целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом и душой, как у нас об этом мечтают.
Еще раз говорю: конечно, не все в европейских странах проникнуто разумом, добродетелью и религией,— далеко нет. Но все в них таинственно повинуется той силе, которая властно царит там уже столько веков, все порождено той долгой последовательностью фактов и идей, которая обусловила современное состояние общества. Вот один из примеров, доказывающих это. Народ, физиономия которого всего резче выражена и учреждения всего более проникнуты духом нового времени,— англичане,— собственно говоря, не имеют иной истории, кроме религиозной. Их последняя революция, которой они обязаны своей свободою и своим благосостоянием, так же как и весь ряд событий, приведших к этой революции, начиная с эпохи Генриха VIII,— не что иное, как фазис религиозного развития. Во всю эпоху интерес собственно политический является лишь второстепенным двигателем и временами исчезает вовсе или приносится в жертву идее. И в ту минуту, когда я пишу эти строки**, все тот же религиозный интерес волнует эту избранную страну. Да и вообще, какой из европейских народов не нашел бы в своем национальном сознании, если бы дал себе труд разобраться в нем, того особенного элемента, который в форме религиозной мысли неизменно являлся животворным началом, душою его социального тела, на всем протяжении его бытия?
Действие христианства отнюдь не ограничивается его прямым и непосредственным влиянием на дух человека. Огромная задача, которую оно призвано исполнить, может быть осуществлена лишь путем бесчисленных нравственных, умственных и общественных комбинаций, где должна найти себе полный простор безусловная победа человеческого духа. Отсюда ясно, что все совершившееся с первого дня нашей эры, или, вернее, с той минуты, когда Спаситель сказал своим ученикам: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тварихъ,— включая и все нападки на христианство,— без остатка покрывается этой общей идеей его влияния. Стоит лишь обратить внимание на то, как власть Христа непреложно осуществляется во всех сердцах,— с сознанием или бессознательно, по доброй воле или принуждению,— чтобы убедиться в исполнении его пророчеств. Поэтому, несмотря на всю неполноту, несовершенство и порочность, присущие европейскому миру в его современной форме, нельзя отрицать, что царство божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле.
Прежде чем закончить эти размышления о роли, которую играла религия в истории общества, я хочу привести здесь то, что говорил об этом когда-то в сочинении, вам неизвестном.
Несомненно, писал я, что, пока мы не научимся узнавать действие христианства повсюду, где человеческая мысль каким бы то ни было образом соприкасается с ним, хотя бы с целью ему противоборствовать,— мы не имеем о нем ясного понятия. Едва произнесено имя Христа, одно это имя увлекает людей, что бы они ни делали. Ничто не обнаруживает так ясно божественного происхождения христианской религии, как эта ее безусловная универсальность, сказывающаяся в том, что она проникает в души всевозможными путями, овладевает умом без его ведома, и даже в тех случаях, когда он, по-видимому, всего более ей противится, подчиняет его себе и властвует над ним, внося при этом в сознание истины, которых там раньше не было, пробуждая ощущения в сердцах, дотоле им чуждые, и внушая нам чувства, которые без нашего ведома вводят нас в общий строй. Так определяет она роль каждой личности в общей работе и заставляет все содействовать одной цели. При таком понимании христианства всякое пророчество Христа получает характер осязательной истины. Тогда начинаешь ясно различать движение всех рычагов, которые его всемогущая десница пускает в ход, дабы привести человека к его конечной цели, не посягая на его свободу, не умерщвляя ни одной из его природных способностей, а, наоборот, удесятеряя их силу и доводя до безмерного напряжения ту долю мощи, которая заложена в нем самом. Тогда видишь, что ни один нравственный элемент не остается бездейственным в новом строе, что самые энергичные усилия ума, как и горячий порыв чувства, героизм твердого духа, как и покорность кроткой души,— все находит в нем место и применение. Доступная всякому разумному существу, сочетаясь с каждым биением нашего сердца, о чем бы оно ни билось, христианская идея все увлекает за собою, и самые препятствия, встречаемые ею, помогают ей расти и крепнуть. С гением она поднимается на высоту, недосягаемую для остальных людей; с робким духом она движется ощупью и идет вперед мерным шагом; в созерцательном уме она безусловна и глубока; в душе, подвластной воображению, она воздушна и богата образами; в нежном и любящем сердце она разрешается в милосердие и любовь;— и каждое сознание, отдавшееся ей, она властно ведет вперед, наполняя его жаром, ясностью и силой. Взгляните, как разнообразны характеры, как множественны силы, приводимые ею в движение, какие несходные элементы служат одной и той же цели, сколько разнообразных сердец бьется для одной идеи! Но еще более удивительно влияние христианства на общество в целом. Разверните вполне картину эволюции нового общества, и вы увидите, как христианство претворяет все интересы людей в свои собственные, заменяя всюду материальную потребность потребностью нравственной и возбуждая в области мысли те великие споры, каких до него не знало ни одно время, ни одно общество, те страшные столкновения мнений, когда вся жизнь народов превращалась в одну великую идею, одно безграничное чувство; вы увидите, как все становится им, и только им,— частная жизнь и общественная, семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и печали. Счастливы те, кто носит в сердце своем ясное сознание части, им творимой, в этом великом движении, которое сообщил миру сам бог. Но не все суть деятельные орудия, не все трудятся сознательно; необходимые массы движутся слепо, не зная сил, которые приводят их движения, и не провидя цели, к которой они влекутся,— бездушные атомы, косные громады.
Но пора вернуться к вам, сударыня. Признаюсь, мне трудно оторваться от этих широких перспектив. В картине, открывающейся моим глазам с этой высоты,— все мое утешение, и сладкая вера в будущее счастье человечества одна служит мне убежищем, когда, удрученный жалкой действительностью, которая меня окружает, я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо. Однако я не думаю, что злоупотребил вашим временем. Мне надо было показать вам ту точку зрения, с которой следует смотреть на христианский мир и на нашу роль в нем. То, что я говорил о нашей стране, должно было показаться вам исполненным горечи; между тем я высказал одну только правду, и даже не всю. Притом христианское сознание не терпит никакой слепоты, а национальный предрассудок является худшим видом ее, так как он всего более разъединяет людей.
Мое письмо растянулось, и, думаю, нам обоим нужен отдых. Начиная его, я полагал, что сумею в немногих словах изложить то, что хотел вам сказать; но, вдумываясь глубже, я вижу, что об этом можно написать целый том. По сердцу ли это вам? Буду ждать вашего ответа. Но, во всяком случае, вы не можете избегнуть еще одного письма от меня, потому что мы едва лишь приступили к рассмотрению нашей темы. А пока я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы соблаговолили пространностью этого первого письма извинить то, что я так долго заставил вас ждать его. Я сел писать вам в тот же день, когда получил ваше письмо; но грустные и тягостные заботы поглотили меня тогда всецело, и мне надо было избавиться от них, прежде чем начать с вами разговор о столь важных предметах; затем нужно было переписать мое маранье, которое было совершенно неразборчиво. На этот раз вам не придется долго ждать: завтра же снова берусь за перо.
Некрополь, 1-го декабря 1829 г
В 1862 г. Гагарин выпустил в свет «Избранные сочинения Петра Чаадаева»2. В них к первому философическому письму добавились новые материалы, в том числе и оригинальный французский текст еще двух философических писем, которые в нумерации издателя и затем в последующих публикациях и переводах (вплоть до 30-х гг. XX в.) числились как второе и третье, а в действительном (представленном и здесь) порядке составляют шестое и седьмое.
Философические письма из гагаринского издания перевел и дважды воспроизвел на русском языке М. О. Гершензон3. На страницах выпущенного им позднее двухтомника сочинений и писем П. Я. Чаадаева вместе с переводами представлен параллельно и оригинальный французский текст философических писем. Кроме упомянутых публикаций, эти письма еще дважды издавались по-русски4.
Из опубликованных текстов было ясно, что они являются лишь частью более обширного произведения, восстановить которое в целом виде оказалось возможным лишь после того, как отечественный исследователь жизни и творчества Чаадаева Д. И. Шаховской обнаружил в архивах и напечатал в своем переводе недостающие (2, 3, 4, 5, и 8) философические письма5.
В полном составе и подлинной последовательности все восемь философических писем воспроизводятся вместе на русском языке впервые6. Первое, шестое и седьмое печатаются по тексту книги: Чаадаев П. Я. Сочинения и письма (М., 1914, т. 2); второе, третье, четвертое, пятое и восьмое — по тексту «Литературного наследства» (М., 1935, т. 22—24).
письмо первое
1 Слова молитвы Господней (Евангелие от Матфея, VI, 10).
2 Автор обращается здесь к Е. Д. Пановой.
1 Gagarin I. S. Tendances catholiques dans la societe russe // Correspondent. Paris, 1860; Gagarin I. S. Tendances catholiques dans la societerusse. Raris—Leipzig, 1860.
2 Oeuvres choisies de Pierre Tschaadai'ef, publies pour la premiere fois par le P. Gagarin de la compagnie de Jesus. Raris — Leipzig, 1862.
3 Вопросы философии и психологии. 1906. Кн. 92 и 94; Гершензон М.П. Я. Чаадаев: Жизнь и мышление. М., 1908.
4 Чаадаев П. Философские письма и Апология сумасшедшего//Щ е р б а т о в М. М. О повреждении нравов в России. Чаадаев П. Философские письма и Апология сумасшедшего. М., 1908.
5 Литературное наследство. М., 1935. Т. 22—24.
6 На французском языке весь корпус философических писем опубликован в следующих изданиях: Мс N а 1 1 у Р. Т. Chaadaev's philosophical letters written to a lady and his Apologia of Madman//Forschungen zur osteuropaischen
Geschichte, band 11. Berlin, 1966; Rouleau F. Letters philosophiques adressees
a une dame. Paris, 1970.
3 Цицерон. Оратор, 120. Друиды — жрецы у кельтов древней Галлии, Англии и Ирландии. Скальды — древнескандинавские поэты и певцы, слагавшие песни о походах викингов и их победах. Барды — поэты и певцы у древних кельтов.
7 Имеется в виду Петр I.
8 ...другой великий государь... — Александр I.
9 Речь идет о победе русских войск в Отечественной войне 1812 года и в заграничном походе 1813—1814 гг.
10 Имеется в виду восстание декабристов в 1825 г. Фотий — церковный и политический деятель Византии, константинопольский патриарх в 858—867 и 878—886 гг.
12 Речь идет об эпической поэме Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».
13 Евангелие от Марка, XVI, 15.
14 Подразумевается Москва как «город мертвых».
* Иоанн. XVII. II.
** 1829
Вопросы и задания
1. Журнал «Телескоп» Н.И.Надеждина. Политические и литературно-критические взгляды издателя.
2. История опубликования Первого философического письма Чаадаева: повод для публикации, резонанс от публикации, следствие публикации.
3. Анализ Первого философического письма П.Чаадаева: жанровые особенности произведения; основные идеи письма; аргументация идей; стилистические особенности письма.
4. Согласны ли Вы с мнением философа? Аргументируйте свой ответ.
5. П.Я.Чаадаев и основные идейные течения 40-х годов «западничество» и «славянофильство».
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 341; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
