Демократическая журналистика второй половины 19 века
В 40-е годы 19 века усиливаются кризисные явления в экономической жизни России, усиливается оппозиционное движение. В этот период складываются и развиваются идейные течения «западников» и «славянофилов».
Самым значительным явлением в русской публицистике этого периода является творчество В.Г.Белинского. Он – центральная фигура эпохи, создатель и ниспровергатель писательских авторитетов. Именно его статьи определяют демократическое направление лучшего журнала 40-х годов «Отечественные записки» (издатель А.Краевский). Власть ужесточает цензурные репрессии против журнала, а так же поддерживает промонархическую печать (журналы «Маяк», «Москвитянин»),с которой «Отечественные записки» (в первую очередь, Белинский и Герцен) ведут жесткую полемику. Именно в этот период две идеологические тенденции (демократическая и либеральная) начинают расходиться. Белинский уходит в журнал «Современник» Некрасова и Панаева, который с его приходом становится самым прогрессивным изданием. Но в конце 40-х годов начинается так называемое «мрачное семилетие»: Белинский умер, Герцен эмигрировал, в Европе начались революции, в России начинается цензурно-политический террор, заметно снижается уровень общественно-литературной жизни.
Уехавший Герцен, за границей создает систему вольной русской прессы, организует вольную русскую типографию, где печатает листовки и брошюры против самодержавия и альманах «Полярная звезда». В 1857 году начинает выходить газета «Колокол», активно поддерживающая начинающиеся в России реформы, требующая освобождения крестьян с землей, свободы слова, отмены телесных наказаний. Царское правительство организует дискредитирующую кампанию против Герцена, его пытался поддержать и защитить Д.И.Писарев (О брошюре Шедо-Феротти). Недовольный результатами реформы 1861 года, Герцен, как и многие демократы в России, призывает к революционной борьбе (статья «У11 лет»).
|
|
|
В середине 50-х годов на общественную арену снова выходит журнал «Современник» Некрасова, особенно с приходом молодых демократов-журналистов Н.Чернышевского и Н.Добролюбова, поддерживающих в своих статьях «полезную» литературу и революционные методы борьбы.
К демократическому лагерю принадлежали так же журналы «Русское слово» (идейный вдохновитель и главный автор Д.И.Писарев) и сатирический еженедельник «Искра» (редакторы В.Курочкин и Н.Степанов), в котором большую роль играет карикатура.
Практическое занятие 9
В.Г.Белинский
письмо к н.в. гоголю
Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека '; этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б всё дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.
|
|
|
Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И Вы имели основательную причину хотя на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою великого таланта, а потому, что, в этом отношении, представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого большего числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах 2, ни о том вопле дикой радости, который издали, при появлении ее, все враги Ваши — и нелитературные (Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. п.), и литературные, которые имена Вам известны 3. Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом 4. Если б она и была написана вследствие глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее принимали все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтоб не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур переточенную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей — в этом виноваты только Вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что Вы находите это удивительным. Я думаю, это от того, что Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтоб Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасного далека5, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы, в этом прекрасном далеке, живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию 6. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе7, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостою плетью 8. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давший ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами!.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы Вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас за эти позорные строки... И после этого Вы хотите, чтобы верили искренности направления Вашей книги? Нет, если бы Вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения, — совсем не то написали бы Вы Вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне — его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение: ах ты неумытое рыло! да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые, и без того, потому и не умываются, что поверив своим барам, сами себя не считают за людей?9 А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которой должно пороть и правого и виноватого? 10 Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления — быть без вины виноватым! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться, или— не смею досказать моей мысли...
|
|
|
|
|
|
Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною... Что Вы подобное учение опираете на православную церковь — это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ними и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил 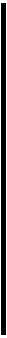 истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста...
истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста...
А потому, неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше,духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает пахабную сказку? Про попа, пападью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханып, жеребцы? — Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годиться — горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, Но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностью — ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных,_ по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.
Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками 12. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к Вам, по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для Вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего прекрасного далека: вблизи-то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладеет религиозный дух — он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот, постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania *, он тотчас же земному богу подкрутит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!..
Вспомнил я еще, что в Вашей книге Вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что творили...
«Но, может быть,— скажете Вы мне,— положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь; но почему ж отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?»— Потому, отвечаю я Вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею 13. Конечно, в Вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили общее им с Вами учение с большей энергиею и большею последовательностию, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как Вы, желая поставить по свече тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые с Вашей точки зрения, если б только Вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в Вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным Ваше письмо к Уварову, где Вы говорите с огорчением, что Вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д.14 Теперь судите сами: ; можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила" Вас.в глазах публики и как писателя и, еще больше, как человека?
Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только две-три верноподданических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви 15, И Вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что Ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных Вами всем и каждому. Положим, Вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» Вы менее резко, с меньшею истиною и талантом, и менее горькие правды высказали ей? И она, действительно, осердилась на Вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от этого не пали, тогда как Ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению Вашей книги!..
Не без некоторого чувства самодовольства скажу Вам, что мне кажется что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностию дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать Вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли, но я тогда же сказал им, что несмотря ни на что книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще инстинкт истины!
Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного благочествия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его 16. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей,— тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или гордости, или слабоумия, и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом Вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, чорта и ада веет от Вашей книги. И что за язык, что за фразы! «Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек» и. Неужели Вы думаете, что сказать всяк вместо всякий, значит выразиться библей 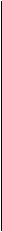
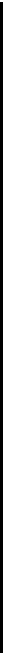 ски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на Вашей книге выставлено Вашего имени и будь из нее выключены те места, где Вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?
ски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на Вашей книге выставлено Вашего имени и будь из нее выключены те места, где Вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?
Что же касается до меня лично, повторяю Вам: вы ошиблись, СОЧТЯ статью мою выражением досады за Ваш отзыв обо мне как об одном из Ваших критиков. Если б только это рассердило меня, Я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что Ваш отзыв о Ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но Вы имели в виду людей если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к Вашим творениям наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько высказали о них дела; но все же их энтузиазм к Вам выходит из такого чистого и благородного источника, что Вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и Вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк Вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию Вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил Вашу мысль и напечатал на Ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос 18. Он это сделал, вероятно, в благодарность Вам за то, что Вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его «вялый, влачащийся по земле стих» 19. Все это нехорошо! А что Вы только ожидали времени, когда Вам можно будет отдать справедливость и почитателям Вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением Вашим врагам), этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была Ваша книга, а не Ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз, и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.
Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к Вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя Вы всем и каждому печатно дали право писать к Вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины20 распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу и N переслал мне Ваше письмо в Зальцбрунн2I, откуда я сегодня же еду с Ан<ненковым> в Париж через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение Вашего письма дало мне возможность высказать Вам все, что лежало у меня на душе против Вас по поводу Вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о Вас заключениях — я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если Вы имели несчастие с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее, издания в свет Искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние.
Зальцбрунн
15-го июля н. с.'1847-го года.
* Религиозная мания (лат.) – Ред.
Впервые письмо Белинского к Гоголю было опубликовано по неисправному списку А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1855 г.
Письмо В. Г. Белинского было «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати» (В. И. Лени н. Соч., изд. 5, т. 25, стр. 94). Полное непримиримой ненависти к крепостному праву,, самодержавию, религии и церкви, оно наносило сокрушительный удар по всему самодержавно-крепостническому строю царской России.
История возникновения этого письма связана с книгой Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшей в конце 1846 г. Эта печально известная книга была апологией самодержавия, крепостничества, православия. Гоголь осуждал в ней свои прежние произведения, прежде всего «Ревизор» и «Мертвые души», нападал на передовые общественно-политические идеи. В февральском номере «Современника» за 1847 г. Белинский напечатал резкую статью об этой книге. Однако в подцензурном издании он не мог, разумеется, с полной откровенностью высказать все, что думал. «Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошею,— писал он Боткину,— если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству». Белинский сообщил далее, что официальный редактор журнала Никитенко и цензура вычеркнули целую треть его статьи (письмо от 28 февраля 1847 г.).
Ознакомившись со статьей Белинского, Гоголь послал ему письмо, в котором упрекал за чрезмерно суровый отзыв. Ответом Гоголю и было знаменитое письмо Белинского.
Письмо Белинского к Гоголю быстро распространилось в многочисленных списках по всей стране. Его революционное значение было настолько велико, что царское правительство жестоко преследовало тех, кто читал и распространял письмо.
Печатается по изданию: В. Г. Белинский. Поли. собр. соч. Т. 10. М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 212—220.
1 Гоголь писал Белинскому: «Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне во втором № «Современника». Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося» (Н. В. Гоголь. Поли. собр. соч. Т. 13. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 326).
2 Среди тех, кто резко осуждал книгу Гоголя, были А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, П. В. Анненков, В. П. Боткин, Э. И. Губер, Н. Ф. Павлов.
3 Хвалебные отзывы о «Выбранных местах» написали Булгарин («Северная пчела», 1847, № 8), Сенковский («Библиотека для чтения», 1847, № 2, отД. VI, стр. 42—50) и др.
4 Белинский говорит о славянофилах. 27 января 1847 г. С. Т. Аксаков писал Гоголю: «...Книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений» («Русский архив», 1890, № 8, стр. 164).
5 В одиннадцатой главе «Мертвых душ» Гоголь писал: «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу».
6 Ближайшими знакомыми Гоголя за границей была А. О. Смирнова-Россет, художник А. А. Иванов, семья Виельгорских, В. А. Жуковский, будущий обер-прокурор Синода А. П. Толстой, чьи мистические взгляды отвечали тогдашней настроенности писателя.
7 Некоторые исследователи считают правильным иное чтение этого места: «в грязи и неволе», — встречающееся в ряде списков. (См. сб. «Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958,
стр. 137—138).
8 Эту замену Николай I произвел в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.
9 Имеется в виду совет Гоголя помещику в статье «Русский помещик», как разговаривать с крестьянами «негодяями» и «пьяницами»: «Ах, ты, невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так, что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному!»
10 Капитанша Василиса Егоровна в повести Пушкина «Капитанская дочка» приказывает мужу: «Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи».
11 Калухан — еретик, отщепенец, отступник от православия.
12 Имеются в виду слова Гоголя о любви к царю в статье «О лиризме наших поэтов».
13 См. прим. 5 на стр. 130.
14 Белинский объединил здесь содержание двух писем Гоголя. В письме к министру просвещения С. С. Уварову, написанном в конце апреля 1845 г., Гоголь благодарил за материальную помощь, оказанную ему правительством,
и заявлял. «..Все, доселе мною писанное,, не стоит большого внимания; хоть в основание его легла и добрая мысль,- но выражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не так, как бы следовало, что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее дурной смысл, чем хороший» (Н. В. Гоголь. Поли. собр. соч., т. 12, стр. 483—484). Слова же: «...Только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто...»— неточно цитируются Белинским из проекта официального письма к Николаю I, присланного Гоголем П. А. Плетневу в январе 1847 г. (Н. В. Гоголь. Поли, собр соч., т. 13, стр. 424—425).
15 Распространенное в то время мнение о Пушкине. «Верноподданническими стихотворениями» Белинский называет «Стансы» (1826) и «Друзьям» (1828). Исследователи доказали, что эти стихотворения вызваны были желанием поэта облегчить участь декабристов.
16 Белинский намекает на желание Гоголя совершить паломничество в Иерусалим, высказанное им в предисловии к «Выбранным местам». Паломничество Гоголь осуществил в 1848 г.
17 Фраза из статьи «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту...».
18 П. А. Вяземский, давний враг Белинского, в своей статье «Языков и Гоголь» («Спб. ведомости», 1847, 24 и 25 апреля, № 90 и 91) обвинил критика в проповеди революционных идей.
19 Не совсем точная цитата из статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»: «...Этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью».
20 Шпекин — почтмейстер в комедии Гоголя «Ревизор», который распечатывал чужие письма.
21 Письмо для передачи Белинскому Гоголь прислал Н. Я. Прокоповичу, который, в свою очередь, отдал письмо Н. Н. Тютчеву, а тот переслал его Белинскому, о чем Прокопович известил Гоголя. По мнению исследователей, инициалом N зашифровано в письме Белинского имя Н. Я- Прокоповича, так как имя Н. Н. Тютчева не было даже известно Гоголю.
Вопросы и задания.
1. В.Г.Белинский – центральная общественно-литературная фигура эпохи: мировоззрение, эстетический кодекс.
2. Журнал «Отечественные записки» А.Краевского; роль Белинского в формировании «лица» издания.
3. Полемика вокруг книги Н.В.гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».
4. Письмо Белинского к Гоголю.
А) особенности жанра и композиции произведения;
Б) основная идея письма;
В) система аргументации;
Г) стилистические особенности;
5. Значение и роль Белинского в развитии русской критики и журналистики.
Практическое занятие 10
Н.Г.Чернышевский
БАРСКИМ КРЕСТЬЯНАМ ОТ ИХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ ПОКЛОН
Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля.
Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете.
|
|
Много тут рассказывать нечего. На два года остается все по-прежнему: и барщина остается, и помещику власть над вами остается, как была '. А где барщины не было, а был оброк, там оброк остается, либо какой прежде был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, говорит царь. В два года, говорит царь, землю перепишут да отмежуют. Как не в два года! Пять лет, либо десять лет проволочат это дело. А там что? Да почитай, что- то же самое еще на семь лет; только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, вишь ты, можно жаловаться будет на помещика, если притеснять будет. Знаете вы сами, каково это слово «жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков же оберут, да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, еще и в солдаты забреют, либо в Сибирь да в арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известно дело: коза с волком тягалась, один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, покуда волки останутся,— значит— помещики да чиновники останутся. А как уладить дело, чтобы волков-то не осталось, это дальше все рассказано будет. А теперь покуда не об этом речь, какие новые порядки надо вам завести; покуда об том речь идет, какой порядок вам от царя дан,— что значит, не больно-то хороши для вас нонешние порядки, а что порядки, какие по царскому' манифесту да по указам заводятся, все те же самые прежние порядки. Только в словах и выходит разница, что названья переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ноне срочно-обязанными вас звать велят; а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет2. Эки слова-то выдуманы! Срочно-обязанные, — вишь ты глупость какая! Какой им черт это в ум-то вложил такие слова! А по-нашему надо сказать: вольный человек, да и все тут. Да чтобы не названием одним, а самым делом был вольный человек. А как бывает в исправду вольный человек и каким манером вольными людьми можно вам стать, об этом обо всем дальше написано будет. А теперь покуда о царском указе речь, хорош ли он.
Так вот оно как: два года ждите, царь говорит, покуда земля отмежуется, а на деле земля-то межеваться будет пять, либо и все десять лет; а потом еще семь лет живите в прежней кабале, а по правде-то оно выйдет опять не семь лет, а разве что семнадцать, либо двадцать, потому что все, как сами видите, в проволочку идет. Так, значит, живите вы по-старому в кабале у помещика все эти годы, два года, да семь лет, значит — девять лет, как там в указе написано, а с проволочками-то взаправду выйдет двадцать лет, либо тридцать лет, либо к больше. Во все эти годы оставайся мужик в неволе, уйти никуда не моги: значит, не стал еще вольный человек, а все остается срочно-обязанный, значит — все тот же крепостной. Не скоро же воли вы дождетесь,— малые мальчики до бород аль и до седых волос дожить успеют, покуда воля-то придет по тем порядкам, какие царь заводит.
Ну, а покуда она придет, что с вашей землей будет? А вот что с нею будет. Когда отмежевывать станут, обрезывать ее велено против того, что у вас прежде было, в иных селах четвертую долю отрежут из прежнего, в иных третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где. Это еще без плутовства от помещиков да без потачки им от межевщиков по самому царскому указу. А без потачки помещикам межевщики делать не станут, ведь им за то помещики станут деньги давать; оно и выйдет, что оставят вам земли меньше, чем наполовину против прежней: где было на тягло по две десятины в поле, оставят меньше одной десятины. И за одну десятину, либо меньше, мужик справляй барщину почти что такую же, как прежде за две десятины, либо оброк плати почти что такой же, как прежде за две десятины.
Ну, а как мужику обойтись половиной земли? Значит, должен будет прийти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне под хлеб по царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за нее прибавочную барщину справляй, либо прибавочный оброк давай. Да и заломит с мужика сколько хочет.. А мужику уйти от него нельзя, а прокормиться с одной земли, какая оставлена ему по отмежевке, тоже нельзя. Ну, мужик на все и будет согласен, чего барин потребует. Вот оно и выйдет, что нагрузит на пего барин барщину больше нонешней, либо оброк тяжеле нонешнего.
Да за одну ли пашню надбавка будет? Нет, ты барину и за луга подавай, ведь сенокос-то, почитай что, весь отнимут у мужика по царскому указу. И за лес барин с мужика возьмет, ведь лес-то, почитай что, во всех селах отнимут; сказано в указе, что лес барское добро, а мужик и валежнику подобрать не смей, коли барину за то не заплатит. Где в речке или в озере рыбу ловили, и за то барин станет брать. Да за все, что ты ни коснись, за все станет с мужика барин либо к барщине, либо к оброку надбавки требовать. Все до последней нитки будет барин брать с мужика. Просто сказать, всех в нищие поворотят помещики по царскому указу.
Да еще не все. А усадьбы-то переносить? Ведь от барина зависит. Велит перенести, — не на год, а на десять лет разоренья сделает. С речки на колодцы пересадит, на гнилую воду, да на вшивую, с доброй земли на солончак, либо на песок, либо на болото,— вот тебе и огороды, вот тебе и конопляники, вот тебе и выгон добрый, все поминай как звали. Сколько тут перемрет народу, на болотах-то, да на гнилой-то воде! А больше того ребятишек жаль: их лета слабые, как мухи будут на дрянной-то земле, да на дрянной-то воде мереть. Эх, горькое оно дело! А гробы-то родительские — от них-то каково отлучаться?
Тошно мужику придется, коли барин по царскому указу велит на новые места переселяться. А коли не переселил барин мужиков, так они, значит, уж в чистой, как есть, в кабале у него; на все у него одно такое словцо есть, что в ноги ему упадет мужик да завопит: «батюшка, отец родной, чего хочешь, требуй, все выполню, весь твой раб!». А словцо это у барина таково: «Коли не хочешь такую барщину справлять, либо такой оброк платить, как я хочу, переноси усадьбу». Ну, и сделаешь все по этому словечку.
А то вот что еще скажет: ты на меня работал этот день, да его в счет не ставлю: плохо ты работал; завтра приходи отрабатывать. Ну, и придешь. На это тоже власть барину дана по указу царскому.
Это все о том говорится, как мужикам будет жить, покуда их срочно-обязанными звать будут, значит, девять лет, как в бумаге обещано, а на деле больше будет, лет до двадцати, либо до тридцати.
Ну, так; а потом-то что будет, когда, значит, мужику, разрешено будет отходить от помещика? Оно, пожалуй, что и толковать-то об этом нечего, потому что долго еще ждать этого по царскому указу. А коли любопытство у вас есть, так и об этом дальнем времени рассудить можно.
Когда срочно-обязанное время покончится, волен ты будешь' отходить от помещика. Оно так в указе обещано. Только в нем вот что еще прибавлено: а коли ты уйдешь, так земля твоя останется за помещиком, А помещик и сам, коли захочет, может тебя прогнать с нее. Потому, вишь ты, что земля, которая тебе была отмежевана, все же не твоя была, а барская, а тебе барин только разрешение давал ее пахать, либо сено с нее косить; покуда ты срочно-обязанным назывался, он тебя с нее прогнать не мог; а когда перестал ты срочно-обязанным называться, он тебя с нее прогнать может. В указе не так сказано напрямки, что может прогнать, да на то выходит. Там сказано: мужик уйти может, когда срочно-обязанное время кончится. Вот вы и разберите, что выходит. Барину-то у мужиков землю отнять хочется; вот он будет теснить их да жать, да сожмет так, что уйдут, а землю ему оставят,— оно, попросту сказать, и значит, что барин у мужиков землю отнять может, а мужиков прогнать.
Это об том времени, когда срочно-обязанными вас называть перестанут. А покуда называют, барину нельзя мужиков прогнать всех с одного разу, а можно только по отдельности прогонять: ноне Ивана, завтра Сидора, послезавтра Карпа, поочередно; оно, впрочем, на то же выходит.
А мужику куда идти, когда у него хозяйство пропало? В Москву, что ли, али в Питер, али на фабрику? Там уже все полно, больше народу не требуется, поместить некуда. Значит, походишь, походишь по свету, по большим-то городам да по фабрикам, да все туда же в деревню назад вернешься. Это спервоначала пробу мужики станут делать. А на первых-то глядя, как они нигде себе хлеба не нашли, другие потом и пробовать не будут, а прямо так в том околотке и будут оставаться, где прежде жили. А мужику в деревне без хозяйства да без земли, что делать, куда деваться, кроме того в батраки наняться. Ну, и наймешься. Сладко ли оно батраком-то жить? Ноне, сами знаете, не больно вкусно; а тогда и гораздо похуже будет, чем ноне живут батраки. А почему будет хуже, явное дело. Как всех-то погонят с земли-то, так везде будут сотни да тысячи народу шататься да просить помещиков, чтобы в батраки их взяли. Значит, уж помещичья воля будет, какое житье им определить, они торговаться не могут, как ноне батрак с хозяином торгуется: они куску хлеба рады будут, а то у самого-то в животе-то пусто, да и семья-то приюта не имеет. Есть такие поганые земли, где уж и давно заведен этот порядок; вот вы послушайте, как там мужики живут. У нас ноне избы плохи, а там и таких нет: в землянках живут да в хлевах; а то в сараях больших, в одном сарае семей десяток набито, все равно как там табун скота какого. Да и хлеба чистого не едят, а дрянь всякую, как у нас в голодные годы, а у них вечно так. У нас, в русском царстве, есть такая поганая земля, где города Рига и Ревель, да Митава стоят, а народ там тоже христианский, и вера у него тоже хорошая; да не по вере эта земля поганая, а по тому, как в ней народ живет: коли хорошо мужику жить в какой земле, то и добрая земля; а коли дурно, то и поганая.
Та к вот оно к чему по царскому-то манифесту да по указам дело поведено: не к воле, а к тому оно идет, чтобы в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней.
А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит, знал. Ну, и рассуждайте, чего надеяться вам на него. Оболгал он вас, обольстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно. А почему не дождетесь от него, тоже рассудить можно.
Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Удельные-то крестьяне чьи же? Ведь они его крестьяне крепостные. Дай вас-то в крепостные помещикам все цари же отдали, иных давно, так что вам уж и не памятно; а других не больно давно, так что деды помнят, прабабка нонешнего царя Екатерина отдала в крепостные из вольных. А есть еще такие неразумные, что матушкою Екатерину величают. Хороша матушка, детей в кабалу отдала.
Вы у помещика крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Значит, что он, что они — все одно. А сами знаете, собака собаку не ест. Ну, царь и держит барскую сторону. А что манифест да указы выпустил, будто волю вам даст, так он только для обольщения сделал. А почему сделал, вот почему. У французов да у англичан крепостного народа нет, вот они ему глаза и кололи, что у тебя, говорят, народ в кабале. Ему и стыдно было перед ними. Вот он им пыль-то в глаза и подпустил: для похвальбы это сделано, для обману сделано.
Волю, слышь, дал он вам! Да разве такая в исправду-то воля бывает! Хотите знать, так вот какая.
Вот у французов есть воля, у них нет разницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли — значит, богат он; мало — так беден; а разницы по званию нет никакой, все одно как богатый помещик, либо бедный помещик,— все одно помещик. Надо всеми одно начальство, суд для всех один и наказание всем одно.
Вот у англичан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет идти на военную службу, все равно, как у нас помещики тоже юнкерами или офицерами служат, коли хотят. А кто не хочет, тому и принуждения нет. А солдатская служба у них выгодная, жалованье солдату большое дается; значит, доброй волей идут служить, сколько требуется людей. А то и вот еще в чем воля и у французов и у англичан: подушной подати нет. Вам это, может, и в ум не приходило, что без рекрутчины да. без подушной подати может царство стоять. А у них стоит. Вот, значит, умные люди, коли так устроить себе умели.
А то вот еще в чем у них воля. Пачпортов нет; каждый ступай, куда хочет, живи, где хочет, ни от кого разрешенья на то ему не надо.
А вот еще в чем у них воля: суд праведный. Чтобы судья деньги с кого брал, у них это и не слыхано. Они и верить не могут, когда слышат, что у нас судьи деньги берут. Да у них такой судья одного дня не просидел бы на месте, в ту же минуту в острог его запрятали бы.
А то вот еще в чем у них воля: никто над тобою ни в чем не властен, окроме мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь, а у них ничего этого нет, а заместо всего староста, который без миру ничего поделать не может и во всем должен миру ответ давать. А мир над старостою во всем властен, а кроме мира никто над старостою не властен, и ни к кому староста страха не имеет, а к миру страх имеет. Полковник ли, генерал ли, у них все одно: перед старостою шапку ломит и во всем старосту слушаться должон; а коли чуть в чем провинился генерал, али кто бы там ни был, перед старостою, али ослушался старосты, староста его, полковника-то аль генерала-то в острог сажает,— у них перед старостою все равно: хоть ты простой мужик, хоть ты помещик, хоть ты генерал будь, все одно староста над. тобой начальствует, а над старостою весь мир начальствует, а над миром никто начальствовать не может, потому что мир значит народ, а народ у них всему голова: как народ повелит, так всему и быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь значит для всего народа староста, а народ-то значит, над этим старостою, над царем-то, начальствует. Хорош царь, послушествует народу, так и жалованье ему от народа выдается, а чуть что царь стал супротив народа делать, ну так и скажут ему: ты, царь, над нами уж не будь царем, ты нам неугоден, мы тебя сменяем, иди ты с богом, куда сам знаешь, от нас подальше; а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим да судить станем тебя за твое ослушание. Ну, царь и пойдет от них, куда сам знает, потому что ослушаться народа не может. А как провожать его от себя станут, они ему на дорогу еще деньжонок дадут, из жалости. Христа ради там складчину ему сделают промеж себя по грошу аль по копейке с души, чтобы в чужой-то земле с голоду не умер. Добрый народ, только и строгой же: потачки царю не любят давать. А на место его другого царя выберут, коли захотят, а, не захотят, так и не выбирают, коли охоты нет. Ну, тогда уж просто там на срок староста народный выбирается, на год ли там, на два ли, на четыре ли года, как народ ему срок полагает. Так заведено у народа, который швейцарцами зовется, и у другого народа, который американцами зовется. А французы и англичане царей у себя пока держат. И надобно так сказать, когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается, и царем не зовется, а просто зовется народным старостою, а по-ихнему, по-иностранному, президентом, тогда народу лучше бывает жить, и народ богаче бывает. А то и при царе тоже можно хорошо жить, как англичане и французы живут, только, значит, с тем, чтобы царь во всем народу послушанье оказывал и без народу ничего сделать не смел, и чтобы народ за ним строго смотрел, и чуть что дурное от царя увидит, сменял бы народ его, царя-то, и вон из своей земли выпроваживал, как у англичан да у французов делается.
Так вот она какая в исправду-то воля бывает на свете: чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный, и ровный всем был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел, и чтобы пачпортов не •было и подушного оклада не было, и чтобы рекрутчины не было. Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, значит, и воли нет, а все одно обольщение в словах.
А как же нам, русским людям, в неправду вольными людьми стать? Можно это дело обработать; и не то, чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собою мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись.
Вот вы, барские крестьяне, значит, одна половина русских мужиков. А другая половина — государственные да удельные крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы с ними и соглашайтесь, и растолкуйте им, какая им воля следует, как выше прописано. Чтобы рекрутчины, да подушной, да пачпортов не было, да окружных там, да всей этой чиновной дряни над ними не было, а чтобы тоже мир был всему голова. И от нас, ваших доброжелателей, поклон им скажите: как вам, так и им одного добра мы хотим.
Государственным и удельным крестьянам от их доброжелателей поклон.
А вот тоже солдат — ведь он опять из мужиков, тоже ваш брат. А на солдате все держится, все нонешние порядки. А солдату какая прибыль за нонешние порядки стоять? Что, ему житье, что ли, больно сладкое? Али жалованье хорошее? Проклятое нонче у нас житье солдатам. Да и лоб-то им забрили по принужденью, и каждому из них вольную отставку получить бы хотелось. Вот вы им и скажите всю правду, как об них написано. Когда воля мужикам будет, каждому солдату тоже воля объявится: служи солдатом, кто хочет, а кто не хочет, отставку чистую получай. А у солдата денег нет, чтобы домой итти да хозяйством или каким мастерством обзавестись, так ему при отставке будут на то деньги выданы: сто рублей серебром каждому. А кто волей захочет в солдатах* остаться, тому будет в год жалованья 50 рублей серебром. А и принужденья никакого нет, хочешь — оставайся, хочешь — в отставку иди. Вы так им и скажите солдатам: вы, братья солдатушки, за нас стойте, когда мы себе волю добывать будем, тому что и вам воля будет: вольная отставка каждому, кто в отставку пожелает, да сто рублей серебром награды за то, что своим братьям мужикам волю добыть помогал. Значит, и вам и себе добро сделает. И поклон им от нас скажите:
Солдатам русским от их доброжелателей поклон. А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым, потому что есть и такие офицеры, и немало таких офицеров. Так чтобы солдаты таких офицеров высматривали, которые надежны, что за народ стоять будут, таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добыть3.
А еще вот о чем, братцы, солдат просите, чтобы они вас учили, как в военном деле порядок держать. Муштровки большой вам не надо, чтобы там в ногу идти по-солдатски да носок вытягивать,— без этого обойтись можно; а тому надо учиться вам, чтобы плечом к плечу плотнее держаться, да команды слушаться, да пустого страха не бояться, а мужество иметь во всяком деле да рассудок спокойный, значит, хладнокровие. И то вам надо узнать, что покуда вперед прешь да плотно держишься, да команды слушаешься,— тут мало вреда терпишь; только тогда и опасность большая бывает, когда дрогнешь да мяться начнешь, да еще коли побежишь назад,— ну, тут уж плохо дело. А покуда ' вперед идешь, мало тебе пушка вреда делает. Ведь из сотни-то ядер разве одно в человека попадет, а другие все мимо летят. И о пулях то же надо сказать. Тут грому много, а вреда мало. А кроме того, ружьями запасайтесь кто может, да всяким оружием.
Так вот оно какое дело: надо мужикам всем промеж себя согласье иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. А покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит - спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорится, что один в поле не воин. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит, везде поддержка подготовлена, ну тогда и дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом мужиком толкуй да подговаривай его, чтобы дело в настоящем виде понимал. А когда промеж вами единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое объявление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, и что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов будет, и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовка у тебя идет.
А это наше письмецо промеж себя читайте да друг дружке раздавайте. А кроме своего брата-мужика да солдата, ото всех его прячьте, потому что для мужиков да для солдат наше письмецо писано, а к другому ни к кому оно не писано, значит, окроме вас, крестьян да солдат, никому и знать об нем не следует.
Оставайтесь здоровы, да вести от нас ждите. Вы себя берегите до поры до времени, а уж от нас вы без наставления не останетесь, когда пора будет.
Печатано письмецо это в славном городе Христиании, в славном царстве Шведском, потому что в русском царстве царь правду печатать не велит. А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе дело приниматься, тогда откроемся.
Впервые прокламация была опубликована в статье М. К- Лемке «Дело Н. Г. Чернышевского» («Былое», 1906, № 4, стр. 179—187).
Крестьянская реформа 1861 г., проведенная царем и помещиками, не решила насущных вопросов русской жизни, но способствовала еще большему ограблению народа. Поэтому так называемое «освобождение» вызвало массовые волнения крестьян, которых, по словам В. И. Ленина, правительству «„очень часто" приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови заставлять принять «Положение», обдирающее их, как липку» (Поли. собр. соч., т. 5,.стр. 29). Все это обостряло революционную ситуацию в России и делало вполне возможным всеобщее крестьянское восстание.
Нелегальные прокламации, написанные революционно-демократическими публицистами и распространявшиеся в народе, разоблачали грабительский характер реформы и призывали к крестьянской революции.
Одним из самых ярких и последовательных программных документов революционной демократии была прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», написанная в 1861 г. Она была передана для напечатания в одну из нелегальных московских типографий, но в свет не вышла, так как о ней донес провокатор Вс. Костомаров.
(Печатается по изданию: «Книга. Исследования и материалы». Сб. 14. М., 1967, стр. 229—235.)
1 «Положение» 19 февраля 1861 г. обязывало крестьян в течение двух лет после личного освобождения нести повинности и работать на помещиков так, как они работали до реформы. В царском манифесте это мотивировалось не
обходимостью сделать «надлежащие приготовления к открытию нового по
рядка».
2 «Временно-обязанными» крестьяне оставались до. полной уплаты выкупных платежей за землю. Но так как помещики могли не предоставлять крестьянам землю в полную собственность, то временно-обязанное состояние цели
ком зависело от произвола господ и было юридически отменено лишь в конце 1883 г.
3 В это время в царской армии было немало прогрессивно настроенных офицеров; некоторые из них состояли членами тайных обществ «Великорусе», «Земля и воля», входили в организацию русских офицеров, поддерживавших
польское восстание 1863 г.
Н.А.Добролюбов
ОТ МОСКВЫ ДО ЛЕЙПЦИГА
И.Бабста (из «Атенея»). Москва, 1859
О СЛАВЯНОФИЛАХ! Две великие партии существуют издавна между русскими учеными по вопросу об отношениях России к другим народам Европы. Одна партия выражает свое убеждение на этот счет формулою: «Россия цветет, а Запад гниет»; а когда ее представители приходят в некоторый пафос, то начинают петь про Россию ту самую песню, которую, по свидетельству г. Милюкова, в недавно-изданных им заметках о Константинополе (стр. 130) ', оборванный мальчишка в константинопольской кофейной пел про Турцию,— а именно:
Нет края на свете лучше нашей Турции, нет народа умнее османлисов!' Им аллах дал все сокровища мудрости, бросив другим племенам только крупицы разумения, чтоб они не вовсе остались верблюдами и могли служить правоверным.
Нет города под луною, достойного быть предместьем нашего многоминаретного Стамбула *, да хранит его пророк. Нет в нем счета дворцам и киоскам, дорогим камням и лунолицым красавицам. Если бы Черное море наполнилось, вместо воды чернилами, то и его недостало бы описать, как сильна и богата Турция, сколько в ней войска и денег и как все народы завидуют ее сокровищам, могуществу и славе.
Г-н Милюков заверяет, что его проводник из греков переведши ему эту песнь, нагнулся к нему и шепнул в pendant ** к ней: «Собаки! Настоящие собаки!..» (стр. 131).
Но дело не о собаках...
В противоположность первой великой партии, сейчас охарактеризованной нами, другая партия зАПАДНИКИдолжна бы говорить: «Нет, Россия гниет, а Запад цветет». Но столь крайней и дерзкой формулы до сих пор в русской литература еще не появлялось и, конечно, не появится, ибо никто из нас не лишен патриотизма. Партия, противная туркоподобной партии, останавливается на положениях, гораздо более умеренных и основательных. Она говорит: «Каждый народ проходит известный путь исторического развития; Запад вступил на этот путь раньше, мы позже; нам остается еще пройти многое, что Западом уже пройдено, и в этом шествии, умудренные чужим опытом, мы" должны остеречься от тех падений, которым подверглись народы, шедшие впереди нас».
К этой второй из двух великих партий принадлежит и г. Бабст, как удостоверяют нас, между прочим, его .путевые письма, о которых мы намерены теперь говорить. Нужно отдать справедливость г. Бабсту: он является в своих письмах очень ловким адвокатом того дела, за которое взялся. На каждом шагу он умеет напомнить нам, как нас опередила Европа; в каждом немецком городке умеет найти какое-нибудь полезное или приятное учреждение, которого у нас еще нет и долго не может быть; по каждому из главнейших наших вопросов он представляет такие соображения и параллели, из которых ясно, что если уж Запад гниет, то и наше процветание придется назвать плесенью3...
<...> И при этом почтенный профессор не сомневается, что Европа все будет идти вперед, и теперь даже лучше — твёрже и прямее,— чем прежде. В прежнем своем шествии она, по мнению почтенного профессора, делала много ошибок, состоявших именно в том, что верила в возможность совершить что-нибудь вдруг, разом; теперь она поняла, что этого нельзя, что прогресс идет медленным шагом и что, следовательно, все нужно изменять и совершенствовать исподволь, понемножку... На этом медленном пути у Европы есть теперь надежные путеводители: гласность, общественное мнение, развитие в народах образованности — и; общей и специальной. С этим она уже неудержимо пойдет вперед, и никакие катастрофы впредь не увлекут ее. Теперь даже и гениальные люди и сильные личности не нужны Европе: без них все может устроиться и идти отлично, благодаря дружному содействию общества, умеющего избирать достойных и честных деятелей для каждого дела. Вот подлинные слова г. Бабста (стр. 17):
Гениальные государственные люди редки: они являются в тяжкие переходные минуты народной жизни; в них выражает народ свои задушевные стремления, свои потребности, свое неукротимое требование порешить со старым, дабы выйти на новую дорогу и продолжать жизнь свою по пути прогресса; но такие переходные эпохи наступают для народа веками, и, сильно сдается нам, задачи их и значение в истории чуть ли не прошли безвозвратно. Запас сведений и знаний в европейском человечестве стал гораздо богаче, гражданские права расширились, сознание прав усилилось, и, наконец, доверие к насильственным переворотам, вследствие горьких опытов, угасает. Потребности государственные и общественные принимаются всеми близко к ^сердцу, гласность допускает всеобщий народный контроль, уважение к общественному мнению в образованном правительстве воздерживает его от произвольных распоряжений, и оно же заставляет невольно выбирать в государственные деятели людей, пользующихся известностью людей, специально знакомых с частью государственного управления, в челе которой их ставят, а не первого проходимца; широко же разлитое в народе образование, и общее и специальное, дает возможность выбора достойнейшего. В Европе прошло или проходит по крайней мере то время, когда еще думали, что хороший кавалерист может быть и отличным правителем, плохой шеф полиции, или попросту полицмейстер,— директором важного специального училища. Такие явления возможны •были прежде, когда государственная жизнь была проще и не так сложна, когда хороший полководец мог быть действительно хорошим администратором 4.
<...> Во всем этом мы совершенно согласны с г. Бабстом. Желания его мы разделяем, не разделяем только его надежд,— ни относительно Европы, ни относительно нашей будущей непогрешимости 5. Мы очень желаем, чтобы Европа без всяких жертв и потрясений шла теперь неуклонно и быстро к самому идеальному совершенству; но — мы не смеем надеяться, чтобы это совершилось так легко и весело. Мы еще более желаем, чтобы Россия достигла хоть того, что теперь есть хорошего в Западной Европе, и при этом убереглись от всех ее заблуждений, отвергла все, что было вредного и губительного в европейской истории; но мы не смеем утверждать, что это так именно и будет...6 Нам кажется, что совершенно логического, правильного, прямолинейного движения не может совершать ни один народ при том направлении истории человечества, с которым она является перед нами с тех пор, как мы ее только знаем... Ошибки, уклонения, перерывы необходимы. Уклонения эти обусловливаются тем, что история делается и всегда делалась — не мыслителями и всеми людьми сообща, а некоторою лишь частью общества, далеко не удовлетворявшею требованиям "высшей справедливости и разумности7. От того-то всегда и у всех народов прогресс имел характер частный, а не всеобщий. Делались улучшения в пользу то одной, то другой части общества; но часто эти улучшения отражались весьма невыгодно на состоянии нескольких других частей. Эти, в свою очередь искали улучшений для себя, и опять на счет кого-нибудь другого. Расширяясь мало-помалу, круг, захваченный благодеяниями прогресса, задел наконец в Западной Европе и окраину народа—тех мещан, которых, по мнению г. Бабста, так не любят наши широкие натуры. Но что же мы видим? Лишь только мещане почуяли на себе благодать прогресса, они постарались прибрать ее к рукам и не пускать дальше в народ. И до сих пор массе рабочего сословия во всех странах Европы приходится поплачиваться, например, за прогрессы фабричного производства, столь приятные для мещан. Стало быть, теперь вся история только в том, что актеры переменились, а пьеса разыгрывается все та же. Прежде городские общины боролись с феодалами, стараясь получить свою долю в благах, которые человечество, в своем прогрессивном движении, завоевывает у природы. Города отчасти успели в этом стремлении; но только отчасти, потому что в правах, им наконец уступленных, только очень ничтожная доля взята была действительно от феодалов; значительную же часть этих прав приобрели мещане от народа, который и без того уже был очень скуден. И вышло то, что прежде феодалы налегали на мещан и на поселян; теперь же мещане освободились и сами стали налегать на поселян, не избавив их и от феодалов. И вышло, что рабочий народ остался под двумя гнетами: и старого феодализма, еще живущего в разных формах и под разными именами во всей Западной Европе, и мещанского сословия, захватившего в свои руки всю промышленную область. И теперь в рабочих классах накипает новое неудовольствие, глухо готовится новая борьба, в которой могут повториться все явления прежней... Спасут ли Европу от этой борьбы гласность, образованность и прочие блага, восхваляемые г. Бабстом,— за это едва ли кто может поручиться. Г-н Бабст так смело выражает свои надежды потому, что пред взорами его проходят всё люди среднего сословия, более или менее устроенные в своем быте; о роли народных масс в будущей истории Западной Европы почтенный профессор думает очень мало. КОММН-М ОПИРАЕТСЯ НА ШИРОКИЕ ОБЩ.МАССЫ Он полагает, кажется, что для них достаточно будет отрицательных уступок, уже ассигнованных им в мнении высших классов, то есть если их не будут бить, грабить, морить с голоду и т. п. Но такое мнение, во-первых, не вполне согласуется с желаниями западного пролетария, а во-вторых, и само по себе довольно наивно. Как будто можно для фабричных работников считать прочными и существенными те уступки, какие им делаются хозяевами и вообще — капиталистами, лордами, баронами и т. д.!.. Милостыней не устраивается быт человека; тем, что дано из милости, не определяются ни гражданские права, ни материальное положение. Если капиталисты и лорды и сделают уступку работникам и фермерам, так или такую, которая им самим ничего не стоит, или такую, которая им даже выгодна... Но как скоро от прав работника и фермера страдают выгоды этих почтенных господ,— все права ставятся ни во что и будут ставиться до тех пор, пока сила и власть общественная будет в их руках... И пролетарий понимает свое положение гораздо лучше, нежели многие прекраснодушные ученые, надеющиеся на великодушие старших братьев в отношении к меньшим... Пройдет еще несколько времени, и меньшие братья поймут его еще лучше. Горький опыт научает понимать многие практические истины, как бы ни был человек идеален <...>.
А что ни гласность, ни образованность, ни общественное мнение в Западной Европе не гарантируют спокойствие и довольство пролетария,— на это нам ненужно выискивать доказательств: они есть в самой книге г. Бабста. И мы даже удивляемся, что он так мало придает значения фактам, которые сам же указывает. Может быть, он придает им частный и временный характер, смотрит на них как на случайности, долженствующие исчезнуть от дальнейших успехов просвещения в европейских капиталистах, чиновниках и оптиматах9? Но тут уж надо бы привести на помощь историю, которую призывает несколько раз сам г. Бабст. Она покажет, что с развитием просвещения в эксплуатирующих классах только форма эксплуатации меняется и делается более ловкою и утонченною; но сущность все-таки остается та же, пока остается по-прежнему возможность эксплуатации. А факты, свидетельствующие о необеспеченности прав рабочих классов в Западной Европе и найденные нами у г. Бабста, именно и выходят из принципа эксплуатации, служащего там основанием почти всех общественных отношений. Но приведем некоторые из этих фактов.
В Бреславле г. Бабст узнал о беспокойстве между рабочими одной фабрики, требовавшими возвышения заработной платы, и о прекращении беспокойства военного силою. Вот как он об этом рассказывает и рассуждает (стр. 37—38):
Вечером, провожая меня наверх в мою комнату, толстый Генрих сообщал мне, что где-то около Бреславля было беспокойство между рабочими. «Haben sie was vora Arbeiterkrawall gehort, Herr Proffessor?» — «Nein» *'.— «Es sind... Ciirassiere dahin gegangen, haben auseinandergejagt». (Послали туда кирасир, и они разогнали работников). Дело в том, что на некоторых заводах хозяева Понизили задельную плату, работники отказались ходить на работу; конечно, начали собираться, толковать между собой. Это .показалось бунтом, послали кирасир, и бедных рабочих заставили разойтись и воротиться к хозяевам на прежних условиях. Начни работники действительно бунтовать, позволь они себе насилие, бесчинства — тогда для охранения общественного спокойствия и благочиния правительство самого свободного государства в мире не только вмешивается, но и полное на это имеет право; а какое же дело правительству до того, что работники не хотят работать за низкую плату' Употребляет ля когда-нибудь полиция меры для вынуждения у фабрикантов возвышения заработной платы? Такие случаи чрезвычайно как редки; а потому не следует притеснять рабочих, иначе все проповеди о благах свободной промышленности останутся пустыми и лишенными всякого смысла фразами. Кто смеет меня принудить работать, когда я не сошелся в цене? «Да зачем же они соединяются в общества? Это грозит общественной безопасности!» Так велите фабрикантам прибавить жалованье. Нет, это говорят, будет противно здравым началам политической экономии, — и на этом основании стачка капиталистов допускается, к ним являются даже на помощь королевско-прусские кирасиры, а такое кирасирское решение экономических вопросов, должно сознаться, очень вредно. Оно только доказывает, что в современном нам европейском обществе не выдохлась еще старая феодальная закваска и старые привычки смотрят на рабочего как на человека подначального и служащего. Подобные примеры полицейского вмешательства в дела рабочих и фабрикантов, к сожалению, не редки, и мы можем утешаться только тем, что лучшие публичные органы не перестают громко и энергически восставать против всякого произвольного вмешательства в отношения между хозяевами и рабочими, капиталом и трудом. Такой произвол всегда наносит глубокие раны промышленности, и если не навсегда, то по крайней мере надолго оставляет горечь и озлобление между двумя сторонами, а последствия этого бывают всегда более или менее опасны для общественного спокойствия.
Рассуждения г. Бабста очень основательны; но рабочий вовсе не считает утешительным, что за него пишут в газетах почтенные люди. Он на это смотрит точно так же, как (приведем сравнение— о ужас! — из «Свистка»!) глупый ванька смотрел на господина, который ему обещал опубликовать юнкера, скрывшегося чрез сквозной двор и не заплатившего извозчику денег 10..
Да и мы можем обратить г. Бабсту его фразу совершенно в противном смысле. «Лучшие публичные органы не перестают громко и энергически восставать против всякого произвольного вмешательства в отношении между хозяевами и рабочими, капиталом и трудом; и несмотря на то, произвол этот продолжается и по-прежнему наносит глубокие раны промышленности. Не печально ли это? Не говорит ли это нам о бессилии лучших органов и пр., когда дело касается личных интересов сословий?». О РЕВОЛЮЦИИ Г-н Бабст может нам ответить, что до сих пор они были бессильны, но наконец получат же силу и достигнут цели. Но когда же это будет? Да еще и будет ли? Призовите .на помощь историю: где и когда существенные улучшения народного быта делались просто вследствие убеждения умных людей, не вынужденные практическими требованиями народа?11 •
<...> Порукою за будущее служит для г. Бабста общественное мнение. В доказательство великой силы его в Германии он приводит следующий факт. «Посмотрите,— говорит он,— какое великое значение имеет здесь общественное мнение: весной 1857 года вышел проект нового ремесленного устава (о котором говорили мы выше), а в июне того же года собрались ремесленники в Хемнице и Росвейне, протестовали против стеснения промышленности, и правительство не решилось предложить устава на обсуждение палаты». Какое, в самом деле, сильное доказательство!.. Ну, а «кирасирское разрешение промышленных вопросов» — одобряется общественным мнением? А все стеснения цехов находят себе в общественном мнении защиту?.. Да и после протеста ремесленников что же сделали,— сняли снеснения, расширили свободу промыслов? Ничего не бывало! Отчего же это общественное мнение, заставившее оставить проект нового устава, не заставило в то же время сделать и некоторые облегчения для мелкой промышленности? Не оттого ли, что здесь общественное мнение (как угодно выражаться г. Бабсту) приняло для своего выражения форму не совсем обычную? Не оттого ли, хемницкие и росвейнские сходбища были — не просто отголоском общественного мнения, а криком боли притесняемых бедняков, решившихся наконец крикнуть, хотя это им и запрещено?..
Но, разумеется, и эта уступка была сделана только потому, что новые стеснения, предложенные новым уставом, были, собственно, никому не нужны. Иначе общественное мнение могло бы быть сдержано «кирасирскими возражениями». И кто бы помешал в Хемнице произвести в 1857 году то, что в 1859 году производили кирасиры около Бреславля, или что в 1849 году прусские солдаты делали в Дрездене? 12 Ведь самому же г. Бабсту рассказывал старый чех, как тогда, «упоенные победой и озлобленные сопротивлением, солдаты кидались в дома и выбрасывали с третьего этажа обезоруженных неприятелей — женщин и детей, как они прокалывали пленных и сбрасывали их с моста в Эльбу» (стр. 88).
<...> А до какой степени велика уже теперь сила образования в сравнении с силою грубого произвола, об этом очень красноречиво может свидетельствовать г. Бабсту история немецких университетов, которую он так хорошо излагает в своем четвертом письме. Университетам ли, уж кажется, не быть опорами образования? Ведь это учреждение вековое, высшее, свободное, укоренившееся в народной жизни, особенно в Германии. И что же оказалось? Университеты ограничены, стеснены, подвергнуты преследованиям, в которых, по словам г. Бабста, каждое немецкое правительство как будто хотело перещеголять друг друга... И все это прошло так, как будто бы все было в порядке вещей. А между тем как бесцеремонно поступали с бедняжками!
<...> Нет, нельзя и думать, чтобы отныне в Западной Европе все недостатки и злоупотребления могли уничтожаться и все благие стремления осуществляться одною силою того общественного мнения, какое там возможно ныне по тамошней общественной организации. ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ? Так называемое общественное мнение в Европе далеко не есть в самом деле общественное убеждение всей нации, а есть обыкновенно (за исключением весьма редких случаев) мнение известной части общества, известного сословия или даже кружка, иногда довольно многочисленного, но всегда более или менее своекорыстного. Оттого-то оно и имеет так мало значения: с одной стороны, оно и не принимает слишком близко к сердцу те действия, даже самые произвольные и несправедливые, которые касаются низших классов народа, еще бесправных и безгласных; а с другой стороны, и сам произвол не слишком смущается неблагоприятным мнением тех, которые сами питают наклонность к эксплуатации массы народной и, следовательно, имеют свой интерес в ее бесправности и безгласности. Если рассмотреть дело ближе, то и окажется, что между грубым произволом и просвещенным капиталом, несмотря на их видимый разлад, существует тайный, невыговоренный союз, вследствие которого они и делают друг другу разные деликатные и трогательные уступки, и щадят друг друга, и прощают мелкие оскорбления, имея в виду одно: общими силами противостоять рабочим классам, чтобы те не вздумали потребовать своих прав... Самая борьба городов с феодализмом была горяча и решительна только до тех пор, пока не начала обозначаться пред тою и другою стороною разница между буржуазией и работником. Как только это различие было понято, обе враждующие стороны стали сдерживать свои порывы и даже делать попытки к сближению, как бы ввиду нового общего врага. Это повторилось во всех переворотах, постигших Западную Европу, и, без сомнения, это обстоятельство было очень благоприятно для остатков феодализма, как для партии уже ослабевшей. Но для мещан эта робость, (сдержанность и уступчивость была вовсе невыгодна: вместо того чтобы окончательно победить слабевшую партию и истребить самый принцип, ее поддерживавший, они дали ей усилиться из малодушного опасения, что придется поделиться своими правами с остальною массою народа. Вследствие таких своекорыстных ошибок остатки феодализма и принципы его — произвол, насилие и грабеж — до сих пор еще не совсем искоренены в Западной Европе и часто высказываются то здесь, то там в самых разнообразных, даже цивилизованных формах...
Вообще, с изменением форм общественной жизни старые принципы тоже принимают другие, бесконечно различные формы, и многие этим обманываются. Но сущность дела остается всегда та же, и вот почему необходимо, для уничтожения зла, начинать не с верхушки и побочных частей, а с основания. МЫСЛИ О РЕВОЛЮЦИИ<...>
<...> Желание помочь делу как-нибудь и хоть сколько-нибудь, замазать трещину хоть на короткое время, остановиться на полдороге к цели, удовольствоваться полумерой, в надежде, что потом авось это сделается само собой, по неминуемым законам прогресса, — такое направление деятельности вовсе не есть исключительное свойство русского человека, как полагают некоторые патриоты. Так поступали деятели всех народов Европы, и от этой невыдержанности происходила, разумеется, большая часть их неудач. В этом смысле мы признаем, что народы Западной Европы постоянно впадали в ужасную ошибку. И тем более мы удивляемся, каким образом могут некоторые ученые люди защищать благодетельность паллиативных мер 13 для будущего прогресса Западной Европы и отвергать реформы общие и решительные, как гибельные для ее благоденствия. По некоторым предметам грешит в этом отношении и г. Бабст, хотя нужно признаться, что у него в иных случаях выражаются требования довольно широкие. Говоря о предоставлении гражданских прав евреям и требуя для них решительной полноправности, а не частных льгот, он приводит следующее сравнение. «Если вы хотите помочь разумному и деловому человеку в его предприятии,— неужели вы найдете более полезным отпускать ему деньги по грошам, чем вручить ему весь капитал, чтобы он был в состоянии приняться разом за производство» (стр. 11). Это сравнение очень умно; но его следует относить не к одним евреям: оно так же хорошо приходится и ко всем общественным преобразованиям, необходимым для Западной Европы... Тратиться по мелочи там решительно не для чего; нужно непременно пустить в оборот весь капитал, сколько его найдется.
<...>ВЫВОД Да, счастье наше, что мы позднее других народов вступили на поприще исторической жизни. Присматриваясь к ходу развития народов Западной Европы и представляя себе то, до чего она теперь дошла, мы можем питать себя лестною надеждою, что наш путь будет лучше. Что и мы должны пройти тем же путем, — это несомненно и даже нисколько не прискорбно для нас. Об этом говорит и г. Бабст: «Неужели обидно нам, когда мы должны прийти к убеждению, что, оставаясь вполне самостоятельными, мы все-таки проходим и проходили те же эпохи исторического развития, как и остальные народы Европы? Не будь этого мы были бы какими-то выродками человечества» (стр. 103). Что и мы на пути своего будущего развития не совершенно избегнем ошибок и уклонений, — в этом тоже сомневаться нечего. Но все-таки наш путь облегчен, все-таки наше гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы, которые так медленно переходило оно в Западной Европе. А главное — мы можем и должны идти решительнее и тверже, потому что уже вооружены опытом и знанием... Только нужно, чтобы это знание было действительным знанием, а не самообольщением, вроде наивных восторгов нашей безыменной гласностью и обличительной литературой... Обольщаться своими успехами и приписывать себе излишнее значение всегда вредно уже и потому, что от этого является некоторый позыв почить на лаврах, умиленно улыбаясь... Наклонность к этому всегда замечается у новичков в деле и у людей, от природы одаренных несколько маниловским складом-- характера; они всегда готовы сказать: «Довольно! пора отдохнуть». Но, к счастью, у нас есть такие энергические деятели, как г. Бабст, которые своими призывами и указаниями на то, что делается у других, пробуждают и нас от дремотной лени... Радуясь этому прекрасному явлению, мы решились своим слабым голосом аккомпанировать мощной речи г. Бабста, с кротким намерением заметить только — что и того, что сделано у других, все еще слишком мало.
Впервые статья была напечатана в журнале «Современник» (1859, № 11, отд. III, стр. 65—84).
Поводом для написания статьи был выход в свет сочинения профессора Московского университета буржуазного экономиста И. К. Бабста «От Москвы до Лейпцига», написанного в форме путевых заметок и опубликованного в журнале «Атеней» за 1859 г. Н. А. Добролюбов полемизирует с либерально-западническими воззрениями Бабста и противопоставляет им революционно-демократические взгляды на цели и пути общественно-политических преобразований в России. В отличие от Бабста, он не идеализирует буржуазный строй Западной Европы и на примерах из его сочинения показывает истинную сущность отношений между рабочими и буржуазией, считая борьбу между ними неизбежной. Добролюбов убедительно доказывает, что «ни гласность, ни образованность, ни общественное мнение», которыми так восхищался Бабст в Западной Европе, «не гарантирует спокойствие и довольство пролетария» и служат только интересам власть имущих, что «пока остается по-прежнему возможность эксплуатации», «только форма эксплуатации меняется и делается более ловкою и утонченною». Насколько это было возможно в подцензурных условиях, Добролюбов стремился довести до читателей мысль, что социальный вопрос и на Западе, и в России может разрешить только народная революция.
(Печатается в сокращении по изданию: Н. А. Добролюбов. Собр. соч. В 9-и т. Т. 5 М.— Л., 1962, стр. 452—471).
* Слышали ли вы что-нибудь про волнения рабочих, господин профессор?— Нет. {нем.). — Ред
1848 - КОМУН-М МАРКС, ИДЕИ СОЦИАЛИ, БУРж. РЕВОЛ.
РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ, РЕВ.-ДЕМ, ПРАВЫЕ
1 Милюков А. П. (1817—1897)—историк литературы. Добролюбов цитирует его книгу «Афины и Константинополь» (Спб., i859).
2 Сорок — группа церквей одного района, составляющая староство, или благочиние
3 Вместо слов «ясно, что если уж Запад гниет, то и наше процветание придется назвать плесенью» в «Современнике» по цензурным условиям было напечатано: «можно извлечь и для нас полезные применения». Все последующие сокращения и изменения в журнальном тексте были сделаны по требованию цензуры.
4 Двух последних фраз цитаты в «Современнике» не было.
5 В «Современнике» иное окончание фразы: «его надежд относительно Европы».
6 Этой фразы в «Современнике» не было.
7 В этой фразе вместо слов «история делается и всегда делалась» в «Современнике» было «история всегда делалась»; вместо слов «далеко не удовлетворявшею» — «не всегда удовлетворявшею».
8 Вместо слов «во всех странах Европы» в «Современнике» было «в некоторых странах Европы».
' Оптиматы — в Древнем Риме политическая группировка рабовладельческой аристократии, которая выражала интересы крупных землевладельцев и опиралась на сенат. Оптиматам противостояли популяры, имевшие поддержку -в народном собрании. Добролюбов называет оптиматами западноевропейских землевладельцев.
10 Добролюбов намекает на сюжет своего стихотворения «Безрассудные •слезы», опубликованного в № 2 «Свистка» («Современник», 1859, № 4) под псевдонимом «Конрад Лилиеншвагер» и высмеивающего дозволенную «гласность». «Ваньками» называли извозчиков.
11 Текста от слов «где и когда существенные улучшения» до слов «практическими требованиями народа?» в «Современнике» не было.
12 Имеется в виду жестокое подавление прусскими войсками восстания в Дрездене в мае 1849 г.
13 Мер, не обеспечивающих полного, коренного решения поставленной задачи, полумер (от франц. palliation — временное облегчение).
Вопросы и задания.
1. Общественная обстановка в России в конце 40-х – начале 50-х годов. Цензурно-политический террор и русская журналистика.
2. «Современник» Некрасова и Панаева как наиболее прогрессивный журнал этого периода. Превращение журнала в предреформенное и послереформенное время в орган революционной демократии. Традиции Белинского.
3. Чернышевский и Добролюбов – главные критики «Современника». Соотнесенность политических взглядов с эстетическими. Полемика с либеральными изданиями.
4. Критика «реальная» и «эстетическая»
5. Оценка «Современником» крестьянской реформы 1862 года. Нелегальная прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»: жанр произведения, его соотнесенность с главной идеей; система аргументов; стилистические особенности.
6. Основные идеи и система аргументации в статье Н.Добролюбова «От Москвы до Лейпцига».
Практическое занятие 11
А.И.Герцен
VII ЛЕТ
Семь лет тому назад вышел первый лист «Колокола» в июле 1857. С тех пор много раз останавливались мы, сверяя свой путь с событиями и спрашивая себя, туда ли .мы идем, так ли идем? Цель наша, наши основные догматы были неизменны; задача наша та же, но способы разрешения ее должны были меняться. Мал ли, велик ли ручей, путь его зависит не от него, а от общих склонов и скатов материка.
Но, приближаясь к семилетью, нас занимал другой вопрос, и именно — следует ли нам вообще продолжать или приостановиться и переждать пароксизм безумной реакции?
Россия явным образом сорвалась с пути, на который попала в 1855, и несется третий год рядом преступлений и нелепостей — к ряду бедствий, которые переработаются, может быть, но, наверное, не пройдут ей даром.
Рев, вой, шипенье казенного, свирепого патриотизма заглушает всякое человеческое слово. Образованная Россия оказалась гораздо больше варварской, чем Россия народная. На этом варварстве ее стали возможными ужасные дела и ужасные слова: казни в Польше, каторги в России, раненый Сераковский, вздернутый на виселицу', Чернышевский, белым днем выставленный у позорного столба, и все прочие неистовства правительства и общества.
Пока продолжается этот «запой» кровью, для чего наша речь? С кем нам говорить, для кого писать, печатать?
Если б не было так больно замолчать, мы замолчали бы... Замолчать — значит отвернуться, позабыть на время,— это свыше наших сил. У нас слишком много осталось любви и веры, слишком много накопилось негодования и ненависти, чтоб молчать. В душе нет мира и покоя; нет ни безучастья, ни отчаяния, наконец, после которого человек опускает руки и ждет, скоро ли упадет завеса.
Прошлое обязывает, Мы имели довольно голоса и смелости, чтоб начать речь... мы ее продолжали середь рукоплесканий сверху и снизу — надобно иметь дух продолжать ее, пока пьяные отрезвятся. Продолжать для того, чтоб не умолк последний протест, чтоб не заглохло угрызение совести, чтоб не было вдвое стыдно потом, чтоб иной раз опять выжечь клеймо позора на узком лбе палачествующего правительства, обнищавшего дворянства и шпионствующей журналистики.
Итак, наш звон по-прежнему будет сзывать живых2 до тех пор, пока они придут или мы убедимся, что их нет.
Не ждали мы, начиная нашу пропаганду, что придем к такому страшному времени, что будем в необходимости так говорить, — но разве кто-нибудь ждал?
В 1855 и в 1857 г. перед нами была просыпавшаяся Россия. Камень от ее могилы был отвален и свезен в Петропавловскую крепость3. Новое время сказалось во всём — в правительстве, в литературе, в обществе, в народе. Много было неловкого, неискреннего, смутного, но все чувствовали, что мы тронулись, что пошли и идем. Немая страна приучалась к слову страна канцелярской тайны — к гласности, страна крепостного рабства — роптать на ошейник. Правительство делало, как иерусалимские паломники, слишком много нагрешившие, три шага вперед и два назад, один все же оставался. Партия дураков, партия стариков была в отчаянии, крепостники прикидывались конституционными либералами...
С половины 1862 г. ветер потянул в другую сторону. На неполное освобождение крестьян потратились все силы правительства и общества — и заторможенная машина двинулась назад.
Мы спрашиваем всех деятелей, явившихся после смерти Николая, от Константина, Горчакова и Суворова до братьев Милютиных 4, пусть они скажут, положа руку на сердце, предвидел линз них кто-нибудь кровавую грязь, в которую Россия въехала по ступицу всеми четырьмя колесами благодаря таким кучерам, как Муравьев5, и подстегивающим лакеям, как Катков?
Предвидели ли они, что смертная казнь сделается у нас ежедневным, обыкновенным делом, что военнопленных будут расстреливать, что раненых будут вешать, что будут в день казнить по шести человек по приказу какого-нибудь ничтожного генерала? *.
Что за тайно напечатанный листок юношеских мечтаний и теоретических утопий7 будут ссылать на каторжную работу и вечное поселение — людей молодых, честных, чистых, без уважения к их таланту, к их непорочному имени?
Что политических сосланных будут хуже содержать, чем при Николае, и что найдутся звери, которые предложат в Акатуевске селюлярную тюрьму?8.
Что у нас будут закрывать школы за то, что ученики не хотят целовать руку попу?9.
Что у нас разовьется литература доносов и она сделается литературой дня, что язык журналистов оподлеет до языка перебранивающихся будочников и жандармов, что мы, развертывая газету, переходим в переднюю III отделения и в канцелярию съезжего дома?
Что Муравьев, которым гнушалась вся Россия и сам государь, сделается героем и что его в Москве будут сравнивать с Ермоло 

 вым и Суворовым, а в Петербурге носить на креслах10, что Катков будет выгонять сенаторов из Английского клуба и и серьезно принимать себя за будущего Сперанского?
вым и Суворовым, а в Петербурге носить на креслах10, что Катков будет выгонять сенаторов из Английского клуба и и серьезно принимать себя за будущего Сперанского?
Нет, этого никто не мог предвидеть. Ужасы, от которых сердце обливается кровью и занимается дух, делались и при Николае сплошь да рядом. Забитое и трусливое общество молчало, не показывало- участия, лгало на себя сочувствие, но не аплодировало. Своекорыстные исполнители делались холодными палачами. Теперь общество рукоплещет, палачи казнят с горячностию, делаются виртуозами, идут далее приказа.
Мы не можем привыкнуть к этой страшной, кровавой, безобразной, бесчеловечной, наглой на язык России, к этой литературе фискалов, к этим мясникам в генеральских эполетах, к этим квартальным на университетских кафедрах, к этим робеспьеровским трикотезам 12 Зимнего дворца, старым, седым, беззубым девкам и бабам, к этим Катковым в юбке и Аскоченским в кринолинах, с их просвирками, вынутыми за здравие Михаила Николаевича13, безобразными образами, посланными ему в благословение,— к этим волчицам без молока, без Ромула и Рема, которые перенесли ревность диких самок в любовь к отечеству.
• Ненависть, отвращение поселяет к себе эта Россия. От нее горишь тем разлагающим, отравляющим стыдом, который чувствует любящий сын, встречая пьяную мать свою, кутящую в публичном доме.
...Зачем, Россия, зачем твоя история, шедшая темными несчастьями и глухою ночью, должна еще идти водосточными трубами? Зачем на другой день после освобождения, когда ты могла миру в первый раз от роду, с радостно поднятой головой, показать, Какое руно сохранила ты, бедная, под розгами помещика, под палкой полиции под царским кнутом, — зачем ты дала себя стащить в эту канаву, в эту помойную яму? Терпи теперь, народ русский, на чужом пиру похмелье, неси на могучих плечах твоих, как богатырь-каторжник в одной сказке*, темными, длинными, гадкими, вонючими, скользкими, ледящимися переходами твоего будущего сына. Ты один выйдешь чист. Лишенный досуга мысли, ты не повинен в ими избранном пути, тебе насильно брили лоб, насильно дали ружье, и ты пошел, бессмысленно слушаясь, убивать и грабить с голода. Только ты не кичись этим — на том же основании право и море утопившее корабль, и волк, заевший
" путника...
Ну а вы, не-народ, опора нынешнего порядка дел, отцы отечества, интеллигенция, цивилизация, прочные интересы, демократическая шляхта, командиры и учителя... вы ведь не достойны участи каторжника, вы же ничего не несете — вы уж так и оставайтесь. С.-петербургский обер-полицмейстер и николаевский генерал-адъютант Кокошкин, ваш Курций, дал вам прекрасный пример... н.
Так вот до чего выработались вы в полтора века дрессировки, купленный потом, голодом, холодом целого народа, рубцами на его спине?.. Так этому-то вас научили немцы, академии, корпуса, университеты, лицеи, институты, смольные монастыри, гувернеры, гувернанты? Видно, конюшня родительского дома учила красноречивее, видно, натура холопа-рабовладетеля не так легко затыкается за пояс французской грамматикой? Поздравляем вас, на вашей улице праздник, только он необыкновенно короток. Вы даже того не сообразили, что шли в комнату, а попали в другую 15, вы не знаете, кому вы подали руку, вы никогда не были разборчивы, а только надменны. Вы не узнали Емельяна Пугачева, одетого не Петром III для службы народу, а квартальным надзирателем для царской службы... Вы еще не подумали, что значит голштино-аракчеевская, петербургски-царская демократия, скоро почувствуете вы, что значит красная шапка на петровской дубинке. Вы погибнете в пропасти, которую роете вместе с будочниками, и на вашей могиле с деревянным крестом (мраморов будет не на что ставить) посмотрят друг другу в лицо — сверху лейб-гвардии император, облеченный всеми властями и всеми своеволиями в мире, снизу закипающий, свирепеющий океан народа, в котором вы пропадете без вести.
Кто кого сглазит?
Мы догадываемся, но не знаем. Вот что касается до вас, то бога ради не подумайте, что нам вас жаль. Помилуйте. Вам пора сойти со сцены, вы свое сделали; сделали вы нехотя, и за то вам нет уважения, сделали вы думая только о себе, и за то нет вам благодарности. Вы были той пустой средой, тем прозрачным проводником, которым свет западной науки осветил нашу темную жизнь,— дело сделано и пойдет без вас. Вы, как воздух, пропуская лучи, не захватили себе света — увидели другие и знают теперь, что у нас есть в хате и чего не достает. Эти другие пойдут работать, а вы прощайте. Только зачем вы так скверна гниете?'
Вместо того, чтобы со слов квартальных демократов и демагогов III отделения ругать польское дворянство, вы, милые крепостники вчерашнего дня, поучились бы у них честной кончине. Какое прошедшее не искупится таким принесением себя на жертву. Их очистительный, примирительный подвиг пойдет из века в века, будя юношу и мужа и заставляя биться всякое благородное сердце. Ну, а вас, демократическая аристократия, чем поминать, чем вы искупаете вашу чужеядную жизнь, ваше пиявочное существование?.. За что вас пожалеть? За то ли что Иоанн Грозный вас пилил, а вы ему пели псалмы? За то ли, что до Петpa вас из-за государева стола водили постегать за местничество и вы выпоронные приходили доедать курей верченых и пироги пряженые? За то ли, что после Петра вас, снём рубаху, били батожьем, а вы целовали его державную руку, а потом руку конюха Бирона и его немцев, а когда пришел немец, которому сдуру вас стало жаль и он не велел вас бить, так вы его отравили и задушили в Ропше? 16. За то ли, что деды ваши при Николае плясали у него на коронации, когда их сыновья шли скованные на каторжную работу? Разве за этих сыновей?
За них, за наших великих путеводителей17, да, за них многое можно бы отпустить их предкам.
Но что же сказать о их сыновьях?
У них не было их, у них были приемыши, им они и оставили наследство. Они его оставили той среде, с которой подымается и растет на свет Новая Россия, крепко подкованная на трудный путь, закаленная в нужде, горе и унижении, тесно связанная жизнью с народом, образованием с наукой. Ей доставалась одна обида сверху и одно недоверие снизу...Ей достается великое дело развития народного быта из неустроенных элементов его — зрелой мыслью и чужим опытом. Она должна спасти народ русский от императорского самовластия и от него самого. Ее не тяготит ни родовое имущество, ни родовое воспоминание, в ней мало капиталов и вовсе нет привязанности к существующему.. Она стоит свободная от обязательств и исторических пут.
Предшественником ее был плебей Ломоносов, могучий объемом и всесторонностью мысли, но явившийся слишком рано. Среда, затертая между народом и аристократией, около века после него билась, выработывалась в черном теле. Она становится во весь рост только в Белинском и идет на наше русское крещенье землею на каторгу в лице петрашевцев, Михайлова, Обручева, Мартьянова 18 и пр. Ее расстреливают в Модлине 19 и разбрасывают по России в лице бедных студентов, ее, наконец,— эту новую Россию — Россия подлая показывала народу, выставляя Чернышевского на позор.
Среда пестрая, хаотическая, среда брожения и личного вырабатывания, среда алчущая и неудовлетворенная, она состоит из всего на свете — из разночинцев и поповских детей, из дворян-пролетариев, из приходских и сельских священников, из кадет, студентов, учителей, художников; в нее рвутся пехотные офицеры и иной кантонист, писаря, молодые купцы, приказчики... в ней образцы и осколки всего плавающего в России над народным раствором. Вступая при новом брожении в иные химические соединения, они всплывают из народа и распускаются в нем. Это почва зародышей, засеянное поле, на удобрение которого пойдут гниющие и разлагающиеся верхи, чтоб и они не остались, как купец Коробейников20, не взнисканными всепрощающей амнистией истории и всеперерабатывающим круговоротом жизни.
Удар за ударом бьет эту среду, она побита наголову, но дело не побито, оно меньше побито, чем 14 декабря, плуг пошел дальше и глубже. Зерна царского посева не пропадают на каторге, они прорастают толстые тюремные стены и снегом покрытые рудники.
Для этой новой среды хотим мы писать и прибавить наше слово дальних странников — к тому, чему их учит Чернышевский с высоты царского столба, о чем им говорят подземные голоса из царских кладовых, о чем денно и нощно проповедует царская крепость — наша святая обитель, наша печальная Петропавловская Лавра на Неве.
Середь ужасов, нас окружающих, середь боли и унижений нам хочется еще и еще раз повторить им, что мы с ними, что мы живы духом... и не хотим больше ни исправлять неисправимых, ни лечить неизлечимых, а хотим вместе с ними работать над отысканием путей русского развития, над разъяснением русских вопросов.
1 июля 1864.
Статья А. И. Герцена опубликована впервые в «Колоколе» (лист 187 от 15 июля 1864 г., стр. 1533—1535, с подписью: И—р).
События первых пореформенных лет окончательно убедили Герцена в том, что русская либеральная интеллигенция открыто встала на сторону реакции и что союз, который Герцен старался прежде сохранить с ней — ради сплочения всех оппозиционных сил, — теперь невозможен. И Герцен, по его признанию, больше не хотел «исправлять неисправимых», «лечить неизлечимых». Теперь он обращается только к разночинцам — к «новой России», «закаленной в нужде, горе и унижении, тесно связанной жизнью с народом, образованием с наукой», объявляя, что именно для них он будет выпускать- «Колокол» и вместе с ними «работать над отысканием путей русского развития, над разъяснением русских вопросов».
Печатается по изданию: А. И. Герцен. Собр. соч. В 30-ти т. Т. 18. М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 238—244.
* «В газету «Голос» пишут из Иркутска, что там двое ссыльных и три крестьянина, дети каторжных, зарезали целое семейство бурят, а чтобы спрятать концы в воду, сожгли юрту зарезанных. Злодеев отыскали и схватили. Их судили военным судом по полевому военному положению. Четверо из преступников приговорены к расстрелянию, а пятый сослан в каторжную работу». После Петра I и Бирона ничего подобного не видала Россия. Кровь льется царскими палачами, как вода. Казни, к которым, скрепя сердце, едва осмеливалась прибегать Екатерина II, от которых сдерживался сам Николай, теперь совершаются ежедневно. Смертная казнь введена помимо Свода, каким-то задним крыльцом в уголовное законодательствов. Какое полевое военное положение во время мира, зачем Сибирь в осадном положении?
1 Сигизмунд Сераковский (1827—1863) — офицер русской армии, друг Чернышевского; возглавил в 1863 г. восстание в Литве, попал, раненый, в плен и был казнен.
2 Девизом «Колокола» были взяты начальные слова-«Песни о колоколе» Шиллера: «Vivos voco»- (Зову живых).
3 Подразумевая под «камнем» Николая I, похороненного в соборе Петропавловской крепости, Герцен напоминает евангельскую легенду о камне, который прикрывал гроб Иисуса и в день его воскресения был отвален сошедшим с небес ангелом.
4 Константин Николаевич, великий князь (1827—1892) — брат Александра II, в. 1862—1863 гг. наместник Царства Польского, в 1865—1881 гг. председатель Государственного совета. Горчаков А. М. (1798—1883) - дипломат, в 1856—1882 гг. министр иностранных дел. Суворов А. А. (1804—1882)—внук полководца, в 1861—1866 гг. петербургский генерал-губернатор, член Государственного совета. Милютин Д. А. (1816—1912) — военный министр в 1861—1881 гг. Милютин Н. А. (1818—1872)—товарищ, министра внутренних дел, фактический руководитель всех мероприятий по подготовке крестьянской реформы в 1859—1861 гг., в 1863—1866 гг. статс-секретарь по делам Польши, автор Положения о крестьянской реформе в Польше (1864).
s Муравьев М. Н. (1796—1866) — ярый крепостник, жестокий усмиритель польского восстания 1863 г., прозванный «Муравьевым-вешателем».
6 По своду законов 1832 г. смертная казнь допускалась только за государственные преступления. Однако во время польского восстания последние трактовались весьма расширительно и смертная казнь стала массовым явлением.
7 Прокламация Н. В. Шелгунова и М. Л. Михайлова «К молодому поколению» (1861).
8 Акатуевская каторжная тюрьма, которая находилась более чем в 600 километрах от Читы, была тюрьмой с особо жестоким режимом для политических заключенных. Селюлярная — клеточная.
9 В заметке, опубликованной в предыдущем 186 листе «Колокола», Герцен писал: «Кёльнская 1азета» («Kolnische Zeitung».— Ред.) говорит, что два высших класса Школы правоведения закрыты за то, что ученики отказались лобызать руку священника, преподающего логику (кажется, не следовало бы поручать человеку веры науку 'мысля). Неужели и это правда?»
10 В «Московских ведомостях» (1864, 3 мая, № 98) подавление Муравьевым восстания в Польше сравнивалось с победами Суворова и Ермолова. В отчете о встрече в Петербурге прибывшего из Вильно Муравьева сообщалось, что его в кресле вынесли из вагона на руках («Московские ведомости», 1864, 30 апреля, №95).
11 В статье «Наши прогрессы» Герцен писал: «Рассказывает же один журнал, что какой-то сенатор К-н, осмелившийся не одобрить ни мер Муравьева, ни поддержку их развратной прессой, был обруган Катковым и приглашен членами Английского клуба (где происходила эта сцена) оставить клуб!» (А. И. Герцен. Собр. соч. В 30-ти т. Т. 18, стр. 225).
12 Т р и к о т е з ы (от франц. tricoter — вязать) — женщины из народа, присутствовавшие в судах при разборе дел изменников во время якобинского террора. «Трикотезами Зимнего дворца» Герцен иронически называет придворных дам, ретиво выражавших свои восторги по поводу усмирения Польши.
13 Имеется в виду М. Н. М у р а в ь е в. v
14 Герцен иронически называет-С. А. Кокошкина, о котором ходили слухи, что он утонул, провалившись в помойную яму, именем легендарного римлянина Марка Курция, который бросился в пропасть, раскрывшуюся в Риме, чтобы спасти город.
15 Герцен перефразирует слова Софьи из комедии Грибоедова «Горе от ума» (дейст. 1, явл. 4).
16 Имеется в виду Петр III, освободивший дворян от обязательной государственной службы. Вскоре после дворцового переворота 1762 г. он был задушен в Ропше караулившими его гвардейскими офицерами.
17 Герцен говорит о декабристах.
18 Мартьянов П. А. (1834—1865)—сын крепостного крестьянина; из Лондона, где он находился по торговым делам, послал в 1862 г. письмо Александру II, где развивал идеи внесословной народной монархии во главе с зем
ским царем. За распространение этого письма арестован при возвращении в Россию в 1863 г. и осужден на пять лет каторги и поселение в Сибири.
19 16 июня 1862 г. в крепости Модлин были расстреляны члены подпольной организации русских офицеров в Польше — И. Н. Арнгольт, П. М. Сливицкий и Ф. Ростовский. .
20 Трифон Коробейников (ум. после 1594 г.) — купец и путешественник, автор книги «Хождение Трифона Коробейникова и како ходил во. Иерусалим и многие святые места видел».
Вопросы и задания.
1. Роль Герцена в революционном движении России. Герцен – создатель вольной русской прессы за границей. Вольная русская типография.
2. Взгляды Герцена на пути развития России. Альманах «Полярная звезда». Программа издания. Традиции декабризма.
3. Газета «Колокол».
А) программа и тематика накануне реформы 1861 года;
Б) оценка реформы 1861 года в «Колоколе»;
В) полемика с либеральными и консервативными изданиями;
Г) полемика с «Современником»;
4. Статья Герцена «У11 лет»: жанр; проблематика; система аргументов; стилистические особенности.
5. Литературно-публицистическое мастерство Герцена. Жанры его публицистики.
Практическое занятие 12
Д.И.Писарев
<0 БРОШЮРЕ ШЕДО-ФЕРРОТИ > *
Глупая книжонка Шедо-Ферроти сама по себе вовсе не заслуживает внимания, но из-за Шедо-Ферроти видна та рука, которая щедрою платою поддерживает в нем и патриотический жар и литературный талант. Брошюра Шедо-Ферроти любопытна как маневр нашего правительства. Конечно, члены нашего правительства не умнее самого Шедо-Ферроти, но что делать, мы покуда от них зависим, мы с ними боремся, стало быть, надо же взглянуть в глаза нашим естественным притеснителям и врагам. Обскурантов теперь, как известно, не существует. Нет того квартального надзирателя, нет того цензора, нет того академика, нет даже того великого князя, который не считал бы себя умеренным, либералом и сторонником мирного прогресса. Считая себя либералом, как-то неловко сажать людей под арест или высылать их в дальние губернии за печатно выраженное мнение или за произнесенное слово. Правительство наше, которое все наголо состоит из либералов, начинает это чувствовать. Александру Николаевичу совестно ссылать Михайлова и Павлова '; сослать-то он их сослал, но, боже мой, чего это стоило его чувствительному сердцу! — Студенту Лебедеву проломили голову2, но правительству тут же сделалось так прискорбно, что оно напечатало в газетах объяснение: так и так, дескать, это случилось по нечаянности, ножнами жандармской сабли.
Словом, наше либеральное правительство уважает общественное мнение и для своих мирно-прогрессивных целей пускает в ход благородные средства, как-то: печатную гласность. Валуев и Никитенко сооружают газету с либеральным направлением и при этом продолжают все-таки преследовать честную журналистику доносами и цензурными тисками3. Публицист IIIотделения, барон Фиркс, Шедо-Ферроти тож, по поручению русского правительства пишет и печатает в Берлине брошюры без цензуры; великодушное правительство смотрит сквозь пальцы на ввоз этого заказанного, но официально запрещенного товара; его продают открыто в книжных лавках; не давая своего официального разрешения, правительство упрочивает за книжкою заманчивость запретного плода; допуская и поощряя из-под руки продажу книжки, правительство обнаруживает свое великодушие. О, как все это тонко, остроумно и политично! А между тем журналам не позволяют разбирать книжонку; Шедо-Ферроти, как в прошлую осень Борис Чичерин, объявляются личностями священными и неприкосновенными4.— Горбатого одна могила исправит; наши умеренные либералы ни при каких условиях не сумеют быть честными людьми; наше правительство никогда не отучится от николаевских замашек. У него есть особенный талант оподлять всякую идею, как бы ни была эта идея сама по себе благородна и чиста. Например, все порядочные люди имеют привычку на печатное обвинение отвечать так же печатно и защищаться, таким образом, тем же оружием, каким вооружен противник. Наше правительство захотело доказать, что оно тоже порядочный человек. Находя, что Герцен несправедливо обвинил его, наше правительство высылает своего рыцаря. Кажется, очень хорошо и благородно. Но посмотрите поближе. Произведение Шедо-Ферроти впущено в Россию, а сочинения Герцена остаются запрещенными. Публика видит, что Герцена отделывают, а того она не видит, за что его отделывают. Конечно, и «Полярная звезда», и «Колокол», и «Голоса из России», и грозное «Под суд!» известны нашей публике, но ведь все эти вещи провозятся и читаются вопреки воле правительства; стало быть, если оценивать только намерения правительства, то надо будет убедиться в том, что оно хочет чернить Герцена, не давая ему возможности оправдываться и обвинять в свою очередь. Чернить человека, которого сочинения строжайше запрещены! Подло, глупо и бесполезно!— Заказывая своему наемному памфлетисту брошюру о Герцене, правительство, очевидно, хочет продиктовать обществу мнения на будущее время. Это видно по тому, что мнения, противоположные мысленкам Шедо-Ферроти, не допускаются к печати. Правительство сражается двумя оружиями: печатного пропагандою и грубым насилием, а у общества отнимается и то единственное оружие, которым оно могло и хотело бы воспользоваться. Обществу остается или либеральничать с разрешения цензуры, или идти путем тайной пропаганды, тем путем, который повел на каторгу Михайлова и Обручева5. Хорошо, мы и на это согласны; это все отзовется в день суда, того суда, который, вероятно, случится гораздо пораньше второго пришествия Христова.
Из чтения брошюры Шедо-Ферроти мы вынесли самое отрадное впечатление. Нас порадовало то, что при всей своей щедрости, правительство наше принуждено пробавляться такими плоскими посредственностями. Приятно видеть, что правительство не умеет выбирать себе умных палачей, сыщиков, доносчиков и клеветников; еще приятнее думать, что правительству не из чего выбирать, потому что в рядах его приверженцев остались только подонки общества, то, что пошло и подло, то, что неспособно по-человечески мыслить и чувствовать.
Брошюра Шедо-Ферроти имеет две цели: 1) доказать, что петербургское правительство не имеет ни надобности, ни желания убить Герцена, 2) осмеять и обругать при сем удобном случае Герцена как пустого самохвала и как загордившегося выскочку.
Чтобы доказать первое положение, Шедо-Ферроти утверждает, что Герцен вовсе не опасен для русского правительства и что, следовательно, даже III отделение не решится убить его. Процесс доказательств идет так: убивают только таких людей, от смерти которых может перемениться весь существующий порядок вещей в одном или в нескольких государствах; если Герцен, получая подметные письма о намерениях русского правительства, верит этим письмам, тогда он считает себя особою европейской важности и, следовательно, обнаруживает глупое тщеславие; если же он, не веря этим письмам, подымает гвалт, тогда он пустой и вздорный крикун.— Весь этот процесс доказательств рассыпается, как карточный домик.— Во-первых, правительства ежегодно убивают несколько таких людей, которые могли бы оставаться в живых, вовсе не нарушая существующего порядка. Дезертир, которого запарывают шпицрутенами, вовсе не особа европейской важности. Бакунин, которого захватили обманом6, Михайлов, Обручев, поручик Александров7 вовсе не особы европейской важности, а между тем правительство заживо хоронит их в рудниках и в крепостях. Правительство вовсе не так дорожит жизнью отдельного человека, чтобы казнить и миловать с строгим разбором. Ведь —турецкий султан и персидский шах вешают зря, как вздумается, а, кажется, в наше время только учебники географии проводят различие между деспотическим правлением и правлением монархическим неограниченным. На основании какого закона повешено пять декабристов? А если правительство казнит по своему произволу, то отчего же оно не может, потому же произволу, подослать убийцу? Где разница между казнью без суда и убийством из-за угла? В,наше время каждый неограниченный монарх поставлен в такое положение, что он может держаться только непрерывным рядом преступлений. Чтобы подданные его не знали о своих естественных человеческих правах, надо держать их в невежестве—вот вам преступление против человеческой мысли; чтобы случайно просветившиеся подданные не нарушили субординации, надо действовать насилием— вот еще преступление; чтобы иметь в руках орудие власти — войско, надо систематически уродовать и забивать несколько тысяч молодых, сильных, способных людей —опять преступление. Идя по этой дороге преступлений, нельзя отступать от убийства. Посмотрите на Александра II: в его личном характере нет ни подлости,, ни злости, а сколько подлостей и злодеяний лежит уже на его совести! Кровь поляков8, кровь мученика Антона Петрова9, загубленная жизнь Михайлова, Обручева и других, нелепое решение крестьянского вопроса, истории со студентами 10, — на что ни погляди, везде или грубое преступление, или жалкая трусость. Слабые люди, поставленные высоко, легко делаются злодеями. Преступление, на которое никогда не решился бы Александр II как честный человек, будет непременно совершено им как самодержцем всея России. Тут место портит человека, а не человек место. — Если бы наше правительство потихоньку отправило бы Герцена на тот свет, то, вероятно, в этом не нашли бы ничего удивительного те люди, которые знают, что делалось в Варшаве и в Казанской губернии.— Но допустим даже, что наше правительство не намеревалось убить Герцена; из этого еще вовсе не следует, чтобы III отделение не могло написать к нему несколько писем, наполненных глупыми угрозами и площадною бранью; судя по себе, Бруты и Кассии нашей тайной полиции могли надеяться, что Герцена можно запугать; чтобы разом покончить все эти нелепые проделки, Герцен написал и напечатал письмо к представителю русского правительства. Этим письмом он заявил публично, что если бы за угрозами последовали действия, то вся тяжесть подозрения упала бы на Александра II. Агенты, подсылавшие к Герцену письма, должны были увидеть, что Герцен их угроз не боится. Следовательно, им осталось или действовать, или замолчать. Действовать они не решились — духу не хватило; замолчать тоже не хотелось; ведь они думают, что прав тот, кто сказал последнее слово; вот они и выдумали пустить против Герцена книжонку Шедо-Ферроти; родственное сходство между Шедо-Ферроти и сочинителями подметных писем не подлежит сомнению; недаром же Шедо-Ферроти на двух языках отстаивает перед Россиею и перед Европою нравственную чистоту III отделения. Свой своему поневоле друг.
Шедо-Ферроти плохо защитил правительство: он ничем не доказал, что оно не могло иметь намерения извести Герцена или по крайней мере запугать его угрозами. Усилия его оклеветать и оплевать Герцена еще более неудачны. Шедо-Ферроти, этот умственный пигмей, этот продажный памфлетист, силится доказать, что Герцен сам деспот, что он равняет себя с коронованными особами, что он только из личного властолюбия враждует с теперешним русским правительством. Доказательства очень забавны. Герцен деспот потому, что не согласился напечатать в «Колоколе» ответ Шедо-Ферроти на письмо Герцена к русскому послу в Лондоне. Да какой же порядочный редактор журнала пустит к себе Шедо-Ферроти с его остроумием, с его казенным либерализмом и с его пристрастием к III отделению? Герцен не думает запрещать писать кому бы то ни было, но и не думает также открывать в «Колоколе» богадельню для нравственных уродов и умственных паралитиков, подобных Шедо-Ферроти. Панегирист III отделения требует, чтобы его статьям было отведено место в «Колоколе»; в случае отказа он грозит Герцену, что будет издавать свои произведения отдельно с надписью: «Запрещено цензурою «Колокола». Вот испугал-то! Да все статьи Булгарина, Аскоченского, Рафаила Зотова, Скарятина, Модеста Корфа и многих других достойных представителей русской вицмундирной мысли запрещены цензурою здравого смысла 12. Приступая к изданию своего журнала, Герцен вовсе не хотел сделать из него клоаку всяких нечистот и нелепостей. Эпиграфом к «Полярной звезде» он взял стих Пушкина: «Да здравствует разум!» Этот эпиграф прямо и решительно отвергает всякое ханжество, всякое раболепство мысли, всякое преклонение перед грубым насилием и перед нелепым фактом. «Да здравствует разум», и да падут во имя разума дряхлый деспотизм, дряхлая религия, дряхлые стропила современной официальной нравственности! Всякие попытки мирить разум с нелепостью, всякое требование уступок со стороны разума противоречит основной идее деятельности Герцена. Если бы даже Шедо-Ферроти был просто честный простачок, верующий в возможность помирить стремления к лучшему с существованием нашего средневекового правительства, то и тогда Герцен как человек, искренно и честно служащий своей идее, не мог бы поместить в «Колоколе» его старушечью болтовню. Но теперь, когда все знают, что Шедо-Ферроти— наемный агент III отделения, теперь его претензии печатать свои литературные доносы в «Колоколе» кажутся нам в то же время смешными и возмутительными по своей беспримерной наглости.
Шедо-Ферроти упрекает Герцена в том, что тот будто бы сравнивает себя с коронованными особами. В этом упреке выражается как нравственная низость, так и умственная малость Шедо-Ферроти. Какая же разница между простым человеком и помазанником божиим? И какая же охота честному деятелю мысли сравнивать себя с царственными лежебоками, которые, пользуясь доверчивостью простого народа, поедают вместе с своими придворными деньги, благосостояние и рабочие силы этого народа? Если бы кто-нибудь вздумал провести параллель между Александром Ивановичем Герценом и Александром Николаевичем Романовым, то, вероятно, первый серьезно обиделся бы такому сравнению. Но посмотрим, на чем же Шедо-Ферроти основывает свое обвинение. «Вы убеждены,— пишет он к Герцену,— что вы не только либерал, но социалист-республиканец, враг монархическому началу, а поминутно у вас выскакивают выражения, обнаруживающие несчастное расположение сравнивать себя с царствующими особами. В письме к барону Бруннову, сказав, что вы не допускаете мысли, чтобы император Александр II вооружил против вас спадассинов 13, вы присовокупляете: «Я бы не сделал этого ни в'каком случае». В том же письме, говоря об убийцах, разосланных за моря и горы «den Do'ch im Gewande» ** и цитируя стих Шиллера, вы опять сравниваете себя с царствующим лицом, с Дионисием Сиракузским. Наконец, самые оглавления (заглавия) статей «Колокола», извещающих всю Европу о грозящей вам опасности, «Бруты и Кассии III отделения» содержат сравнение с одним из колоссальнейших исторических лиц. Брут и Кассий были убийцами Юлия Кесаря».
Шедо-Ферроти как умственный пигмей и как сыщик III отделения вполне выражается в этой тираде. Он не может, не умеет опровергать Герцена в его идеях; поэтому он придирается к случайным выражением и выводит из них невероятные по своей нелепости заключения; эта придирчивость к словам составляет постоянное свойство мелких умов; кроме того, она замечается особенно' часто в полицейских чиновниках, допрашивающих подозрительные личности и желающих из усердия к начальству сбить допрашиваемую особу с толку и запутать ее в мелких недоговорках и противоречиях. Вступая в полемику с Герценом, Шедо-Ферроти не мог и не умел отстать от своих полицейских замашек. Адвокат III отделения остался верен как интересам, так и преданиям своего клиента.
Вся остальная часть брошюры состоит из голословных сравнений между Шедо-Ферроти и Герценом. Шедо-Ферроти считает себя истинным либералом, разумным прогрессистом, а Герцена признает вредным демагогом, сбивающим с толку русское юношество и желающим возбудить в России восстание для того, чтобы возвратиться самому в Россию и сделаться диктатором.— Шедо-Ферроти как адвокат III отделения старается уверить почтенную публику, что наше правительство исполнено благими намерениями и что от него должны исходить для Великой, Малой и Белой России всевозможные блага, материальные и духовные, вещественные и невещественные. Шедо-Ферроти, конечно, не предвидит возможности переворота или по крайней мере старается уверить всех, что, во-первых, такой переворот невозможен и что, во-вторых, он во всяком случае повергнет Россию в бездну несчастия. Одной этой мысли Шедо-Ферроти достаточно, чтобы внушить всем порядочным людям отвращение и презрение к его личности и деятельности. Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России. Чтобы, при теперешнем положении дел, не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла.
Посмотрите, русские люди, что делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы дольше терпеть насилие, прикрывающееся устарелою фирмою божественного права. Посмотрите, где наша литература, где народное образование, где все добрые начинания общества и молодежи. Придравшись к двум-трем случайным пожарам, правительство все проглотило 14; оно будет глотать все: деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглоченного не разорвет это безобразное чудовище. Воскресные школы закрыты, народные читальни закрыты, два журнала закрыты 1S, тюрьмы набиты честными юношами, любящими народ и идею, Петербург поставлен на военное положение, правительство намерено действовать с нами как с непримиримыми врагами. Оно не ошибается. Примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа. На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать.
Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедо-Ферроти.
То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу, нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы.
Впервые статья была опубликована с цензурными искажениями в статье М. К. Лемке о деле Писарева («Былое», 1906, № 2).
Статья Дмитрия Ивановича Писарева — яркая революционная прокламация, открыто призывающая к свержению царизма. Поводом для ее написания явилась клеветавшая на Герцена брошюра «Письмо А. И. Герцена к русскому послу в Лондоне ^ответом и некоторыми примечаниями Д. К. Шедо-Ферроти». Автором ее был скрывшийся под псевдонимом агент русского правительства барон Ф. И. Фиркс: Изданная на французском и русском языках в Берлине в конце 1861 г. брошюра была негласно затребована царским правительство для распространения в России. Власти надеялись использовать ее для подрыва громадного авторитета Герцена в стране.
Брошюра Шедо-Ферроти возмутила прогрессивную русскую общественность. В марте 1862 г. в нелегальной типографии П. Д. Баллода была отпечатана прокламация П. С. Мошкалова «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти», а в июне того же года Писарев передал Баллоду для напечатания свою статью. Но Баллода по доносу типографского наборщика арестовали, а вскоре был арестован и Писарев. Его заключили в Петропавловскую крепость, где он находился больше четырех лет.
Статья Писарева не только разоблачала Фиркса и тех, кто стоял за его спиной, но и гневно протестовала против расправы с участниками революционного движения, раскрывала гнилость царского режима и призывала к его уничтожению.
(Печатается по изданию: Д. И. Писарев. Сочинения. В 4-х т. Т. 2. М., 1955, стр. 120—126).
* В автографе статья не имеет названия.— Ред.
** С кинжалом под плащом (нем.) — Ред
•Поэт и публицист М. Л. Михайлов (1829—1865) был арестован в сентябре 1861 г. за участие в революционном движении, подвергнут «гражданской казни» и сослан на каторжные работы в Сибирь. Профессор русской истории Петербургского университета П. В. Павлов (1823—1895) произнес 2 марта 1862 г. речь по поводу тысячелетия России, которую закончил словами: «Россия стоит теперь над бездной, в которую мы и повергнемся если не обратимся к последнему средству спасения, к сближению с народом. Имеющий уши слышать да слышит». Павлов был выслан в Ветлугу с запрещением читать публичные лекции. .
2 При аресте студента Петербургского университета В. А. Лебедева, участника студенческих волнений в октябре 1861 г., солдат ударил его прикладом поголове.
3 Министр внутренних дел граф П. А. Валуев пытался лавировать в борьбе с демократическим движением. По его инициативе выпускалась с 1862 г. газета министерства внутренних дел «Северная почта», редактором которой стал профессор Петербургского университета и цензор, весьма умеренный либерал А. В. Никитенко.
4 В секретном циркуляре Петербургскому цензурному комитету от 1 января 1862 г. министр народного просвещения Головнин приказал не пропускать «ничего оскорбительного для личности г. Чичерина».
в Обручев В. А. (1836—1912)—публицист, участник революционного движения шестидесятых годов, в 1859—1861 гг. сотрудничал в «Современнике», был арестован за распространение прокламации «Великорус» в 1861 г. и сослан на каторгу.
6 Бакунин М. А. (1814—1876) был арестован за участие в дрезденском восстании 1849 г., позднее саксонское правительство выдало его австрийскому, а последнее — в 1851 г. — русскому. Сосланный в Сибирь, Бакунин бежал оттуда в 1861 г. за границу.
7 Александров — офицер русской армии в Польше, получив из Петербурга телеграфный приказ с требованием расправы над демонстрацией, которая ожидалась в Варшаве, передал наместнику, что будто бы надо действовать «увещаниями». Александров был приговорен к расстрелу, замененному пожизненной каторгой.
8 Имеется в виду расправа с демонстрантами в Варшаве в феврале и апреле 1861 г.
9 См. прим.' на стр. 247.
10 Студенческие волнения осенью 1861 г. в Петербурге и Москве. Полицией и войсками было арестовано несколько сот студентов, участвовавших в демонстрациях.
11 Писарев использует название статьи Герцена «Бруты и Кассии IIIотделения», о которой говорится в брошюре Шедо-Ферроти. Эта статья представляла собой открытое письмо русскому послу в Лондоне барону Ф. И. Бруннову и разоблачала инспирированную русским правительством травлю Герцена, которого пытались запугать присылкой анонимных писем с угрозами. Статья Герцена была опубликована в «Колоколе» и распространялась также отдельными оттисками.
12 Булга рин Ф. В.— см. прим. 16 на стр. 130. А с к о ч е нский В. И.— см. прим. 1-5 на стр. 220. Зотов Р. М. (1795—1871) — беллетрист, сотрудник реакционных изданий: «Северная пчела», «Сын отечества» и др. Скарятин В. Д. (1818—1882) — публицист (редактор крепостнической газеты «Весть». Корф М. А. (1800—1872)—крупный сановник при Николае I и Александре II, в эпоху цензурного террора (1848—1855) был членом, а позже председателем негласного комитета для надзора за печатью, автор клеветавшей на декабристов книжки «О восшествии на престол императора Николая I».
13 Спадассины (от франц. spadassin)—наемные убийцы.
14 Большие пожары, случившиеся в мае 1862 г. в Петербурге, правительство использовало как предлог для расправы с якобы виновными в них участниками революционного движения.
15 В июне 1862 г. было запрещено на восемь месяцев издание журналов «Современник» и «Русское слово».
Вопросы и задания.
1. Журнал «Русское слово». Д.И.Писарев – идейный вдохновитель журнала, его ведущий критик и публицист.
2. Мировоззрение Писарева: политические и эстетические взгляды. Позиция в полемике.
3. Статья Писарева «О брошюре Шедо-Феротти»
А) повод для написания;
Б) особенности жанра;
В) система аргументации основных идей;
Г) стилистические особенности статьи;
4. Литературно-публицистическое мастерство Д.И.Писарева.
Практическое занятие 13
В.С.Курочкин
ТЕОРИЯ ПОЛЕМИКИ
(Из приватных уроков Дмитрия Ефимова; сообщено Борисом Фаддеевым) 1
— Что ж это будет? — спрашивают меня мои знакомые, люди чинов небольших, ума и состояния ограниченного (между моими знакомыми очень мало людей в больших чинах и с обширными умами и состояниями).^ К чему это поведет? Ведь эдак скоро будут оглашать каждый наш шаг, скоро будет ступить нельзя без того, чтобы кто-нибудь, в какой-нибудь газете не напечатал, что вы ступили не так, что вы всегда не так ступаете, что вы не уважаете закона, что вас следует сначала предать суду общественного мнения,— это бы еще ничего,— а потом отдать под суд гражданский или уголовный, смотря по обстоятельствам. К чему это приведет? Что нам делать, как нам отвечать, если вдруг что-нибудь да про нас напишут — в добрый час сказать, от слова не станется,— что нам делать, посоветуйте нам?
— Отвечать,— всегда отвечаю я своим добрым знакомым, ласково улыбаясь.
— Как отвечать? Это нам дело совершенно незнакомое. Это ведь не то, что написать отношение, предписание или рапорт, тут и орфографию нужно знать и слог нужно иметь...
— Это все пустяки!— продолжаю я успокаивать своих знакомых.
— Как пустяки! Нужно все написать умеючи, так, чтобы видно было, что мы правы; а другой напишет про нас такое, что и оправдаться нельзя; что мы скажем в свое оправдание, когда указывают на грешки, которые действительно водятся за нами?"
— Один бог без греха,— отвечаю я с невозмутимою кротостью.
— Да ведь надо же отвечать? что же мы будем отвечать, когда сами кругом виноваты?
— Отвечаете же на вопросные пункты на следствиях; отписываетесь же по разным интересующим вас делишкам?
— Ах, боже мой! Это совершенно другое дело. Тут есть своего рода сноровки, установленные формы, самое изложение во всех случаях однообразно.
— То же самое и в делах гласности, господа. Вы напрасно ее так пугаетесь. Не так страшен черт, как его малюют. И тут есть свои установленные формы, и тут однообразие в изложении, и тут своего рода сноровки.
— Объяснитесь, мы вас не понимаем.
— Господа, очень просто. Как вы начинаете ваши рапорты к начальству? Непременно с деепричастия: «будучи командирован вашим пр<евосходитель>ством...», «имея крайнюю надобность в деньгах...» или: «во исполнение предписания вашего пр-ства»; «следствие рапорта такого-то уездного суда»; непременно: будучи, имея, вследствие, во исполнение? Не так ли?
— Ну да это мы знаем; а тут совершенно...
— Тут совершенно то же самое. Запомните, как «Отче наш», или как дважды два четыре, или как «во исполнение предписания вашего пр-ства», следующую составленную мною для вашего руководства формулу:
«Гласность есть орудие обоюдоострое. Выслушивая обвиняющего, надобно выслушать и обвиняемого. Тогда и только тогда, гласности дано будет полное применение».
Или вот — формула несколько мудренее:
.«Нельзя не порадоваться развитию в нашем отечестве гласности. Каждый благонамеренный член общества встречает с полным сочувствием даже против него направленные статьи, если авторами этих статей руководило желание общего блага».
Или вот: самая простая формула; запоминается очень легко, так как в начале стоит деепричастие:
«Уважая благонамеренную гласность, не могу оставить без внимания статью такого-то».
Только запомните это, господа,— любую из этих трех формул, и дело ваше выиграно.
— Но ведь это только вступление; затем нужно изложить сущность дела, нужно оправдаться.
— Это делается очень просто. Смотря по тому, какую из трех формул вы предпочли, вы можете разнообразить самое объяснение. Прежде всего примите себе за правило как можно менее говорить о самой сущности дела. Не надо этой сущности Дела совсем! Надо, чтобы была хорошая статья. За хорошую статью иногда даже деньги платят. Впрочем, это, господа, к вам не относится — вы в гонорарии не нуждаетесь.
— Бог с ним, с гонорарием! Только бы оправдаться.
— Ясное дело. Вы, как умные люди (я всегда называю своих знакомых умными), сами не пожалеете денег для восстановления вашей чести. Что ж делать, когда в наш практический век самые отвлеченные понятия продаются и покупаются, как акции, возвышаясь и понижаясь в цене.
Опять-таки, дело не в этом. Как только вы написали одну из вышеприведенных формул, громогласно произнесите по совету практического мудреца г-на Ефима Дыммана: «Иван Иванович (или как вас зовут), .прошу не затрудняться!2» и с этими словами бросайтесь на арену публичности. Я уже сказал, что объяснения можно разнообразить как угодно. По моей теории, объяснения, в общих основаниях, разделить можно на три отдела, а именно:
a) объяснение философское,
b) объяснение обличительное и
c) объяснение юмористическое.
Каждый из этих трех родов дробится на множество мелких подразделений. Для вящего вразумления вашего, господа, я вам все объясню примерами.
a) Философское объяснение (виды: диалектическое, моральное, социальное и пр.). X. обвинил вас в присвоении казенной или частной собственности, в превышении власти, в неуважении к закону, к общественному мнению — в чем угодно. После вступительной формулы пишите длинный трактат о разных предметах, чем длиннее, тем лучше.
Вот краткая программа для подобных трактатов:
Польза гласности. — Что такое общество? — Обязанности гражданина. — Об акционерных обществах вообще. — Нечто о красотах природы.— Кредит как основа всякого предприятия.— Незрелость общественного мнения в Австрии. — Уважение к закону в Англии.— Исправляй, не наказывая!— Мысли о сокращении переписки.— Американские женщины. — Голландские сельди и фленсбургские устрицы.— Воспоминания о золотом веке.— Заключение (польза гласности, похвальное слово обличителю, польза гласности).
Если вы хоть немного знакомы с риторикой, вы легко напишете подобный трактат.
Философское объяснение имеет два преимущества перед обличительным и юмористическим:
1) обличает в авторе нравственного, хорошо знающего приличия человека и глубокого мыслителя и 2) может быть до такой степени длинно, что никто, кроме редактора газеты, цензора и корректора, но дочитает его.
Во всяком случае — цель достигнута, и ваша добродетель торжествует.
b) Объяснение обличительное. Это объяснение несколько труднее, потому что требует некоторой изобретательности и некоторого общественного значения. Сухость, резкость, точность, форменность, отчетливость — необходимые свойства подобного объяснения. В чем бы вас ни обвинили — в воровстве или в насилии,— из шестисот шестидесяти шести пунктов обвинения отвечайте только на два, на три, не более, давая этим знать, что вы и совсем бы могли не отвечать, если б не были так благородны и деликатны, отвечайте с достоинством и с легким оттенком пре
зрения к обличителю. Вслед за этим, обернув обоюдоострое орудие гласности, поразите обличителя в сердце, так чтобы он не встал. Если X. обличил вас в воровстве-мошенничестве, обличите его в воровстве-краже, в краже со взломом. Если Y. сказал, что вы не уважаете общественного мнения, скажите, что общественное мнение не уважает Игрека, намекните, что Y. пьет мертвую, бьет _жену, и если у него теща есть, помяните и тещу. Выставьте вашего оппонента в самом темном свете, чтобы тем светлее обрисовалась ваша личность, напишите, что у вас благородное сердце, что вы не бьете кухарку, прибавляете извозчикам сверх таксы, даете на чай писарям...
Этот род объяснений имеет то преимущество перед объяснениями философским и юмористическим, что обличает в авторе человека с сердцем нежным, хотя уже закаленным в борьбе с неправдою, человека, у которого движения сердца находятся в постоянной борьбе с указаниями рассудка и долга.
Третий род объяснений — с) объяснение юмористическое — развивать долго не стану. В чем бы вас ни обвинили, хотя бы в самоубийстве, напишите после обычной формулы, что у г-на обличителя нос с прыщами — и баста! Силою примирительного смеха немедленно оправдаетесь.
Видите, господа, как все это легко, просто и заманчиво. Два-три подобных объяснения, и вы составите себе авторскую славу. Вдруг поутру проснетесь и почувствуете, что у вас на голове лавровый венок. Как это будет приятно!
— Да... да...— отвечают мне мои добрые знакомые в умилении,— только, нет... все-таки трудно с непривычки; нужно ведь все это написать.
— Боже мой! С вами не сговоришь. В какое мы время живем, вспомните, в какое мы время живем? Нынче ведь всякий будочник умеет писать. Впрочем, знаете что? Если уже вас так страшат печатные буквы, если уж не хотите писать сами — есть и на это средства. Попросите кого-нибудь из ваших знакомых. Свет не без добрых людей. •
— Да, но что это будет стоить?
— Самые пустяки. Рублей пятьдесят, сто — определить наверное не могу, потому что до сих пор ничего подобного не случалось. Со временем я обдумаю этот предмет...
— Сделайте одолжение.
— И составлю приблизительно таксу.
— Вот, вот, вот! Это будет превосходно!
— Назову ее: такса извозчикам гласности.
— Как хотите, назовите; крайне обяжете.
Мои добрые знакомые расстались со мною в неописанном восторге. Я уже начал было обдумывать таксу, как вдруг некоторые из них вернулись и с непритворным отчаянием закричали:
— А что, если на наши объяснения будут нам отвечать?
— Отвечайте опять, только измените форму: вместо обличительного объяснения напишите юмористическое или как там придется.
— А если докажут, что наши объяснения ложные, если распишут так, что и отвертеться нельзя, что тогда? Вы об этом и не подумали?
— Думал, господа, думал и об этом. И этой беде пособить можно; придет время — потолкуем.
Дм. Ефимов
Приложение к статье «Теория полемики»
Форма печатных ответов на обличительные статьи, составленная Дмитрием Ефимовым
Гласность есть орудие обоюдоострое. Выслушивая обвиняющего, надобно выслушать и обвиняемого. Тогда, и только тогда, гласности дано будет полное применение. Г-н « — » в статье своей « — » (краткое изложение двух из шестисот шестидесяти шести пунктов обличительной статьи).______________________________________________________________
Выходя на суд' общественного мнения вместе'с г-м « —»,' так неблагонамерен но очернившим меня, долгом гражданина считаю прямо и откровенно объяснить, как было дело (объяснение философское, обличительное или юмористическое)-
_________________________ ._____ , Гласность есть орудие обоюдоострое.
Статейку эту доставил нам Борис Фаддеев, с просьбою немедленно ее напечатать. Исполняя его желание, считаем необходимым оговориться, что мы нисколько не разделяем его взглядов. Классификация ответных объяснений кажется нам шуткою, не более. Между тем истинная гласность делает у нас значительные успехи. Псковский полицеймейстер г-н Валериан Гемпель напечатал в «Санктпетербургских ведомостях» ответ на статью г-на Павла Якушкина 3, которую мы так опрометчиво приняли за вымышленный рассказ4. Главное общество российских железных дорог, долго молчавшее, ответило разом на все статьи, направленные против действий этого общества. Не перепечатываем статьи г-на Гемпеля и даже не делаем из нее выписок, так как все это дело оказывается для нашего журнала слишком серьезным5. Но статейку Главного общества железных дорог6 перепечатываем с удовольствием, так как между читателями нашими Находится немало акционеров этого общества. Вот эта статейка:
«С некоторого времени в с.-петербургских журналах и газетах появляются статьи, имеющие целию распространить в публике неверные понятия о достоинстве составляемых инженерами Главного общества проектов линий железных дорог и искусственных на них сооружений.
Как проекты эти, прежде приведения их в исполнение, утверждаются в установленном порядке правительством, то Управление общества, не считая уместным входить в журнальную полемику с сочинителями статей, внушенных скорее личным недоброжелательством, чем искренним усердием к пользе общей, предлагает гг. акционерам, которые пожелали бы убедиться в ложности; распространяемых этими статьями сведений, принять труд пожаловать в Главный секретариат общества, где они могут узнать самые факты из подлинных документов, к сему делу относящихся.
Дела Главного секретариата, помещающегося в доме общества, на Большой Итальянской, рядом с Пассажем, № 7-й, будут открыты гг. акционерам для подобных справок ежедневно," кроме воскресных и праздничных дней, с двенадцати до двух часов пополудни, по 10-е декабря сего года».
Впервые статья была напечатана в журнале «Искра» (1859, № 44).
Поэт-сатирик, переводчик Беранже В. С. Курочкин издавал в 1859— 1873 гг. (до 1865 г. совместно с художником-карикатуристом Н. А. Степановым) иллюстрированный сатирический журнал революционно-демократического направления «Искра». «Роль «Искры», — писал М. Горький, — была огромна. «Колокол» Герцена был журналом, перед которым трепетали верхние слои общества столиц. «Искра» распространялась -в нижних слоях и по провинции. «Искра» в первом же году издания поняла, что дело не в мелочных обличениях взяточничества и т. д., а в общих условиях социального быта России, и её сотрудники поставили себе целью «демократизацию прогрессивных идей», как выразился Н. Курочкин...» (М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 216).
- Василий Степанович Курочкин (1831—1875) был не только талантливым руководителем журнала, но и одним из наиболее действенных его сотрудников. В стихах и прозе обличал он общественные пороки, затрагивая самые злободневные вопросы.
В фельетоне «Теория полемики» Курочкин осмеивает «благонамеренную гласность», не представлявшую никакой опасности для «обличаемых».
Печатается по изданию: Василий Курочкин. Стихотворения, статьи, фельетоны. М., 1957, стр. 520—527.
'Дмитрий Ефимов, Борис Фаддев — вымышленные имена. Сатирическая маска «Борис Фадеев» — соединение имен реакционных журналистов, агентов тайной полиции Бориса Федорова и Фаддея Булгарина. Этим же псевдонимом Курочкин подписал свой фельетон «Педагогическое нововведение» («Искра», 1859, № 25). Возможно, что для образования псевдонима «Дмитрий Ефимов» Курочкин использовал имя Ефима Дыммана (см. прим. 2).
2 Дымман Е. А. — генерал, сотрудник «Ведомостей С.-Петербургской городской полиции», который в своей книге «Наука жизни, или Как молодому человеку жить на свете» (1859) советовал достигать житейских благ с помощью «молчалинских» методов. Курочкин приводит один из дыммановских % «советов».
3 Писатель-этнограф П. И. Я к у ш к и н, который изучал крестьянский быт, трижды был арестован в Псковской губернии как подозрительное лицо. Об этом он сообщил в статье «Проницательность и. усердие губернской полиции» («Русская беседа», 1859, № 5), на которую ответил псковский полицмейстер Гемпель («С.-Петербургские ведомости», 1859, № 259).
4 См. анонимную статью «Фантазия в искусстве» («Искра», 1859, № 40).
5 Курочкин иронизирует над либеральной журналистикой, которая расценивала появление статьи Якушкина и ответа на нее Гемпеля как наступление истинной свободы слова. Так, «Русский вестник» заявлял по этому поводу:
«Наконец-то мы дождались настоящей, не алгебраической гласности!»
6 Главное общество российских железных дорог, основанное в 1857 г. при ближайшем участии иностранных банкиров, получило от русского правительства концессию на постройку четырех железных дорог. Спустя два года группа акционеров обвинила совет общества, возглавляемый французским инженером Ш. Э. Колиньоном, в многочисленных злоупотреблениях и потребовала отчета в расходовании денежных средств. Несмотря на то, что ревизионная комиссия отвергла все счета, предъявленные советом общества, они были утверж
дены при содействии влиятельных лиц, связанных с царским дворе*!
М.Е.Салтыков-Щедрин
НЕСКОЛЬКО ПОЛЕМИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
Из письма в редакцию
Журнальная полемика — вещь не только хорошая, но и очень полезная. Это все равно, что в обыкновенной жизни болтовня. Кажется, все слышишь вещи пустые и малополезные; кажется, что слуховой орган болезненно поражается чем-то вроде переливанья из пустого в порожнее — ан, нет: смотришь, что-то как будто рисуется вследствие этой болтовни, что-то как будто обозначается и уясняется, словно некоторый нравственный образ мелькает. Это мелькает образ самого болтуна, образ правдивый и неподкрашенный, это обозначается нравственная его суть. Искусный наблюдатель может извлечь из этого обстоятельства не малую для себя приятность и даже не без пользы для публики. Посредством болтовни можно восстановить физиономию не только известного лица, но даже целого города, целого общества. Прочитайте, например, в «Современнике» «Письма об Осташкове» К По-видимому, там нет ни таблиц, наполненных цифрами, ни особенных поползновений на статистику; по-видимому, там одна болтовня. Люди закусывают, пьют ужаснейшую мадеру, несут великий вздор о старинных монетах и жетонах; однако, за всей этой непроходимой ахинеей, читателю в очию сказывается живая жизнь целого города с его официальною приглаженностью и внутреннюю неумытостью с его официальным благосостоянием и внутреннею нищетою и придавленностью... Журнальная Полемика другим путем достигает тех же результатов: она рисует нравственный образ журнала. Покуда «Русский вестник»2 воздерживался от полемики, кто мог подумать, что почтенный журнал этот издается отчасти под наитием Ивана Яковлевича Корейши3, отчасти же под влиянием благодарных воспоминаний о Ф. В. Булгарине? Решительно никто. Все полагали, напротив, что журнал этот издается обществом милых людей, которые желают приятно провести время. Но вот, в прошлом году, он пустился в полемику; он начал писать письма к каким-то прежде бывшим подругам, с которыми он был дружен в то время 4, когда они еще были институтками, и читатель, к крайнему своему огорчению, вдруг прозрел. «Да, это он! сказал читатель, это он, это Фаддей Венедиктович, с некоторым лишь прибавлением Павла Ивановича Мельникова!5»
Следовательно, журнальная полемика и неизбежна, и полезна. Если не в том смысле она полезна, что прибавляет какие-либо новые знания в сокровищницу отечественного просвещения, то, по крайней мере, в том, что вызывает наружу тот внутренний визг, который до поры до времени сохраняется в редакторской груди в скрытом состоянии.
Нынешний год принес русскому читающему люду много новых газет6, да и старые-то газеты почти все до одной переменили хозяев. Все эти органы печатного русского слова, малые и большие, хорошенькие и гаденькие, сразу так и ринулись на полемическую арену. Быть может, это и не совсем для них полезно, быть может, это отнимет у них и те немногие копейки, которые они получили бы, если б вели себя скромно, но, с точки зрения общего движения русской мысли, это хорошо, потому что отрезвительно. Пускай же выбалтывают себе сразу все визги, какие у кого припасены.
Разумеется, самая ожесточенная полемика, самые наизаботливейше выхоленные визги всегда были, есть и будут направлены против «Современника». Это ничего; это даже очень хорошо, потому что означает, что «Современник» обращает на себя внимание и что в нем есть действительно нечто, что следует заподозреть, разорить, истребить и уничтожить, с тем, чтобы, по выполнении этого, воспользоваться богатым наследством. Но разумеется также, что и «Современник» не должен оставаться равнодушным к полемическому визгу, что он обязывается определить оттенок каждого визга, уловить сродство, существующее между визгами, по-видимому, противоположными, показать, например, что Н. Ф. Павлов7 есть хладный С. С. Громека8, а С. С. Громека, в свою очередь, есть взволнованный Н. Ф. Павлов, что М. М. Достоевский9 есть не что иное, как проживающий инкогнито Петр Иванович Бобчинский, которого роль должна бы собственно в том заключаться, чтоб «петушком-петушком» за кем-нибудь подпрыгивать, но который, вследствие знакомства своего с Хлестаковым, возмнил, что может быть самостоятельным и иметь право на знакомство с министрами.
Не решаюсь советовать вам, мм. гг., но думаю, что «Современник» не может пренебрегать полемикой даже в таком случае, если б она исходила и из таких мест, которые, по всей справедливости, пользуются названием литературных помойных ям. Поставив себе задачею сколь возможно полное и подробное выяснение общественных добродетелей и недугов, стремлений и колебаний, «Современник» не может же не признать, что журнальная полемика есть такой же драгоценный факт для физиологии русского общества, как, например, избиение некоторых мировых посредников 10, идущее рядом с заявлениями о развитии в россиянах чувств законности и гражданственности. Все это на пользу;' из всего этого будущий историк нашего тревожно-болтливо-пустопорожнего времени может, впоследствии, устроить изрядный винегрет.
Но, решаясь не уклоняться от полемических турниров, «Современник» ни в каком случае не должен забывать, что он обязывается иметь при этом свою особую тактику. Известно, что полемика, кроме обнаружения истинного характера известного журнального визга, имеет еще свойство знакомить с этим визгом публику и даже заинтересовывать ее. Читатель усматривает, например, из привычного своего журнала, что в другом подобном же издании доказывается, якобы помещики очень довольны упразднением крепостного права. Читатель, разумеется, сначала не верит глазам своим, но мало-помалу, особливо этак в послеобеденные сумерки, когда желудок бывает отягощен яствами, а душа делается способной к воспринятию мягких впечатлений, он начинает раздумываться. «А что, если и в самом деле помещики рады упразднению крепостного права?» думает он:— «а постой-ка я посмотрю, что это за чудаки такие, которые взялись перещеголять самое «Не любо не слушай, а лгать не мешай!» И, принявши однажды такую решимость, читатель посылает в редакцию заинтересовавшего его журнала от 3 до 15 рублей. И, таким образом, полемика, вместо того, чтоб ослабить действие журнала, самым невинным образом посылает ему пятнадцатирублевое подкрепление.
Разумеется, этого не должно быть. Полемизаторы никак не должны забывать, что некоторые журналисты только из-за того и хлопочут, чтобы приобрести эти пятнадцать рублей, из того только и надседаются, чтоб их как-нибудь в кровь избили или так обругали, чтобы перья врозь посыпались. «Ты меня только побей! умиленно вопиют они, а уж там я и сам как-нибудь •с публикой справлюсь!» Главное, скандал сочинить и приобрести, во что бы то ни стало, известность.
Есть, например, в Петербурге газетка, которая между прочим сбирается между строками в других газетах и журналах читать и вместе с тем предупреждает, что она не остановится даже ж перед доносом ". Газетка эта самая плохая; имеет она всего .девяносто подписчиков. Разумеется, что ей хочется, чтобы хоть кто-нибудь об ней побеседовал. Во-первых, это послужит ей вместо объявления, а во-вторых, от радости у ней стеснится в зобу дыхание, и она, пожалуй, с таким самозабвением вопьется в своего благодетеля, что после никакими средствами ее и не оттащить. И выйдет тут потеха: ты ей слово, а она пятьсот, ты ей: цыц, шавка! а она: ан лаю! ан лаю! ан лаю!.. Каково в публику-то показаться с таким провожатым!
Но каким же образом так устроить, чтобы, не прекращая действия полемики, устранить только выгодные последствия ее для вредных и ненужных публике журналов?
По моему мнению, это довольно легко. Для достижения такого благоприятного результата, следует только окрестить вредные и ненужные журналы какими-нибудь псевдонимами, да потом и начать уже изобличать их со всею безопасностью! Публика от этого ни мало не потеряет, ибо ее, в сущности, может интересовать только то, имеются ли в обращении какие-либо поганые мысли и какие именно, а совсем не то, из какой именно помойной ямы эти мысли выходят. Напротив того, редакция ненужной газеты, очевидно, обманется в своих соображениях. Она наверное рассчитывала получить лишние три рубля, чтоб искупить на них некоторое количество литературной сулемы ,2 — и не получит их, потому что публика даже не будет знать об ее существовании. Смотришь, ан газета поскрипела месяц, другой, да и скончалась, подобно «Атенею» 13, истощив все свои два двугривенных в борьбе с равнодушием публики!
Объясню это примером той же смрадной газетки, о которой я уже говорил выше. Пусть она так и будет называться «Смрадным листком» и. Основные убеждения «Смрадного листка» вертятся около следующей темы: «быть обскурантом в настоящее время очень трудно, потому что обскурант, за свои действия, получает не столько поощрения, сколько различные нравственные подзатыльники. Посему, человек, решающийся быть обскурантом, тем самым заявляет свету, что могут существовать люди, которые доводят личную храбрость даже до презрения к подзатыльникам». Исходя из этого убеждения, «Смрадный листок» начинает доказывать: а) что истинно храбрый человек не должен уклоняться от доноса; б) что истинный обскурант обязывается не быть чуждым и клеветы и в) что означенный герой имеет право читать между строками и простирать свое нахальство до того, чтобы совать смрадный свой нос в самое светилище мысли писателя.
Таковы убеждения и таков образ действия «Смрадного листка». «Современник» должен прежде всего обратить на это внимание, как на факт, представляющий достаточно характеристический образчик так называемых «поганых» мыслей, чтобы не бесполезно было познакомить с ним читателя. Затем «Современник» может даже не входить в обсуждение этого факта; он просто против одного положения отмечает: гнусно, против другого — глупо, против третьего — даже и не довольно подло, против четвертого -— да кто ж тебя туда пустит? — и более ничего. На настоящего названия «Смрадного листка» он не должен ни в жизнь открывать, хотя бы «Смрадный листок» сам себя сразу узнал и даже истощился в доказательствах, что он «Смрадный листок», именно и есть тот «Смрадный листок», об котором говорится в «Современнике». На все эти настояния «Современник» может, во-первых, отвечать ему: «помилуй, любезный! Какой же ты «Смрадный листок»! Ты совсем не «Смрадный», ты «Пакостный листок» — и больше ничего!» Если же «Современник» не захочет отказаться от того, что «Смрадный листок», о котором в нем говорилось, есть именно тот самый, который так горячо хлопочет о восстановлении своей тождественности, тогда он может отвечать: «ну да! успокойся! ты тот самый «Смрадный листок» и есть!»
И затем, пускай «Смрадный листок» волнуется или не волнуется, читает между строк или не читает — до этого ни публике, ни «Современнику» нет никакого дела. Главная цель достигнута: публика не знает настоящего «Смрадного листка», а следовательно не имеет поползновения и подписываться на него. А если и найдется такой чудак, который вышлет в почтамт 3 руб. с тем, чтоб его познакомили с «Смрадным листком», то почтамт эти деньги возвратит с уведомлением, что никакого «Смрадного листка» не издается. Нет, да вы представьте себе трагическое положение редакторов «Смрадного листка»! Они знают, что каждый день приходят новые и новые требования на их газету, что публика жаждет литературной сулемы, которою они предполагали обкормить всю читающую Россию, что все эти трехрублевые бумажки, которые благодатным дождем сыплются в почтамт, несомненно принадлежат им... и не могут доказать этого! Они уже решаются примириться с своей участью, они уже соглашаются откровенно принять для своей газеты наименование «Смрадного листка», которое подарил ей «Современник», как вдруг имя «Смрадного листка» исчезает с страниц «Современника», а вместо оного заявляется о существовании какого-то «Пакостного листка»!
Смею уверить вас, мм. гг., что необходимым последствием подобной полемики для «Смрадного листка» будет вернейшая его смерть. Быть может, он попросит прощения, быть может, он обещается исправиться — ну, тогда еще можно открыть читателям, что «Смрадный листок» не настоящее имя, а псевдоним такой-то газеты. Но и то в таком случае дозволяется делать эту уступку, если «Смрадный листок» даст положительное обязательство сравняться в либерализме, по крайней мере, с М. М. Достоевским.
Итак, пускай же отныне в «Современнике» под собственными своими именами будут являться только те названия журналов и газет которые, вследствие недостатка полемической тактики, уже упоминались в нем (что делать! прошлого не воротишь!). Прочие же газеты и журналы пускай будут скрываться под псевдонимами до тех пор, покуда добрыми нравами и хорошим поведением не заслужат открытия настоящих их имен.
Такого же рода полемический прием можно с успехом употреблять относительно некоторых публицистов. Так, например, я уверен, что Виктор Ипатьич Аскоченский не приобрел бы и сотой доли своей известности, если б «Искра» называла его не Аскоченским, а только «скромным автором полногрудой Лурлеи» 15.
На нашем месте, я именно так и поступал бы относительно темных публицистов, стремящихся, во что бы то ни стало, сделаться известными. Исключение на сей раз сделаю для г. Юхманова 16 (кто такой этот Юхманов? разве есть писатель Юхманов?), но и то только на сей раз, но и то только для того, что мне нужен пример для объяснения моей мысли. Известно, что этот публицист ужасно заботится о том, что об нем думают и какое значение придает публика его воробьиной деятельности. Я собственно ничего об г. Юхманове не знаю, а потому ничего об его воробьиной деятельности и не думаю. Но знаю, что если б я только имел счастье состоять хоть чем-нибудь в редакции «Современника», то, не желая, чтоб имя г. Юхманова пользовалось известностью, стал бы называть его то Аскоченским, то Павловым, то Громекою, то Анною Дараган 17. Ибо это решительно одно и тоже. И поверьте, что вы скоро сами убедились бы в неотразимости такой тактики; я даже не далек от мысли, что г. Юхманов в самом непродолжительном времени принес бы в ваш журнал статью, в которой стал бы горько оплакивать свои прежние заблуждения, беспощадно осмеивать свои прежние надежды и обещался бы, в течение одного месяца, вырасти в меру г. Косицы 18.
Итак, вот какие благотворные последствия может повлечь за собой хорошо понятая и удачно выполненная полемическая тактика. Она имеет в виду не только ограждение материальных интересов публики от излишней траты денег на покупку ненужных книг и журналов, но и нравственную экспиацию множества субъектов, бессознательно и, быть может, безвинно погрязающих среди разъедающих миазмов литературной сулемы! В этом есть что-то подвижническое. Читатель думает, что я забавляюсь, а я совсем не забавляюсь, а исхищаю из ада погибающую душу! Читатель думает, что я кого-то гоню, кого-то преследую, а я совсем не гоню и не преследую, а, напротив того, подманиваю: поди, дескать, сюда! Мой подвиг скромен и даже не. благодарен,. но это подвиг — в том не может быть никакого сомнения.
Да не подумает, впрочем, читатель, что описанный мною полемический прием, служащий к вразумлению заблуждающихся, есть единственный в этом роде. Нет, тут целая система, представляющая столь же великое разнообразие форм, сколько великое разнообразие представляет и сама человеческая изобретательность. И все они имеют в виду одну великую цель — секвестр 19 человеческих заблуждений в тесных границах того душного и темного места, в котором они зародились. И все они, кроме этого, имеют в виду и еще одну великую цель: восстановление, посредством временного тюремного заключения, безвинно попранного нравственного достоинства человека...-
Дабы показать читателю, как велика может быть сила полемических приемов, опишу, для примера еще один из многих.
Известно, что в русских газетах и журналах нередко помещаются статьи самого нелепого свойства, с единственною целью действовать на публику посредством скандала. К числу таких гнусно-нелепого свойства статей могут быть отнесены, например, прошлогодние летние походы некоторых органов русской литературы против нигилистов, по поводу происходивших в Петербурге пожаров; к числу такого же рода статей относятся все руководящие занятия г. Аскоченского, а также некоторые каникулярные упражнения «Русского вестника». Что статьи эти нелепы — в том нет никакого сомнения, что статьи эти забавны— в том тоже сомневаться нельзя; но главное и драгоценнейшее их качество заключается в том, что они кратки. Эта краткость позволяет перепечатывать их.
Если принять в соображение, что весь интерес подобных статей заключается только в том, что они производят скандал, что они и вкривь и вкось толкуют о предметах, которые почему-либо-живо интересуют публику, то ясно будет, что если отнять у них этот интерес скандала, если устроить так, чтобы публика всем этим скандалом могла насладиться в одном общем фокусе, не развлекая своего внимания между множеством журналов и газет, то пристрастие публики к этим изданиям охладится немедленно. В самом деле, какая надобность публике выписывать, например, какой-нибудь «Смрадный листок» для того, чтобы прочесть в нем в течение года одну веселую статью о нигилистах-поджигателях, когда она будет уверена, что все перлы «Смрадного листка» можно прочесть, например, в особом, нарочно для того отведенном отделе «Современника»? Решительно, надобности никакой нет.
А потому, представляется возможным и еще один очень удачный полемический прием, который изображает собой нечто тоже очень похожее на тюремное заключение. Прием этот заключается в следующем: собирать всевозможные литературные курьезы, имеющие в объеме не более печатного листа, и издавать их при журнале в виде особой хрестоматии. Никаких замечаний на эти курьезы делать не надо, потому что тут дело ясно говорит само за себя; следовательно, умственного труда почти нет никакого, а материальные выгоды несомненны. Издание подобной хрестоматии соединяет в себе все условия дешевизны, ибо влечет за собой издержки только за набор и бумагу; читатель, за самую умеренную цену, даже просто в виде подарка или премии, приобретает чтение веселое и необременительное и притом разом получает все самое замечательное, что он должен был бы разыскивать по разным журналам и с пожертвованием немаловажных издержек. Сверх того, связь, существующая между раличными терминами одного и того же направления, обнаруживается наглядно, и стало быть, устраняется всякая возможность обвинить в проведении каких-либо злостных параллелей... одним словом, и дешево, и мило, и — главное — полезно. Ибо, помимо забавной хрестоматии, хороший журнал дает еще читателю значительный запас хорошего и здорового чтения, которого одного уже достаточно, чтобы уничтожить действие, производимое вредными и нелепыми статьями. Читатель прочитывает и то и другое, и так как он предполагается одаренным здравым смыслом, то и выбор его не может подлежать никакому сомнению. Статьи знаменитых псевдонимов сначала будут производить в нем веселый хохот, но мало-помалу, наконец, опротивеют. Тогда можно будет прекратить и издание хрестоматии.
Все эти предположения я делаю, мм. гг., вовсе не из одного удовольствия делать предположения более или менее забавные. Нет, я твердо убежден, что если бы «Современник» с будущего месяца приступил к изданию предлагаемой мною хрестоматии, то знаменитые псевдонимы тотчас же и значительно понизили бы тон свой. Скажу более: я уверен, что они даже теперь, под влиянием одной моей слабой угрозы, сделаются скромнее, и что Смрадный листок», с следующего же номера, почувствует в себе отвращение к постыдному и безвыгодному ремеслу чтения между строками...
Впервые статья была напечатана в журнале «Современник» (1863, № 3,. отд. II, стр. 1—10, без подписи).
Жестокие правительственные репрессии (приостановка в июне 1862 г. журналов «Современник» и «Русское слово», аресты Чернышевского, Писарева, усиление цензурных гонений) поставили существорание передовой русской журналистики в чрезвычайно тяжелые условия. Вместе с тем официальные власти всячески поощряли создание множества охранительных органов, т основной задачей которых была травля прогрессивных изданий.
Ряды официозной прессы' пополнила и еженедельная газета «Русский листок» (1862—1870), которая с № 32 за 1863 г. стала выходить под названием1 «Весть». Ведущими сотрудниками, а позднее редакторами-издателями этой газеты были журналисты реакционного лагеря В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматов.. «Русский листок» открыто причислял себя к «охранительным либералам». Поэтому «Современник» вскоре после своего возобновления — в феврале 1863 г.— выступил против «Русского листка». Статья М. Е. Салтыкова-Щедрина «Несколько полемических предположений» изобличала «поганые мысли» и «постыдное ремесло» этой «смрадной газетки».
Печатается по изданию: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Поли. собр. соч. Т. 5. М.. 1937. стр. 223—230.
1 «Письма об Осташкове» — очерки В. А. Слепцова, которые были напечатаны в «Современнике» (1862, № 5; 1863, № 1—2, 6).
2 «Русский вестник» — журнал, издававшийся М. Н. Катковым с 1856 г. Вначале придерживался умеренно-либерального направления, в 60-е- годы резко повернул вправо.
3 Корейша И. Я (ок. 1781—1861)—московский юродивый и прорицатель: жил в сумасшедшем доме, куда к нему приходили многочисленные почитатели
4 По всей вероятности, имеются в виду статьи «Русского вестника»: «К какой принадлежим мы партии» (1862, № 2) и «Несколько слов по поводу одного иронического слова» (1862, № 3). Последняя статья — полемика с
Н. А. Мельгуновым, сотрудником официозной газеты «Наше время».
6 Мельников. П. И. (псевдоним — Андрей Печерский; 1818— 1883)—писатель и этнограф, чиновник министерства внутренних дел.
6 С 1863 г стали выходить газеты: «Голос», «Очерки», «Иллюстрированная газета», «Якорь», «Мирское слово», «Народная газета» и др
7 Павлов Н. Ф. (1805—1864) —беллетрист, публицист и критик. В шестидесятые годы примкнул к реакционным кругам, издавал в 1860—1863 гг. субсидируемую правительством газету «Наше время».
8 Гром ек а С. С. (1823—1877)—умеренно-либеральный публицист, сотрудник «Отечественных записок», «Русского вестника», «С.—Петербургских ведомостей» и др В 1857—1859 гг. в «Русском вестнике» появилось несколько егостатей, обличавших полицию
9 Достоевский М. М. (1820—1864)—беллетрист, переводчик и журналист. Издавал при ближайшем участии своего брата Ф. М. Достоевского журналы «Время» (1861 — 1863) и «Эпоха» (1864—1865).
10 Положение 19 февраля 1861 г. установило должность мировых посредников, в обязанность которых входило проведение реформы в жизнь и урегулирование отношений между помещиками и крестьянами. В печати сообщались
случаи кулачной расправы помещиков-крепостников с мирными посредниками.
11 В статье «Печатные доносы», опубликованной в № 4 «Русского листка» за 1863 г., говорилось: «Мы не пойдем доносить на вас в полицию, но всякий раз (знайте это!), когда вы станете проводить идею, которую мы считаем нелепою, ждите печатного отпора! Ждите стойкого отпора во всяком случае, даже если мы будем знать наверное и заранее, что вследствие наших слов журнал ваш будет запрещен, ибо мы не можем, во имя каких бы то ни было соображений отказаться от борьбы».
12 Сулема — сильно ядовитый белый порошок хлорной ртути. • 13 «А т е н е й» — ежемесячный либеральный журнал, выходивший в Москве в 1858—1859 гг. под ред. Е. Ф. Корша. В 1859 г. вышло всего два номера, после чего издание журнала прекратилось.
14 Данные Щедриным «Русскому листку» сатирические названия—«Смрадный листок» и «Пакостный листок» — были заменены в журнальном тексте
на «Убогий листок» и «Плохой листок».
15 Аскоченский В. И. (1813—1879)—публицист и беллетрист, в 1858—1877 гг. издавал журнал «Домашняя беседа», который из-за своего дикого обскурантизма стал всеобщим посмешищем. Аскоченский был автором
стихотворения «Лурлеин утес», написанного на тему баллады немецкого поэта-романтика начала XIX в. К- Брентано. о Лорелее — легендарной водяной нимфе Рейна, которая завлекала своим пением рыбаков и матросов к опасным рифам и скалам.
В стихотворении Аскоченского имелись такие строки:
В сладострастьи тайно млея,
Слаще девственных сирен
Полногрудая Лурлея. Пела
песенку свою.
Это старое, опубликованное еще в 1846 г. стихотворение вспомнили в «Искре», и «полногрудая Лурлея» вызвала новый град насмешек над Аскоченский. ■ . •
16 В гранках статьи была указана подлинная фамилия публициста «Русского листка» — Юхматов. В журнальной публикации она была заменена псевдонимом «Юхманов», с переработкой всей фразы.
17 Д а р а г а н А. М. (1806—1877)—составительница руководств по детскому образованию, пользовалась популярностью ее азбука «Елка».
18 Н. К о с и ц а — псевдоним Н. Н. Страхова (1828—1896) — критика, философа и публициста, деятельного сотрудника журналов «Время» и «Эпоха».
19 Секвестр (от лат. sequestrum) — временная конфискация. Здесь: изоляция.
Вопросы и задания.
1. Особенности сатирической журналистики 60-х – 70-х годов 19 века. Журнал «Искра». Его структура и место среди демократических изданий.
2. Статья В.Курочкина «Теория полемики»: особенности жанра; способы освещения проблем гласности; стилистические особенности статьи; актуальность публикации в настоящее время.
3. Общественно-политическое направление журнала «Отечественные записки» (1868-1884г.г.) Некрасова и Салтыкова-Щедрина.
4. Сатирическая публицистика Салтыкова-Щедрина: тематика, проблематика, форма.
5. Статья Салтыкова-Щедрина «Несколько мыслей о полемике».
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 811; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
