Неразрушенное время. Александр Самойленко 12 страница
Вышел он из армии совсем другим человеком. Встретился с Федей. И Федя уже был совсем другим. Федя не пошёл в армию. Обстоятельным он был тогда человеком — Федя. Разузнал всё у парней, какая она такая там служба, и получил справку, что мать инвалид, а он единственный сын... Да, Федя уже был совсем другим. На щеке свежий красный шрам. Он уже пил тогда вовсю водку и даже шеллак и клей БФ. И учился в институте на вечернем. Федя понял тоже жизнь. Они потом вместе с ним пили...
А с Ниной Лёня познакомился просто. Прижалась она в трамвае к нему своими шикарными бедрами, глянул он на её тоже шикарные ноги в чёрных сетчатых чулках, и поженились они. В ту же ночь.
А потом он работал, работал. Варил в сварочном цеху на ЖБИ арматуру. Каждый день — дым, дым, голова болит. Пять лет варил за квартиру. Получил, обустроил — обои, кафель — и свалился. Всё.
Что они опять там говорят? Стихи? Марины Цветаевой? Стихи. Красиво, конечно. Но... стихи. Слова...
Что это?! «Когда исчезну я с поверхности земли...» Первая строка! Так бывало с ним! Он научился определять! Первая строка или первая нота! Гениальная. И тогда он отворачивался к стене, чтоб не видели, наслаждался и плакал.
Было ЭТО! Оно заполнило вмиг мозг и комнату. Гениальность катила впереди волной, телепатически предупреждая: ЭТО! И каждая строка — каждая строка! — разверзала настоящее, комнату, потолок! Вместо прощальной печали близких, последнего дружеского рукопожатия, слёз любимой... «Бог послал! Специально мне... Спасибо...Бог, наверное, какой-то есть всё-таки..."
«Послушайте, еще меня любите за то, что я умру...»
|
|
|
— Послушайте, ещё меня любите... Послушайте, ещё меня любите за то...
Он выкрикивал пересохшим горлом и плакал, но на самом деле слышался лишь тихий хрип и лицо сводило судорогой, потому что слёз не было.
И время, в котором он застыл на восемь лет, опять помогло ему, перекинув из секунды настоящего в то прошлое, когда писались эти стихи, объединив его вновь с чем-то самым высшим и разумным, которое, может, действительно хранится где-то над Землей, в биосфере...
И он сполз с дивана, но не сполз, а упал. Диван был низким, потому что Федя давным-давно убрал ножки, чтоб легче было сползать. Но он упал. Сознание не потерял, а даже взбодрился. И пополз.
— Нет, не сдамся. Не сдамся, — Шептал он хрипло горячим сухим горлом.
Он полз, полз и полз, преодолевая длинные миллиметры, и луна удивленно наблюдала за странным существом, извивающимся в одном из человеческих склепов.
— Послушайте, ещё меня любите... — повторял он, боясь забыть, держась за эти самые гениальные слова в мире.
Дверь, конечно, была закрыта на крючок с обратной стороны. Чуть толкни — и отлетит. Но не с его силами. Под дверью из щели поддувало, и он лёг щекой на пол и нюхал ветерок, как будто влажный, из кухни — там вода, запах жизни.
На него смотрела здоровенная тараканья морда с толстыми антеннистыми усами.
— Ты знаешь, что тараканы — это бывшие люди? Умершие. А вы нас травите. Нехорошо. Скоро и ты тараканом станешь, — сказал с укоризной тараканище.
Лёня ничего не ответил, но подумал: «А если этого таракана выпить? Но где у него открывается пробка? Я не помню».
А таракан подумал: «Поесть его немного, что ли? Нет, пока сыт — потом, когда умрёт».
|
|
|
Лёня очнулся и вдруг вспомнил, что забыл самые гениальные в мире слова, которые написаны специально для него в прошлом и которые ему послал сам Бог из культурного слоя биосферы, где остаются все мысли. А философа, талантливого мужика, вычислившего её, убили в советском концлагере. А раз так, значит, ему не выбраться и здесь, на полу, его последнее место. И это очень обидно, поэтому нужно скорее, скорее, потому что уже таракан...
Леонид очнулся. Сознание прояснилось до предельной чёткой контрастности. И чего-то ему захотелось, этому сознанию, какого-то краткого объяснения и отчёта: почему он так унизительно умирает — в одиночестве, на полу, от голода и жажды. Нужно было торопиться, потому что время его кончалось, нужно было быстренько расставить всё по местам и успокоиться.
|
|
|
Но контрастное яркое его сознание глубоко плевало на какое бы то ни было успокоение. И чихало. И высветило из-за закоулков всё, что владелец и сам очень хорошо знал. «А ведь это ты сам убил себя. Сам!» — «Как это — сам?! Ты что, совсем сдурел?!» — «А вот так! Ты только и делал, что убивал себя всю жизнь! В школе, например. Ну ладно, в младших классах был глуп, но потом, в старших? Ты же видел, что учебники дешёвенькие и простенькие, не мог сам, что ли, увлечься чем-то, заниматься в библиотеках? Ведь были же некоторые, занимались по институтским программам...» — «Карьеристы и выскочки!» — «Ну-ну, ты же знаешь, что это совсем не так. Это лень. Ты уже тогда начал убивать свой интеллект». — «Да при чём тут интеллект?!» — «А при том, что когда нет интеллекта, то и тело недолго угробить. И совесть, и честь, и...» — «Заткнись, дурак!» — «Ну-ну. Ты пил с Федей? Видел, что он увлекается, и пил. Ты-то не увлекался. Потому что голова болела... Ты отвернулся к стене и делал вид, что спишь, когда в казарме всю ночь «деды» били солдата. Он ползал на коленях... Ты думал, что с тобой-то такого не случится. А потом били тебя... Тебе ещё называть? Я могу называть и называть примеры, пожалуйста. Ты работал в дыму пять лет и ни разу не выступил на собрании по этому поводу. В профсоюз лезли горлопаны и дельцы, а ты сидел, молчал. Ждал квартиру... Ты женился не на своей женщине. Думал, перевоспитаешь как-нибудь? Но ты жил и получал от неё удовольствия какие хотел. И всё. И приносил зарплату. А с дочерью... Ты её не любил...»
— А-а, суки! Врёте, врёте вы все! Это вы меня убили! Это опять плакаты на заборах! А-а... — и Лёня стал изрыгать страшные похабные проклятия, не удивляясь, что его мозг ещё способен синтезировать подобные сочетания и что чистота, накопленная им за восемь лет лёжки, вдруг испарилась из него.
|
|
|
Он увидел рядом какой-то предмет, кое-как достал, дотянулся левой действующей рукой: это оказалась женская туфля с металлической набойкой на каблуке. И Леня стал стучать ею по полу, надеясь, что придут соседи. Он стучал, стучал и стучал, но соседи не приходили, наверное, они тоже отвернулись к стене и делали вид, что спят...
Он терял сознание и приходил в себя от звонков в двери или от выкриков: «Лёня!!»
Это были всего лишь галлюцинации, и он опять стучал и матерился.
«...Плакаты на заборах за которыми грязь и бараки лозунги зовущие в красивую иллюзию в никуда она всегда была рядом та жизнь которой на самом деле никогда не было потому что она была придумана для тех кто вкалывает и живёт на чердаках в подвалах и девятиметровых клетушках а всё настоящее казалось всегда временным и не настоящим потому что красивая иллюзия была как будто реальной и плакаты с заборов перешли на плакаты в душу и мозги и каждый думал что он живёт там и в том которого в самом деле не существовало для всех а красивой нереальной реальностью жили только избранные сами собой а все остальные думали что так и надо и никто не высовывался и все были как все и только единицы понимали только единицы сейчас говорят что есть закон меньшинства но он не попал в это меньшинство потому что стал как все но в самом начале в нём было это меньшинство было а потом он стал как все поверил и сдался и убил себя потому что забыл и забил создателя в себе и стал механическим человеком а человек не конечная инстанция а может лишь небольшой промежуток между чем-то и чем-то и нельзя забывать этого нельзя забывать что есть еще другие миры и вселенные нельзя жить в банке под крышкой потому что это совсем не разумная жизнь нельзя предавать себя быть как все потому что это будет просто стадо жвачных безмозглых автоматов нельзя потому что все кругом фантастика и это великое чудо дается только раз только раз только раз...»
Он нашёл в себе силы привстать и бросить туфлю в стекло двери.
Стекло медленно-медленно расползалось сначала мелкими извивами трещин, потом, в лунном алюминиевом блеске трещины расширились черными каналами и крупные осколки зависли и стали оседать по ту сторону.
И Леня понял, что он наконец разбил то стекло, которое давно, давно, всю жизнь… он стремился! Там, за стеклом, за дверью не вода, не жизнь! Там!.. Несчастные они, бедные Нина, Вика! Все они там, за стеклом, все! Они ничего не знают ещё, ничего не поняли! Они все чем-то, чёрт знает чем, зажаты! Мелочи! Но всё не так, не так на Этом Свете. Это он полз за их любовью! И со своей любовью к ним! Потому что... «Ещё его любите за то, что он умрёт...» Но как же они все одиноки на этой Земле, все-все! Но он-то уже знает, он понял, он им ещё успеет всё-всё объяснить, и они полюбят...
Стекло разбилось, осколки посыпались с другой стороны двери, а Лёня упал на своей стороне. «Проводок» в его мозгу давным-давно раскалился докрасна и сейчас наконец перегорел.
Через сутки пришла Нина. Колени её дрожали, и сердце гулко колотилось, когда она открывала двери прихожей. Ей было страшно. Она не разуваясь тихо прошла к его комнате. Увидела разбитое стекло, осколки и ноги лежащего на полу мужа.
Ей было очень страшно. Она не знала, что делать?! Убежать? Но тогда её посадят в тюрьму! Но может быть, он жив?! Она сняла крючок, открыла дверь, непроизвольно нюхнула воздух — ещё не пахнет... Только обычный застоявшийся запах грязного белья и давно не мытой комнаты.
Молчит. Лежит лицом в пол. Изо всех сил, превозмогая страх, перевернула его. Конечно мёртв. Не дышит, глаза закрыты. Ей как можно скорее нужно перетащить его на диван и всё здесь убрать, потому что может вот-вот появиться Вика.
Трясущимися руками, с ужасом, с тошнотворным отвращением, совсем забыв, что это все-таки её муж, а видя в мёртвом лишь труп, испытывая животный страх к смерти, она взялась обеими руками за концы брючин, стараясь не прикоснуться к синим голым ногам, и попробовала потащить его. Но едва не стянула с него брюки. И тогда ей пришлось через штаны взяться за его голени... Тело оказалось странно тяжёлым, несмотря на то, что внешне выглядело безобразно худым и высохшим.
Ей показалось, что она забыла захлопнуть входную дверь и кто-нибудь может сейчас зайти и застать её. И тогда...
Сердце её колотилось, и затаскивала и укладывала она его на диван почти в беспамятной жуткой прострации. Ей всё чудилось, что он вот-вот схватит ее мёртвой рукой и утащит куда-то в ад...
Но вот она его положила, стараясь положить так, как он обычно лежал на спине. Голова его бессильно и мёртво-неестественно завалилась, на жутко тонком горле выделялся кадык.
Нечаянно она взглянула на лицо, и мгновенно ей подумалось, что видит она его в последний раз, потому что она очень не любит всё это и уж, конечно, больше на него и не взглянет. И когда она взглянула, ей показалось, что он какой-то не такой стал и что это не от смерти, а... Седой! Он был весь седой! И волосы, и клочковатая щетина на изможденном лице и горле. Она почему-то вспомнила, как он часто просил их прочистить забитую щетиной электробритву, а они не чистили, и он не мог побриться.
И где-то далеко-далеко в своём сознании она неожиданно увидела... Нет, она в секунду словно прожила совсем другую жизнь, в которой и сама она была совсем другой.
Ей почудилось сначала, что так уже было когда-то, давно-давно и, может, даже не однажды. Так с ней бывало иногда, когда в каком-то разговоре или моменте ей вдруг начинало казаться, что уже было вот точно так, словно этот кусок времени — фрагмент какой-то, может, из вечных, даже не её личный, а какой-то всеобщий и появляется из ниоткуда, а потом уходит туда же.
И сейчас ей так помнилось, что всё уже было в точности такое же, но в другой какой-то жизни, где всё красивей и н а с т о я щ е й. И в эту же одну секунду представилось ей, что там бы она печалилась и плакала, т а м бы она протянула руку и провела по его серебристым волосам — без страха и отвращения, как делала это в первые годы семейной жизни. В эту же секунду она вдруг вспомнила все его странные речи за восемь лет и как будто поняла их мгновенно и приняла. Хотя никогда их не выслушивала в действительности, и они всегда обрывали его с дочерью, кричали ему, что он дурак и спятил.
Но сейчас ей как будто припомнилось, что она знала, что он не спятил, что она понимала, как далеко он ушёл в своих мыслях и чувствах за восемь лет. И ей показалось, что т а м, в другой жизни, и она вслед за ним и вместе с ним ушла далеко...
Но секунда промелькнула. Нина усмехнулась, слегка удивившись себе, мысленно сказав: «Какая ерунда! Ничего ведь нет. Одно воображение глупое больного человека. Умер — и ничего нет. Только дохлятина...»
И пришла другая секунда — реальной, её собственной будущей жизни. И она увидела там свои близкие сорок лет, вялые, стареющие никому не нужные лицо и тело, раскормленную дочь с лошадиными зубами, свои семьдесят тысяч, наработанные в торговле... Она ещё может покупать молодых людей, но... Жизнь не удалась. И всё из-за него, из-за него!
Она отошла к окну, совершенно неожиданно лицо её перекосило, и непривычно, толчками, она стала некрасиво плакать, припоминая, что подобная вещь с ней была в последний раз лет тридцать назад.
Потом Нина быстро вытащила остатки стекла из двери, дыру задернула занавеской, смела осколки с пола, принесла из кухни давно нарезанную сухую колбасу в тарелочке, термос с чаем, хлеб, печенье и расставила на столике возле дивана.
Потом звонила в «скорую», ходила к соседке, играла в страшное горе, потирая платком сухие глаза.
Пришла Вика. «У вас папа умер», — сообщила ей соседка на лестничной площадке. «Да-а? — спросила Вика.— Ну я тогда пойду за Альмой..»
Лёня ещё с полмесяца пролежал в морге, потом его похоронили и в общем-то не вспоминали. В комнате сделали ремонт, наклеили обои, поставили новую мебель. Вике нравилась её комната. Нина заходила сюда редко и ненадолго.
У шотландской овчарки Альмы здесь было любимое место. Возле старого кресла. Она приходила, ложилась, укладывала свою тонкую интеллигентную морду на изящные передние лапы, левым глазом следила на всякий случай за молодой хозяйкой, лежащей на кровати, правый глаз прикрывала, а чутким длинным носом ловила струю воздуха, исходящую от кресла. Там, между боковой стенкой и сиденьем, завалился и лежал ремешок от часов ушедшего больного хозяина. И Альма по запаху восстанавливала прошлое.
— Альмуша, газету, — шепчет хозяин. И она незаметно проходит в прихожую, приостанавливает слюну, сухой пастью тихонько берет с зеркала свежую газету и тоже незаметно приносит ее хозяину. Если хозяйки увидят, будут ругаться и кричать. Но она умеет принести так, чтоб не увидели. Хозяин читает по нескольку строк, отдыхает, снова читает.
— Отнеси, — говорит он, и она вновь прокрадывается с газетой в прихожую.
«Она. Знает. Всё. О. Них. Она. Знает. То. Чего. Не. Знают. Они. Потому. Что. Ей. Дано. Она. Уже. Немолода. И. Скоро. Будет. Переходить. Туда. Куда. Перешёл. Хозяин. Когда. Нибудь. Может. Быть. Когда. Будет. Их. Переход. Хозяек. И. Они. Поймут. И. Всё. Узнают. А. Может. Быть. И. Нет», — думает Альма, шотландская колли.
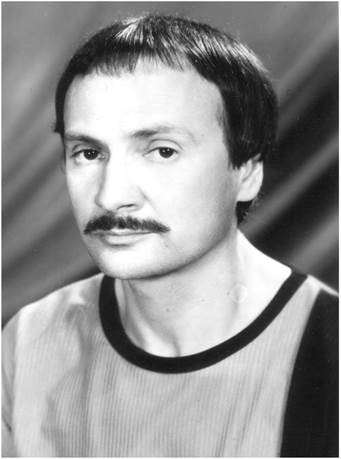
Неразрушенное время. Александр Самойленко
Владивосток
Неразрушенное время
Повесть
Сигналит звонок в прихожей. Иду открывать, не подозревая, что шагаю навстречу возможному сюжету.
Пришла мать. Два-три раза в неделю мы заходим в гости друг к другу, благо, что наши дома рядом.
— Наверное, помешала, ты пишешь? — спрашивает мать, замечая зашторенные окна, включенный торшер, беспорядок на столе, мою всклокоченную голову и ненормальный блеск глаз с расширенными от чая зрачками.
— Ничего-ничего, садись, — взглядываю на мать, грустно подмечая её быстро прогрессирующую старость. За последние годы много произошло с нами всякого.
Безвозвратно и необратимо, внешне и внутренне изменились мы сами, не раз переоценив свои и чужие ценности. Сейчас мы словно поменялись местами. Как будто в чём-то я стал старше матери. Я осуществляю то, о чём всю жизнь безрезультатно мечтала она, — стать литератором.
Ко мне у нее довольно противоречивые чувства. С одной стороны – гордость за сына. Она часто помогает мне. То кормит обедами, то, к стыду моему, заплатит долги за квартиру. У неё пенсия и зарплата.
Но с другой стороны, как несостоявшийся писатель, она завидует мне, к сожалению, завистью не совсем светлой. И старается подражать. Пишу ли я афоризмы или юмористические рассказы – то же делает и она. Афоризмы у неё получаются примерно такие: « Не можешь думать головой - шевели руками».
Чувство юмора – это часть сознания, а его, как известно, определяет бытие. С самого раннего детства она попала в такие условия, где требовалось развивать не чувство юмора, а чувство выживания. Из двенадцати детей их семьи в живых осталось шестеро. Ей, как старшей, достались и вся тяжесть домашних деревенских работ, и уход за младшими братишками и сестренками.
Во время войны трижды умирала от голода, опухая. Вышла замуж за офицера, без любви – просто некуда было деться.
«В четыре года была уже нянькой, в семь — работала в огороде, и в поле, а в девять — пасла с отчимом с ранней весны до глубокой осени огромное стадо чужих коров. В школу приходила в ноябре и наверстывала упущенное. В двенадцать лет работала по вечерам колхозным почтальоном. В тринадцать ушла из дома к бабушке в районный центр, чтобы учиться.
Уходила поздней осенью в рваном пальто с холщевой сумкой за спиной, в которой были лишь булка хлеба, вилок капусты и старые учебники за шестой класс, выпрошенные у деревенского мальчишки, бросившего школу.
В четырнадцать вернулась домой, началась война. Вскопала весной два гектара ничейной земли возле железной дороги, засеяла просом. А дома еще полгектара огорода…
В шестнадцать училась в девятом классе и посещала учительские курсы. В семнадцать была учительницей в младших классах».
Эту свою раннюю биографию с различными многочисленными подробностями мать часто повторяла мне в детстве, воспитывая на собственном примере.
От того ли, что жизнь ей давалась с большим трудом, от врожденных ли черт характера, не склонного к веселью, математические способности перетянули литературные. Формулы не люди, они чётки и ясны, в них нет никакого второго скрытого смысла.
Она закончила физмат и стала хорошим школьным учителем математики. Но писать не бросила, невольно заразив своим увлечением меня, хотя никогда со мной в детстве специально не занималась.
В неё даже серьезно влюбился известный приморский писатель и брал под своё покровительство. Он был уже немолод и влюбился той страстной последней любовью — скорее платонической и прощальной, которая относится, наверное, не только к одной определённой женщине, а и ко всему исчезающему в себе мужскому, к так и не сбывшейся голубой мечте о необыкновенном идеале, к тому прекрасному, не разгаданному мужчинами таинству, что заключено в женщине, как олицетворении женского начала в природе.
Но мать воспринимала всё слишком буквально. Она не умела идти по жизни шутя. Отвергнув писателя, вышла вторично замуж за человека, который, как оказалось впоследствии, был уже четырежды женат и неоднократно лечился от белой горячки…
Она плохо разбиралась в людях, легко обманывалась, обладая неистребимой детской наивностью, может потому, что слишком много времени проводила в школе среди детей.
— Что новенького? – спрашиваю я.
— Недавно послала Оксане письмо. А сегодня оно вернулось не распечатанным. На конверте написано: "Адресат выбыл по случаю смерти..." В комнате повисает напряженная тишина. Как минута молчания. Несколько секунд мы переглядываемся, словно проверяя реакцию друг друга. Только теперь я замечаю расстроенное материно лицо, неспокойные влажные глаза.
Kто мне Оксана? Никто. Но отчего же так неприятно? Смерть? Я знал Оксану тридцать лет. И сейчас, так осязаемо, я чувствую, как эти тридцать лет поползли, поползли, по склону пропасти, на дне которой лишь груды породы разрушенного времени. И мы уже прочно увязли в этой зыбучести и сползаем, сползаем туда же, вниз. Вот мать, она еще сидит здесь, еще присутствует реально в данный момент в объеме этой комнаты. Но нет ни слов, ни науки, ни техники, чтобы остановить этот проклятый вечный и ежесекундный оползень…
— Она же недавно приезжала! И выглядела совсем неплохо, — говорю я слова, которые так мало значат в сравнении с тем, что мы оба сейчас чувствуем и вспоминаем той объемистой памятью, в секунде которой умещается жизнь.
Смерть Оксаны выдвинула все наши ячейки памяти, словно ящики комода, из которых торчат в разные стороны всякие вещи – и более-менее новые, и совсем старые, давно-давно забытые и неизвестно как сохранившиеся.
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 140; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
