Возвращение в Англию: заметки Орейджа о Махабхарате
Мы жили уже две недели в доме Рэймонда Грэма, когда мне позвонили из правительственного агентства и сообщили, что для меня появилась возможность отправиться в Англию в двухдневный срок. Мы поспешно упаковали наши вещи и уехали прямо в Локаст Уолли, Лонг-Айленд, не имея возможности даже попрощаться с нашими друзьями в школе Патни. Не было времени увидеться с друзьями в Нью-Йорке - еще одна разлука. Последний день с моей семьей был болезненным; они приехали вместе со мной в Нью-Йорк, попрощались со мной в порту, а когда они ушли, я отвернулся и заплакал; вновь, некая разновидность смерти.
Курительную на корабле переделали в мужскую спальню на сорок человек, все – англичане. Громкоговоритель на платформе вещал объявления запугивающим тоном, которым пользуется американская полиция, будто рот полон холодного картофеля: «Слушайте все, слушайте все!», затем следовали инструкции, и в заключение «это все», и, как только мы покинули порт, большой неожиданностью было услышать похожий пронзительный английский голос со ртом, полным горячего картофеля, говоривший: «Пожалуйста, внимание; пожалуйста, внимание!», затем следовали инструкции, заканчивающиеся «спасибо».
В первую ночь я рано лег спать. На следующее утро на палубе мне открылся ошеломляющий вид. Мы находились в центре передней из пяти линий, всего шестьдесят кораблей, идущих на одной скорости, каждый держась своего места. Вдалеке двигались разведчики, эсминцы и сторожевые корабли, охрана от подводных лодок. И день за днем, пока мы не достигли берегов старой Англии, все эти корабли держались своего места в жарком августовском солнце и спокойном море. Ночи стояли смоляно-черными, и, казалось, мы совершенно одни в океане, но на следующее утро все корабли по-прежнему оказывались на месте, как будто бы никогда и не двигались. Необыкновенный пример того, как человек может разумно самоорганизоваться и работать своими руками для защиты от сил материального разрушения. Десять дней от Нью-Йорка до Ливерпуля прошли спокойно, за исключением похорон в море очень старой леди, умершей от сердечной недостаточности; и одного удивительного случая, причиной которого стал наш корабль. На четвертую ночь мне приснилось, что я сижу, за рулем сидел еще один человек. Мотор мощно звучал пока мы ехали, затем водитель неожиданно свернул к краю дороги и вышел. «Двигатель остановился. Он сломан», - сказал он, поднимая капот. Я проснулся. Было раннее утро, корабль стоял неподвижно, двигатель не вибрировал. Я поднялся на палубу, и увидел, что мы дрейфуем в океане одни, представляя собой прекрасную мишень для подводных лодок, конвой смутно виднелся далеко у горизонта; лишь небольшой сторожевой корабль, дымивший впереди, осмотрел нас и поспешно отплыл к конвою. Нам говорили, что если какой-либо из кораблей сломается, то его предоставят своей собственной судьбе; пятьдесят девять кораблей не могут рисковать ради одного, но для безопасности они поместили нас в центр первой линии, поскольку на борту, среди пяти сотен пассажиров, к своим мужьям в Англию плыли две сотни канадских женщин - молодые жены английских пилотов. Из практически полной безопасности мы теперь оказались в абсолютной опасности. Спасательные шлюпки были подтянуты в свои шлюпбалки, и мы в спасательных жилетах выстроились вдоль них. Никто не выказывал признаков паники или даже страха; присутствовало общее чувство невозможности что-либо сделать, кроме того, как ждать подводную лодку и, если повезет, забраться в шлюпку. Мы только могли принять ситуацию и предать самих себя тому, что может случиться. Когда мы сталкиваемся с силами, превосходящими наши, не остается ничего другого - только подчиниться. Все, что я мог делать - это вспоминать себя и не давать воли негативным эмоциям и волнению, страху. Я вспомнил, что много раз читал и воображал подобную ситуацию – рассесться по шлюпкам и дрейфовать по бескрайнему безразличному океану, но одно дело читать и представлять, и совсем другое – столкнуться с реальным событием; это и есть разница между знанием ума и персональным опытом. Происшествие настолько воздействовало на мои три центра, что и двадцать лет спустя я могу вспомнить не только те события, но и испытанные тогда чувства и мысли.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часы проходили в неизвестности. Мы даже отправились как обычно на обед, не снимая спасательных жилетов в ожидании взрыва, когда в полдень моторы снова завелись, и мы двинулись полным ходом, вместо половины вместе с конвоем. Мы отправились спать в жилетах но, проснувшись на следующее утро, к нашему великому облегчению обнаружили, что как по волшебству оказались снова в центре передней линии кораблей.
Вернемся немного назад. Едва мы потеряли из виду небоскребы Нью-Йорка, как мое чувство горя от разлуки с семьей сменилось другим субъективным ощущением. В толпе рассматривающих друг друга во время прогулки по палубе пассажиров я увидел ученика Успенского, человека, с которым я никогда не разговаривал, но видел его в группе учеников возле Успенского в мой первый визит на Варвик Гарденс, и однажды в Мэндеме; во мне сформировалось впечатление, что это один из старейших и близких учеников Успенского, «продвинутый в работе», как они говорят. Я подошел к нему, и мы заговорили. Настоящей радостью было встретить человека, интересовавшегося теми же самыми идеями, что и я, с кем можно было их обсудить; я понял истину высказывания Гюрджиева о том, что работа устанавливает связь между людьми даже сильнее, чем семья. Мы обедали вместе и проводили большую часть времени беседуя. Его не предупредили, что я покинул Успенских и почему, и я думал: какие инструкции Успенский мог бы ему дать, зная, что мы можем встретиться. Что касается меня, то я был только рад поговорить о Гюрджиеве и Рассказах Вельзевула; даже если бы Успенский запретил наши встречи, я сомневался что здесь, перед лицом возможности быть затопленными в море подводными лодками, этот ученик подчинился бы. Я говорю об этом из-за последующих событий в Англии. После непродолжительных разговоров я начал осознавать, как мало он понимает. Возможно, он знал лучше теорию системы, но что касается метода самоощущения, самовоспоминания, самонаблюдения он, как и все ученики Успенского, почти ничего не понимал. В течение дня или двух он начал спрашивать меня о разнообразных сторонах Гюрджиева и его учения, а так как он подходил к этому серьезно, я дал ему почитать некоторые мои записи и несколько глав рукописи Второй Серии. Он возмущался: «Это восхитительно, очень интересно. У нас этого никогда не было. Почему нам никогда этого не давали?» Я мог только сказать: «Спросите Успенского». Рассказы Вельзевула вызвали у него большой интерес, и я одолжил ему свою копию текста, которую он часами читал, сидя в самом спокойном месте на переполненном корабле - на ступенях кают-компании. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся[1]», думал я, и очень радовался, что мог своими скромными усилиями сделать что-то, чтобы удовлетворить этот голод одного человека.
|
|
|
Наше общение изменило всю нашу жизнь на корабле; разновидность жизни, при которой, во всех моих двадцати шести длительных путешествиях в качестве пассажира, я всегда скучал. Кажется логичным, что оказавшиеся на корабле люди, отрезанные от земли на шесть недель или всего на десять дней сбиваются в компании, стараясь узнать друг друга, и человек может найти, по крайней мере, двух или трех людей, с которыми можно обсудить жизненные идеи. Мой опыт говорит, что как только люди оказываются пассажирами корабля, на их настоящие сущности - если они у них есть - падает завеса, и все время люди предаются тривиальным занятиям, тривиальным беседам, делам, обычной болтовне о других людях. Молодые люди могут флиртовать и танцевать, для них не все так плохо. И долгое путешествие может стать приятным и необычным опытом. Для меня теперь это мука; для меня ад выглядит как принуждение вечно плавать в «приятном» круизе на роскошном пассажирском лайнере без привилегии даже выпрыгнуть за борт.
Настоящее путешествие от остальных отличалось. Даже за исключением разговоров с моим новым другом, на корабле присутствовала атмосфера серьезности и доброжелательности между пассажирами и командой; столкнувшись с постоянной опасностью, люди открылись. Днем мы играли в палубные игры или читали и беседовали, по вечерам устраивали концерт, бридж, шахматный турнир или что-нибудь в этом роде. Это было одно из наиболее приятных и удовлетворительных моих путешествий.
Пока мы лавировали и вертелись по минным полям Ирландского моря на пути к Ливерпулю, мой друг сказал: «Знаете, я никогда не смогу достаточно вас отблагодарить за то, что вы мне дали. Это манна для страждущего. Если после высадки на берег вы организуете группу для чтения Рассказов Вельзевула, я присоединюсь к ней».
Я согласился так и поступить, но сказал ему, что, будучи учеником Успенского, он должен поговорить об этом с ним. Он ответил, что как только приедет, он отправиться в Лэйн и поговорит там с людьми, а также отправит телеграмму Успенскому в Нью-Йорк за разрешением. Мы разделились в Ливерпуле. «Вы услышите обо мне еще до конца недели», - сказал он.
Но я не получил от него более ни слова, ни строчки, а также не видел его в течение нескольких лет, вплоть до смерти Успенского, когда неожиданно столкнулся с ним на встрече у Гюрджиева, и он объяснил мне почему: ему было сказано, что если он присоединится к моей группе для чтения или будет иметь какие-то дела со мной, он должен будет покинуть Лэйн. Он был хорошим, симпатичным человеком, и позже очень сильно мне помогал в то время, когда я нуждался в деньгах.
Дни, пока мы пересекали Атлантику, были наполнены незамутненным солнечным светом, они продолжились по прибытию в Англию, и все время в поезде во время коротком путешествия в Харпенден, я выглядывал в окно и впитывал ощущения Англии. Стояли одни из тех безоблачных дней позднего лета, когда свет и легкая дымка на полях столь совершенны, что такое не может произойти больше нигде на планете; мне казалось, что никогда я не видел столь прекрасной страны, столь прекрасных мужчин и привлекательных женщин, и столь энергичных, целеустремленных и даже беспечных людей, после медленно говорящих и двигающихся американцев. Боль в солнечном сплетении, тоска последних четырех лет, гложущая боль болезненной тяги домой исчезла и никогда больше не возвращалась. На станции меня ждало такси, и вскоре я уже сидел вместе с моими отцом и матерью в той же самой комнате, которую я покидал четыре года назад, хотя я думал, что никогда больше ее не увижу; все повторялось, даже в той же самой деревне, с теми же самыми чувствами. Тем не менее, что-то во мне изменилось.
В первый же вечер, когда мы сидели все вместе, вдалеке прогремел взрыв, заставивший мою маму подпрыгнуть. «Что это было?» - спросил я. «Я полагаю авиационная бомба», - ответил мой отец, будто он говорил о проехавшей машине, и продолжил беседу. Почти каждую ночь и иногда в дневное время мы слышали взрывы бомб. Однажды, пока мой отец ушел на кухню приготовить чашку чая, дом затрясся от взрыва, и моей первой мыслью было, что он оставил открытым газ и тот взорвался. Я вбежал на кухню и обнаружил, что он спокойно разливает чай. «Что случилось?» - спросил я.
«Что ты имеешь в виду, случилось?»
«Взрыв! Я думал ты подорвал себя!»
«А, это, - сказал он со слабой презрительной интонацией. - Еще одна авиабомба, я полагаю».
Она упала в парк позади дома.
Иногда я удивляюсь, почему Природа не одарила меня частью инстинктивного философского спокойствия моего отца, а взамен дала мне так много беспокойной нервной эмоциональности моей матери. В 1940 после ночи Большого Пожара он вернулся от ворот (Альдерсгейт и Крипплгейт) в Сити, в Лондоне, так как его склад и фабрику разбомбили и превратили в руины вместе с остальным городом, работа всей его жизни, его дело, которое работало вот уже шестьдесят лет, был уничтожено. Он вернулся, спустился по ступеням на станции на Аьлдерсгейт Стрит, приехал на первом поезде домой, сказал моей матери: «Я не хочу снова возвращаться в город», и занялся чем-то. Ему было уже около восьмидесяти.
Мысли о смерти, кажется, не волновали его, он был уверен, что отправиться на небеса, небеса религии уэслианских методистов. С другой стороны моя мама, всегда внутренне считаясь с другими, интересовалась, что они могут думать о ней; методистская религия не давала ей надежды или утешения, только чувство вины за то, что временами она слишком много пила, что может не позволить ей отправиться на небеса. Она часто говорила мне об этом, и, хотя я часто уговаривал ее и старался успокоить, она не могла избавиться от чувства вины, что Бог не простит ей употребление алкоголя. Религия, бывшая таким благословением для моего отца, для нее была ядом. Тем не менее, кроме периодических периодов уныния, она оставалась веселой и неунывающей. На седьмом десятке болезненная тяга к алкоголю исчезла и для нее началась новая жизнь, жизнь добрых свершений. Она организовала в своей деревне благотворительную деятельность, все восхищались ею и любили ее.
Я немного пробыл дома, когда начали обстреливать ракетами ФАУ-2; оповещения не было, только опустошительные взрывы. В один мой приезд в Лондон я зашел в Стэйпл-инн в Холборне. Спустя четверть часа после того, как я оттуда вышел и уже прогуливался по Верхнему Холборну, произошел сокрушительный взрыв; Стэйпл-инн, «самый прекрасный дом на Чэнсери», исчез.
В тот период войны улицы Лондона были очень пустынны, половина магазинов закрыта, а большинство окон заколочено досками, чтобы не просматривались с воздуха. Город, который я так хорошо знал, теперь превратился в большие развалины: его церкви, здания. Люди шли по своим делам с бессознательной бдительностью, как олени, постоянно настороже; с чувством «возможно, это буду не я». Я всегда чувствовал облегчение, возвращаясь в Харпенден. Хотя о бомбах мало говорили, все находились настороже. Человеческие существа, как животные, не могут принять возможность уничтожения, и природа милосердно оберегает их от осознания безнадежности ситуации – в осажденном города, при извержении вулкана, урагане, на тонущем корабле, ждущих газовой камеры евреев. После первого шока ситуация зачастую принимается. Обычно террор и ужас осознается только во снах.
Однажды утром, услышав гул бесчисленных самолетов, я вышел во двор посмотреть на них. Голубое небо заполнили несущие парашютистов самолеты, медленно летящие в направлении Голландии – сотни, каждый полный начавших взрослеть молодых людей, и я подумал: «Совсем скоро, час или два спустя, сотни этих пока еще полных жизни молодых людей умрут или будут умирать, некоторые даже до того, как приземлятся, приговоренные к смерти случайной лотереей; никто и ничто не может это остановить». Они летели на Арнхем.
Благодаря присутствию в человеческих мыслях и чувствах возможности неожиданной смерти или ранения, люди в Англии становились более человечными; их толстые маски личности, по крайней мере, отчасти, таяли, и я часто вспоминал, что Гюрджиев говорил нам всегда стараться помнить о том, что и мы, и все, кого мы видим вокруг, смертны; а также просьбу Вельзевула Его Бесконечности имплантировать в человеческие существа орган, наподобие кундабуфера, который заставлял бы их всегда быть осознанными, всегда быть осведомленными о факте собственной смерти и смерти всех окружающих: только в этом случае сохранялась возможность разрушения тщеславия, заносчивости, самолюбия, раздражительности, обидчивости, жадности к деньгам и силе – всего того, что наносит ущерб полезным взаимоотношениям, что препятствует людям становиться нормальными мужчинами и женщинами.
Из-за дисгармонизации пятого стопиндера, согласно Вельзевулу, ничто на этой планете никогда не идет так, как задумано, или даже так, как логично было бы сделать. И, тем не менее, жизнь всегда ставит в тупик «экспертов», и не только практически постоянно ошибающихся «экспертов» - ученых, преподавателей, психологов, политиков и т.д., но даже самых обычных людей как мы сами, наделенных определенным здравым смыслом, и которые знают, что они ничего не знают!
Для меня необходимо было как можно быстрее получить работу, чтобы посылать деньги моей семье в Америку. Вначале я пошел к издателям, но они не нуждались в помощи, а только в бумаге, предложение которой упало до минимума. Потом друзья, связанные с руководством Британского совета, посоветовали мне встретиться с ними, поскольку им требовался человек с издательским опытом, и они предложили поговорить по поводу меня. На встрече все, казалось, идет хорошо, служащий по кадрам оказался моим старым другом, который заверил, что будет меня рекомендовать. Я вернулся в Харпенден обнадеженный; но не услышал в ответ ни слова, и мой друг намекнул, что это из-за моего возраста. Они не брали никого за пятьдесят, хотя я выглядел на десять лет моложе. Затем я написал своим друзьям, чей сельский дом в первую зиму войны был моим вторым домом, хотя и чувствовал, что что-то у них произошло, так как письма от них прекратились шесть месяцев назад. В этот раз ответила жена: «Эдвин мертв. Приезжайте к нам». Я вспомнил его слова более четырех лет назад, при прощании: «Наша старая жизнь окончена. Все рушиться. Вы уезжаете, А. уезжает, К. уезжает. Никогда уже не будет по-прежнему». Так и случилось, по приезду я обнаружил, что его жена управляет расположенными в поместье молочной фермой и товарным садом, а само место, как и везде в Англии, теперь выглядело заброшенным. Она, и все остальные, были перегружены работой. Тем не менее, бросать хозяйство она не собиралась. Только дом, с его вековой атмосферой жизни живших и умиравших здесь людей, дом, который по-прежнему излучал мир и благополучие, казался неизменным в меняющемся мире. Но даже этот древний дом, с его «бессмертными вязами» как и все остальное, изготовленное из планетарных материалов, всегда находится в опасности, в состоянии изменения; его может разрушить за несколько часов огонь, или мгновенно германская бомба; даже помимо этого время, которое всегда изнашивает вещи, ощутимо меняло его каждую минуту.
Здесь я был как дома: мою сущность удовлетворяла работа на ферме, а мою личность - аристократический образ жизни; а поскольку я привык к фермерской жизни, и моя помощь оказалась полезной, мне предложили остаться и помогать управлять поместьем. Но поскольку мне требовалось больше денег, чем они могли предложить, я смог остался всего на несколько недель.
У моих друзей всегда возникали трудности со старшим работником, жестким северным селянином. Однажды утром за завтраком, видя ее задумчивость, я спросил о причине. «Снова этот рабочий», - сказала она. Чтобы отвлечь ее, я рассказал о полученном от моего сына письме из Патни, Вермонт, в котором он рассказывал, что охотившегося в лесу недалеко от школы человека задрал медведь. Казалось, она не слушала, но после паузы произнесла: «Знаете, мне медведи нравятся больше, чем люди». Окружающие захохотали, все, кроме нее.
Спустя несколько недель мой брат из Лутона предложил мне хорошо оплачиваемую работу. Шляпы распределялись строго по норме, его выпускающая всевозможные корзины и мешки из отходов фабрика процветала. Ему нужен был человек, для окраски материала при помощи небольшой и очень примитивной, старой машины, и он предложил мне эту работу. Сильно нуждаясь в деньгах, я не мог отказаться, но это была ужасная работа. Для испарений от краски не существовало отдушины, вытяжки, и даже через маску мои легкие покрывались тяжелыми испарениями, здесь невозможно было работать более четырех часов в день; разительная перемена, по сравнению с работой в приятной старой сельской местности в Чилтерне, но я получал деньги и мог еженедельно отсылать приличную сумму моей семье в Америку.
Я начал искать влиятельных знакомых, и через несколько недель смог получить разрешение от Министерства торговли на покупку современной красильной установки и вытяжки. С их установкой работа стала легкой и простой, я смог нанять себе в помощницы девушку и, работая всего несколько часов в день, зарабатывать более двадцати фунтов в неделю, что равно сегодняшним шестидесяти фунтам. Жил я вместе с отцом и матерью в их небольшом доме, и каждый день добирался в Лутон. Я снова вернулся в семейный бизнес, на этот раз в Лутон, где я родился, и работал теперь в комнате в построенном в 1870 году для начала красильного дела моим дедом по материнской линии здании.
Колесо времени вернуло меня к началу моего существования по этой планете. Обстоятельства, казалось, принуждали меня возвратиться назад к семейным влияниям, еще раз в самое начало, тогда как я думал, что перешагнул их и оставил позади; и снова все выглядело так, будто есть что-то еще, что я должен проработать в схеме моего существования, получить возможность заплатить за свое появление - работой в качестве фабричного рабочего на фабрике моего младшего брата; сознательно выполняя ее как можно лучше, без огорчения или негодования, я мог проработать нечто негативное в своем существовании, в себе, и в то же время, каким-то странным образом, помочь своим предкам, что связано с Гюрджиевской идеей, который часто говорил ученикам не оскорблять своих предков и помогать ушедшим; хотя слово «предок» имеет более одного значения. Он говорил также: если отцы едут в комфортабельной «бричке», сыновья должны ехать за ними в жесткой «фирманке».
Тем не менее, новый опыт доставил мне много удовольствия, выгоды и религиозности: выгоды в деньгах, религиозности в обдумывании учения Гюрджиева, удовольствия от хорошо проделанной работы. Некоторые из людей, занятые в семейном деле во времена моей молодости, по-прежнему здесь работали; когда-то я смотрел на них как на рабочих, а на нас как на хозяев, теперь я мог работать с ними как один из них и любить их.
Поскольку я больше не страдал от тоски по дому, я не был несчастен; но нуждался в семье.
В Лутоне, как и в Лондоне, принимали тот факт, что в любой момент без предупреждения может упасть Фау-2 или авиабомба; и хотя у фабрики имелось крепкое убежище, новые бомбы не оставляли времени в него спуститься; «секретное оружие» все же упало, но не на нас.
Перед отъездом из Америки я безуспешно пытался достать полный комплект английского перевода Махабхараты, о котором так часто говорил Орейдж, я искал его и в Лондоне, случайно попав в магазин Джона Уоткинса, что на Чаринг Кросс Роад, я очень обрадовался, получив возможность купить ее последний комплект. Я принес его домой и начал читать, и продолжал читать каждый день. В книге одиннадцать убористо напечатанных томов, около двух с половиной миллионов слов, и это, возможно, самая длинная книга в мире. Я дал себе задание прочитать ее полностью, что заняло больше года. Это было хорошее упражнение, оно требовало всего моего внимания и настойчивости, поскольку индийский переводчик перевел санскрит на псевдо-английский – изнуряющий библейский язык. Даже в этом варианте сюжет просматривался; переводчик сохранил дух, вкус и «оттенки написания» оригинала, что делало перевод более удовлетворительным, чем фрагменты Мюра, Милмана или Ромеша Датта. Махабхарата - объективное произведение искусства наивысшего качества в литературе, и чтение ее весьма полезно, так как открывает новые горизонты идей и через это, за исключением Библии и Рассказов Вельзевула, она затронула меня больше и произвела более глубокое впечатление, чем любая книга, которые я до этого читал. Пока я читал, я просмотрел архив Нью Эйдж, с целью найти, что о ней писал Орейдж, и выписал следующее.
Махабхарата и Упанишады - мировая классика, которую мир просто еще не открыл. Платон оставался сравнительно неизвестным около двух тысяч лет – индийская классика вполне комфортно пролежит десять тысяч лет и явится как всегда вовремя. Еще не родились философы, которые сделают ее известной. Шопенгауэр, странный открыватель, обнаружил их и стал известным философом на ее частичном понимании.
*
В Махабхарате можно найти больше настоящего мистицизма, чем во всей современной мистической литературе.
*
Махабхарата - это величайшее литературное творение за всю историю человеческой культуры. Обычному уму трудно постигнуть ум того, кто понял ее; подобное усилие само по себе - прогрессивное образование. Илиада и Одиссея всего лишь ее эпизоды; а знаменитая Бхагавадгита - просто запись одной беседы перед одним из ее многочисленных сражений. Никогда писатель не знал больше о своих читателях, чем Вьяса, автор. Ганеше, который переписывал ее под руководством Вьясы, было оговорено, что он будет «уволен», если однажды смысл ему не будет понятен; но его не освободили от обязанностей до самого конца.
В качестве литературы, как наиболее колоссальная из когда-либо созданных литературных работ, она представляет собой и предстает перед нами такой же жизненной и многообразной как само время. В ней содержаться все литературные формы и приемы, когда-либо известные во всех литературных школах, каждая история, когда-либо написанная или рассказанная, каждый человеческий тип и обстоятельства, когда-либо созданные или возникшие случайно.
В отличие от чтения вторичных произведений искусства, чтение Махабхараты является опытом из первых рук. Для каждого ее чтение оканчивается по-разному, так же как каждый по-разному понимает все истинное.
*
Древняя Индия относится к нам, «детям» Европы так же как древний Египет относится к своим «детям» - Греции. Европа сегодня - это ярко выраженная древняя Греция. Индия, даже в большей степени, наш древний родитель, наш наидревнейший расовый предок, наша Адам и Ева.
*
Величайшую книгу можно воспринять только полным пониманием, оно называется интуицией. Стиль - это плод мудрости трех языков; а опыт - начало и конец стиля. И что более близко, чем ощущение «хорошей работы» при чтении великих произведений, особенно великих мистических или поэтических работ таких авторов как Блейк или Милтон, и в еще большей степени, при чтении таких работ, как Махабхарата? «Подсознание» каждой великой работы гораздо больше, чем ее осознаваемый элемент, так же как подсознание каждого из нас гораздо более богато по содержанию по сравнению с нашим сознательным умом.
*
Три великие жемчужины преданий – греческие, скандинавские и тевтонские – все они произошли различными путями с Востока, источник и вместилище всех их - Махабхарата.
*
Вьяса сказал: чтение Махабхараты уничтожает все грехи и производит добродетели; настолько, что произнесение даже одной слока достаточно для стирания множества грехов. В Махабхарате собраны истории Богов, Риш на Небесах и на Земле, Гандхарвов и Ракшасов. В ней жизнь и деяния единого Бога, святого, постоянного и истинного, который есть Кришна, который есть Создатель и Правитель Вселенной – который ищет благоденствия для своего создания с помощью своих несравнимых и неразрушимых сил, чьи действия прославляются всеми мудрецами; который связывает всех людей в цепь, на одном конце которой жизнь, а на другой – смерть; на которого медитируют Риши и знания о котором дает чистую радость их сердцам. Если человек читает Махабхарату и верит в ее учение, он освобождается от всех грехов и поднимется на Небеса после смерти.
______________________________________________________________________________
[1] Матф. 5:6
Окончание войны. Париж
Итак, днем я работал на фабрике, в маске и рукавицах для защиты от яда, окрашивая материалы в разные цвета, вечера я проводил с отцом и матерью, читая Махабхарату, на выходные же часто отправлялся в сельский дом к моим друзьям.
Я начал понимать, почему люди работают на опасных работах: либо их так воспитали, наподобие шахтеров-угольщиков; либо из-за любви к деньгам, вроде тех, кто работает под землей в ужасных условиях; либо, наконец, из-за инстинктивного чувства ответственности перед своей семьей, чтобы зарабатывать «хорошие» деньги. Я был из последней категории.
Лето выдалось ясным и не дождливым, жаркая сухая погода стояла до середины октября, когда начались дожди, в декабре начались снег и мороз, жгучая зима сковала всю землю. А потом - вечно удивительная весна, когда мертвые черные деревья и поля оживают, а в мае, с приходом весны, подоспели и невероятные новости, невозможно было поверить - война для нас закончилась. Я отправился в Лондон и смотрел на празднующих на Трафальгарской площади людей, стоя на том же самом месте, где и двадцать семь лет назад, когда пришли новости о прекращении огня в Первой Мировой войне, «войне для прекращения войны» 1914-1918 годов. Вновь все повторялось – те же самые многочисленные танцующие и поющие толпы; обнимаются и целуются в безумном восторге мужчины и женщины, иностранцы. Несколько часов я стоял и смотрел, радуясь вместе со всеми концу времени страха; счастливый от ощущения свалившейся с наших плеч тяжкой ноши. Двадцать семь лет назад я был одним из них и верил, что война велась для прекращения войны, что теперь «на зеленой и не знающей бед Английской земле возникнет Новый Иерусалим»; теперь я знал, что этого не может быть, и до тех пор, пока человек остается тем же самым, спящей машиной, пока животворная искра небесного пламени погребена в склепе тела, жизнь останется той же самой. Смотря на толпу, я видел все то же самое, что и годы назад, все повторялось - только немного изменился внешний вид.
Когда я вечером вернулся в Харпенден, впервые за неполные шесть лет в его окнах горел свет.
Обоим моим родителям тогда стукнуло за восемьдесят, но в то время как отец (который только однажды серьезно болел, в молодости) стал немощным и не мог ходить далеко, моя мать, которая в молодости всегда болела из-за нервов и провела много времени в постели, оставалась столь же энергичной, как шестидесятилетняя женщина. Мой отец всегда курил, выпивал в меру, мама же частенько - сверх меры, и оба они всю жизнь пили огромное количество крепкого чая и кофе и ели, по сегодняшним меркам, слишком много. Оба они сохранили представительный вид; моя мама была красива, здорова и хорошо выглядела. Они знали всех в городе и все их любили. Родители дожили до счастливого преклонного возраста, насколько это возможно в нашем мире, и я часто думаю: как хорошо родиться у таких родителей, несмотря на их недостатки и ограничения методизма.
Для них я всегда оставался маленьким «чудаком», отчасти белой вороной. Мой отец никогда не мог понять, почему я не закрепился в бизнесе по обработке тканей и не стал управляющим магазином, а мама, которая меня очень любила, чувствовала, что я не принадлежу их миру. Я предлагал ей прокатить ее на своей машине, которую забрал с хранения, но она всегда отказывалась, пока однажды я не спросил: «Почему ты не разрешаешь мне тебя отвезти? Ты разрешаешь остальным трем (моим братьям), но они ездили только в Англии, а я изъездил всю Европу и Америку. Почему?»
«Ну, - задумчиво ответила она, - ты сильно отличаешься от остальных, не так ли?»
Отличался отчасти тем, что тогда как мой отец и братья интересовались только делами, бизнес привлекал меня меньше всего; и только потому, что нужно было зарабатывать деньги на повседневные нужды. Основная тема их разговоров - бизнес - отводила мне скромную роль слушателя, поэтому я часто уезжал в Лондон, где встречался с друзьями из своего мира, с которыми мог обмениваться мыслями об искусстве, литературе и повседневных делах.
Одним из первых, с кем я увиделся, стал мой старый друг профессор Дени Сора. Он заговорил о Гюрджиеве, рассказал о своем желании снова с ним встретиться и спросил, могу ли я это устроить. Позже я несколько раз пытался, но подходящие обстоятельства никак не складывались и они никогда больше не встречались. Сора в то время работал над книгой об оккультной традиции в английской литературе, используя слово «оккультный» в его настоящем смысле - «скрытый».
Особенно это влияние заметно у Спенсера. В одной из строф Королевы Фей есть даже частичное описание энеаграммы:
В его основе круг заметен
И треугольник. Чудо! Боже мой!
Вот их различья: первый смертен
Несовершенный, женский; а другой
Бессмертный, совершенный и мужской:
Обоим им – квадрат основа
На семь и девять делят круг собой:
Девятка в круг, где небо. И готова
Картина - суть явления любого[1].
Сора проследил традицию от Чосера до Милтона и Блейка. Шекспир (или тот, кто написал пьесы) был глубоко связан с традицией; можно просмотреть пьесы с помощью определенного эталона и обнаружить небольшие отрывки, написанные Умом Мастера, слова, которые иногда вложены в уста жуликов и глупцов, клоунов. Оккультная традиция в литературе была чрезвычайно сильна во времена Елизаветы. После Блейка, за исключением отдельных намеков, она исчезает из литературы (хотя книги «об этом» продолжают писать) до публикации Горы Аналог, принадлежавшего эзотерической традиции Рене Домаля.
Сора показывал мне рукописи еще нескольких книг, над которыми он работал, и которые в итоге опубликовали - Конец страха, Боги и люди и Христос Шартра, они также принадлежали оккультной традиции. В то время он был главой Французского Института в Лондоне, но его сместил пришедший к власти де Голь из-за несогласия с Сора по некоторым вопросам.
Дени Сора, как и Орейдж, был необычным человеком в Гюрджиевском смысле этого слова; вместо личности он обладал индивидуальностью и, благодаря ресурсам собственного разума, действовал самостоятельно.
Как только схлынул массовый психоз после капитуляции Германии, и жизнь стала менее ненормальной, я начал пытаться попасть в Париж, но для тех, у кого не было там определенного дела, это было невозможно. До нас доходили смутные слухи, что Гюрджиев уехал в сельскую местность, а де Гартманны исчезли. Потом мне из Америки написала моя жена, что Гюрджиев вернулся в Париж, а де Гартманны живут в своем доме в Гарше, дальнем пригороде Парижа. Хотя посылать деньги во Францию запрещалось, я организовал контрабандную переправку Гюрджиеву некоторой суммы с помощью приятного русского друга, я связался с Гартманнами, и моя жена отправила им из Америки посылку с едой. Они предложили навестить их, и как только я смог предъявить паспортной службе достаточные основания для получения визы я отправился в Париж, в полночь на Гар дю-Норд меня встречали де Гартманны. Встреча с «Фомой», которого я любил так же как Орейджа, которого не видел и даже не получал новостей долгих шесть лет, переполнила меня радостью. Три дня мы только и делали, что разговаривали – о нашей жизни в Америке с Успенскими и Френком Ллойдом Райтом, о жизни Гартманнов во Франции во время оккупации.
К Гартманнам в Гарш повидаться с нами приходила Мадам де Зальцманн, и я рассказал ей все, что происходило в Америке, о чете Райтов, об Успенских и о группе Орейджа. Они сказала, что я не должен отдалятся от Мадам Успенской, «замечательной женщины». Они были правы; нужно было действовать более разумно, более адекватно, не поддаваясь чувствам. Я осознавал, как часто в своей жизни я порчу отношения с людьми, реагируя под воздействием задетых чувств.
Они рассказали мне, что Гюрджиев все так же живет в своей квартире на Рю де Колонель Ренар, все так же произносит тосты за различные категории «идиотов». Мадам Зальцманн привела ему много новых учеников вскоре после начала войны, всех - французов. Из этого ядра потом разрослась большая французская группа, в итоге став главной, основным центром изучения и практики учения Гюрджиева; эта последняя большая группа, сформировавшаяся вокруг Гюрджиева, стала первой по важности; вторая из собранных когда-то - американская группа, которая поддерживала Гюрджиева почти двадцать лет, стала следующей; русские и англичане Успенского в Лондоне, когда-то игравшие ведущую роль, стали третьими.
Я предполагал, что смогу найти Гюрджиева как обычно в его «офисе», в Кафе де ля Пэ, два или три раза я заходил туда в обычное время его появления, сидел, ждал и пил кофе, но безрезультатно. Наконец я пошел к нему на квартиру, поднялся по знакомым темным ступеням и позвонил, раздался пронзительный звонок. Дверь открыл он сам. Некоторое время он смотрел на меня, а затем произнес: «О! Входите».
Вначале я поразился, взглянув в его глаза – глубокое сострадание и печаль. Он угостил меня кофе в своей маленькой кладовке, мы разговаривали об Америке и моей семье, когда он сказал, что кое-кого ожидает, но можно вернуться на обед в половине первого, если у меня есть свободное время. Будто с тех пор, как я видел его в последний раз, прошло не шесть лет, а шесть недель, и ничего не изменилось. И все же изменилось все; изменились мы, изменился мир – и, в основном, к худшему.
Когда я вернулся, дверь мне открыл бегло говоривший по-английски молодой француз. Мы обедали втроем. Гюрджиев поручил мне произносить тосты за идиотов, но я забыл правильный порядок, и этим занялся молодой француз. Когда он дошел до «безнадежного» Гюрджиев спросил меня: «А вы какой идиот?» Я подумал: возможно, мой «идиот» изменился, и захотел узнать его мнение, поэтому ответил: «Теперь я не знаю».
«Но вы должны знать. Человек должен знать самого себя. За это время вы должны бы узнать!»
«Я не знаю, - сказал я. - Вы должны сказать мне».
«Я не скажу. Скажите сами».
«Итак, - сказал я, - я был «безнадежным».
«Да. Вы настоящий безнадежный идиот. Но вы по-прежнему знаете, каким вы хотели бы быть: объективным или субъективным?»
«Я знаю, что очень не хочу быть объективным безнадежным идиотом».
Таким образом, другой гость провозгласил тост: «За здоровье всех безнадежных идиотов, объективных и субъективных. Так сказать за тех, кто или является кандидатом на достойную смерть или кому суждено погибнуть как собаке. Тот, кто работает над собой, умрет как человек; кто не работает - погибнет как собака».
Я рассказал Гюрджиеву события последних лет в Америке, о старой группе Орейджа и об Успенских, о чете Райтов. Он внимательно слушал, но как только я начал обиженным тоном говорить о случае с Успенскими, резко отрезал: «Все это уже кончилось, все в прошлом. Теперь нужно начать что-то новое». Он начал говорить о чем-то еще, и мы продолжили разговор.
Его квартира была полна света и жизни, позитивных вибраций Гюрджиева и годами работавших с ним учеников, поэтому я уходил оттуда воодушевленный и глубоко удовлетворенный, но в то же время сильно переживал, осознавая, кем я был, и кем должен быть - громадное расстояние между знанием и бытием Гюрджиева, его уровнем внутреннего развития и моим. Если бы я был объективным безнадежным идиотом, я бы сказал: «Какой от всего этого прок? Я никогда не достигну такого же уровня, как Гюрджиев». Я бы забросил работу, или, возможно, пересмотрел бы свое отношение и заявил, что теперь могу работать сам по себе – чего я не мог делать; но, будучи «субъективным безнадежным идиотом», я осознавал безнадежность попыток достигнуть настоящего и постоянного внутреннего покоя с помощью рецептов обычной жизни; я видел свою пустоту, не-существование, ничтожность – и мою собственную значимость, я заработал определенный уровень «сознательной надежды», «сознательной веры» и осознал необходимость связи с группой и Учителем.
На Париж опустилась жара, несколько дней она была столь сильной, что сказалась на моем здоровье, я не смог пойти к Гюрджиеву. Гарш располагается на холме, где жару можно было переносить; но внизу, в городе, было даже хуже, чем в жаркой атмосфере Нью-Йорка. Днем я на улицу не выходил, слушая, как Гартманн сочиняет новую оперу Эстер или играет отрывки, сочиненные во время войны. Его музыка не носила следов влияния Гюрджиева; казалось, он совершил усилие сочинять всецело собственную музыку. Как и Орейдж, благодаря внутреннему нечто проработавший часть своего рока с помощью Нью Инглиш Викли, так и Гартман следовал своим путем через музыку. Вопрос о том, были бы их литература или музыка лучше, если бы они оставались в контакте с Гюрджиевым, даже не стоит рассматривать – они шли своим собственным путем. На Четвертом Пути каждый по-своему должен испытать во внешней жизни то, чему он научился от учителя, что я и пытался делать по мере своих сил. Хотя ни Гартманн, ни Орейдж больше не видели Гюрджиева, уйдя от него, чтобы встать на свои собственные ноги, вся их внутренняя жизнь до конца земного существования была пронизана сущностью его учения и его влияния; то же самое можно сказать и о д-ре Стрьернвале и Александре де Зальцманне.
Когда жара спала, я снова отправился на квартиру к Гюрджиеву, и он спросил: «Почему вы не приходили? Где вы были?»
Понемногу я узнал кое-что о том, чем он занимался во время войны. Мадам де Зальцманн привела ему много учеников. С ними он начал новую группу, интенсивно работал, научил их новым движениям в концертном зале Плейель. Эти движения отличались от танцев, которые показывали на демонстрациях в Париже и Нью-Йорке, которым учились мы; действительно, скорее движения, чем танцы - некоторые очень замысловатые, красивые, впечатляющие. Многие основывались на энеаграмме. Когда я увидел движения и услышал ответы Гюрджиева на вопросы учеников во время трапез, я осознал сильнее, чем когда-либо, его силу как учителя. После почти двадцатилетней работы в Париже с русскими, английскими и американскими учениками, не произведя видимого впечатления на французов, он воспользовался случайно подвернувшимся новым материалом и создал нечто жизненное, пригодное для работы с этими молодыми французами, которые с течением времени, как я уже говорил, стали главной из трех основных Гюрджиевских групп.
Я заговорил с Гюрджиевым о том, чтобы поселиться в Париже и работать с его группой. Он согласился. «Но ваша семья? - спросил он. - Они в Америке. Вы привезли их сюда? У вас есть здесь дело?»
Я ответил, что не вижу пока способа привезти их в Париж.
«Забота в первую очередь – о семье, - сказал он. – Возможно, вы начнете группу в Лондоне». Еще было долго до того, когда я смог вести группы.
Я вернулся в Англию и продолжил работу маляра на фабрике. Жизнь, по большому счету, находилась в хаосе; мы походили на муравьев, деловито занятых попытками построить новый муравейник из развалин старого. Что касается «идей», я был полностью вне контактов с людьми Успенского из Лэйн Плейс и знал только двух интересующихся идеями людей в Лондоне, так что занялся тем, чтобы обосноваться и привезти семью из Америки.
Пока же я продолжил читать Махабхарату и Рассказы Вельзевула. Когда я думал о работающих в соответствии с законом гигантских слепых силах, которые все время пытались сделать нас более механичными, я приходил в ужас. Тем не менее, когда спросили Иисуса: если так трудно спастись для избранных, что случиться с остальными, он ответил что для Бога все возможно.
Относительно упражнений, которые Гюрджиев давал нам время от времени. Хотя я выполнял их регулярно каждый день, наиболее сложные с 1930 года, они никогда не становились легче. Одно из упражнений похоже на кое-что, рассказанное в Тайне Золотого Цветка. Упражнения, так же как движения и танцы, нужно выполнять так, как они составлены; они основаны на фундаментальных принципах тысячелетней давности, и будучи таковыми, никогда не становятся легкими. Человек должен мобилизовать всю свою силу концентрации, чтобы держать на расстоянии дьявола случайных ассоциаций. Постоянное день за днем, год за годом, выполнение упражнений, давало внутреннюю силу, волю, внимание, силу концентрации, понимание себя и других; это постройка здания на камне учения, который существует испокон веков и вечно, взамен зыбучих песков обычного неустойчивого внешнего существования.
Так же как виртуозный пианист проводит каждый день часть времени за пианино, так же и в этой работе человек должен проводить часть дня в упражнениях и размышлениях, иначе он снова уснет. Вместе с тем, существуют периоды более сильных, более интенсивных усилий, и периоды полезного отдыха. Необходимо также уделять время удовлетворению нужд организма «обеспечивать все действительно необходимое для планетарного тела», для этой оболочки, в которой мы существуем – для нужд, а не для удовольствий, поскольку наш организм это просто инструмент, с которым мы должны работать. Без этого организма у нас нет зрения, слуха, вкуса, чувств и мыслей - только то маленькое нечто, что является настоящим в нас, что может продолжать существовать и содержит результаты настоящей работы над собой, наши возможности – то самое нечто, наша «настоящая самость», которая может получить другое тело, воплотиться, и которая снова будет платить за свое появление, очищать себя от оставшихся нежелательных элементов, платить за неискупленные грехи своих прежних тел.
Итак, часть каждого дня я отводил упражнениями и размышлениями, часть - чтению Рассказов Вельзевула и Махабхараты, а большую часть проводил на фабрике, окрашивая материалы, чтобы заработать на нужды моего организма, и организмов моей семьи в Америке.
______________________________________________________________________________
[1] Здесь приводится строфа из IX главы II книги «Королевы Фей», рассказывающей о Доме Умеренности, в котором живет благоразумная Альма. Он, здесь, - замок.
Дорсет. Окрашивая корзины
Когда я гостил у друзей недалеко от Корфи Касла в Дорсете, произошло одно событие: благодаря случайной реплике, которая привела к серии событий, я стал владельцем земли – трехакрового[1] поля на южном склоне холма чуть ниже Корфи Касла; одного из самых замечательных полей, какие я когда-либо видел. С вершины уклона вдоль дорожки, укрытой изгородью из яркого кустарника, в десяти милях поодаль видны башни пяти деревенских церквей. В нижнем конце поля в зарослях колокольчиков прячется источник. Пятнадцатиминутная прогулка приведет вас на вершину холма, где открывается один из самых замечательных видов в Англии; в одной стороне весь Пул Харбор и земли вокруг него до Бэдбери Рингс, в другой - открытое море. И ни звука вокруг, кроме шума ветра в траве и песни жаворонка. На самом верху возвышаются три кургана, могилы умерших три тысячи лет назад людей, как мне говорили.
Я не знал, что делать с полем. Его годами обрабатывал фермер, он выращивал здесь зерно с обилием искусственных удобрений, поэтому, поскольку я знал о хороших результатах ведения хозяйства без химических удобрений на ферме школы Патни, о вреде от их переизбытка и только что прочитал Безумие пахаря американского фермера, я решился на эксперимент. Я обработал землю, засеял ее смесью трав без применения удобрений, затем перепахал урожай, снова засеял и оставил расти траву. В результате фермерские коровы с соседнего поля, почувствовав приятный вкус органически выращенной травы, постепенно проломились через изгородь и паслись на моей траве, а когда я пожаловался фермеру, которого называли «джентльменом», тот злобно мне ответил: «А чего ты еще ждал? Для коров такой соблазн - поле сочной травы поблизости». Он укрепил изгороди.
Со временем поле и дом, который я построил позже, стали чем-то вроде символа интенсивных усилий, борьбы с самим собой.
Я вернулся в Харпенден. Первым делом нужно было привезти семью из Америки, и с этой целью я начал подыскивать жилье в Лондоне. Я обыскивал Лондон вдоль и поперек шесть месяцев, но домов было недостаточно, а так как люди возвращались жить в Лондон, цены начали расти. Через шесть месяцев, после просмотра пятидесяти или шестидесяти мест, я нашел дом в Челси недалеко от реки и взял его, совместно с моим другом. Проделав в доме много работы, наша семья получила возможность жить здесь в сравнительно комфортных условиях двенадцать лет. Три комнаты, гостиная, кухня и ванная комната за 2 фунта в неделю, включая все платежи. Затем, следующие восемь лет бесплатно, сдавая часть дома. До того времени дольше всего на одном месте, с десятилетнего возраста, я задерживался на три года, и только в двух случаях – я был кочевником, которому «суждено скитаться». Это не «я» выбирал всегда находиться в движении, но что-то во мне; был ли это кочевой инстинкт далеких предков моей арабской бабушки, или планетарные влияния схемы моей жизни, я не знаю.
Жена и младший сын приехали в октябре – старший остался в школе Патни – и с их приездом заполнилась огромная пустота в моей эмоциональной жизни, удовлетворилась глубокая потребность. На несколько дней мы остановились у моих родителей, затем поехали к моим друзьям в сельский дом в Чилтерне, к друзьям в Сент-Джонс Вуд, и, наконец, в дом в Челси. После всех разрывов, разлук, встреч и новых разлук, скитаний, беспорядка, внутренних и внешних страданий, мы снова оказались в Лондоне – все стало по-прежнему, но все изменилось.
Хотя теперь у меня был постоянный дом, у меня не было постоянной работы, и никогда уже больше не появилось. Я решил дать себе задание продолжать жить сущностной жизнью, начатой в Америке, зарабатывать достаточно денег для наших нужд, выполняя только ту работу, которую я по-настоящему хотел делать. Я смог зарабатывать достаточно денег для повседневных нужд и даже владеть автомобилем с помощью собственного дела по окраске корзин в течение следующих трех лет. Понемногу жизнь начала протекать более или менее нормально. Но времена были тяжелые; не хватало продуктов, одежды, любых материалов, человек должен был постоянно использовать всю находчивость, чтобы преодолеть возлагаемые людьми из правительственных офисов ограничения, которые, чтобы сохранить работу, за которую мы им платим, придумывали тысячи ненужных правил и регламентаций – бюрократия. Если бы я подчинялся всем правилам и нормам, то едва ли смог бы содержать семью, но, как и многие другие, используя свои мозги против глупого чиновничества, мог ее довольно хорошо обеспечивать.
Чтобы продавать свои корзины я путешествовал по Лондону, заходил в большие магазины. В одном из таких магазинов я заговорил с одной покупательницей и показал ей образцы, она посмотрела на меня и выбежала из комнаты, взорвавшись судорожным истерическим смехом – из-за моего внешнего вида и манер, я полагаю, которые совсем не соответствовали облику обычного коммивояжера. Ее ассистент оскалился и также вышел, но через несколько минут вернулся с большим заказом, достаточным, чтобы занять меня на несколько недель. Корзины я покупал у производителей в Сомерсете, ивовые корзины делали мужчины и женщины, сидя на полу вместе со своим работодателем и быстро работая руками. В общей сложности я продал тысячу дюжин, а поскольку кроме стоимости проезда до Лутона, целлюлозы и корзин у меня не было других затрат, все шло хорошо; хотя я по-прежнему не мог пересилить свою неприязнь ходить на поклон к покупателям; всегда оставалось привычное автоматическое отторжение, которое я приобрел еще четырнадцатилетним мальчиком в магазине тканей. Однажды я сидел в грязной закусочной в Бэлхэме, боролся с внутренним нежеланием идти еще в один магазин тканей, и сравнивал свою жизнь с приятными деньками в магазине в Нью-Йорке, в Талиесине с четой Райтов, и полезным и практичным временем, проведенным в школе Патни в Вермонте. Колесо повторения снова полностью повернулось, и я вновь подолгу бродил по улицам Лондона с коробкой образцов, принимая заказы у покупателей. В тот холодный зимний день на улице Бэлхам Хай я пал духом; все выглядело так, что я снова пойман обстоятельствами, от которых не мог сбежать. И вот, в тот самый момент, когда все казалось хуже некуда, случилось чудо – я начал наполняться особым светом, настоящей - сознательной - надеждой, и настоящей верой. Вновь я увидел всю жизнь, вновь мне все открылось. Я понял. Я увидел, что эта незначительная внешняя жизнь, которая кажется такой важной, на самом деле – ничто, приходящая вещь, и что единственная реальность – это внутренняя жизнь. Снова время будто остановилось; видение Святого Грааля, проблеск Его Бесконечности, момент настоящей осознанности в этом грязном запущенном окружении, миг, похожий на пережитый среди красоты Талиесина; настоящая связь с высшими центрами. Я сидел там восторгаясь, среди грохота чашек и ложек, бормотания разговоров и шума трамваев, впитывая свое состояние до предела, смакуя его и благодаря Господа. Я не могу описать даже тысячной доли того, что во мне произошло. Блаженный восторг прошел, но воздействие его осталось, и я долго тихо сидел, обдумывая слова Иисуса Христа: «И снова я говорю вам, бдите!»
Час или чуть позже этого события произошло одно из странных совпадений. Я шел по улице, разыскивая определенный магазин, поискав некоторое время, я завернул за угол и увидел выходящего из машины маленького человека, еврея. «Спрошу его, - подумал я, подошел, начал, - не могли бы вы подсказать мне…», - и замер. «О, - воскликнул я, - вы - Метц». «Да, - ответил он, - а вы Чарльз Нотт». Прошло почти двадцать лет с тех пор, как я видел его в последний раз, и это происходило в Приоре, в Фонтенбло, где он провел год. Я даже забыл о его существовании. Вместе мы зашли чего-нибудь выпить, и он начал говорить о Гюрджиеве. «Знаете, - сказал он, - я никогда не забуду того, что для меня сделал Гюрджиев. Когда я приехал в Приоре, я в себя не верил, я едва мог говорить с людьми и не мог получить работу. Он что-то изменил во мне, или он помог мне изменить что-то в самом себе, я не знаю что, но я стал другим, когда покидал Приорэ. Я вернулся в Лондон, занял немного денег и открыл здесь магазин, долг вернул через шесть месяцев. Я женился и теперь у меня есть семья, прекрасный дом и два магазина, я обладаю всем этим благодаря тому, что для меня сделал Гюрджиев. Тем не менее, я никогда его больше не видел и не слышал о нем со дня моего отъезда, даже не встречал никого, кто был бы в работе, до того как я встретил вас этим утром, но я часто думаю о том, что я мог бы сделать для него».
В свою очередь я рассказал ему все, что знаю о Гюрджиеве, все, что произошло со мной и с нашими общими знакомыми по Приорэ, и закончил словами: «Что вы можете сделать для Гюрджиева? Что может сделать любой из нас? Сейчас возможно только одно, мы можем дать ему денег для его работы. По крайней мере, возможно, вы можете; я могу заработать только на содержание семьи».
Он принял эту идею и предложил оплатить мои расходы, если я соглашусь отправиться с ним в Париж. В итоге в Париж мы поехали. Он передал Гюрджиеву деньги, мы провели интересное и полезное время в квартире на Рю де Колонель Ренар.
Одним из результатов опыта в том шумном маленьком кафе в Бэлхеме стало понимание слов Бейка о том, что видел ангела на дереве в Пекхеме.
Некоторые видят ангелов на деревьях в Бэттерси и Челси. И это, безо всякой связи, напоминает мне один случай. Мой сосед на Окли стрит, кроме того, что сдавал комнаты, собирал антиквариат, и однажды обнаружил в антикварном магазине в Челси образ Девы Марии, очень старый и дорогой. Он отдал его местной католической церкви и Папа, услышав об этом, наградил его орденом. Однажды, в магазин сладостей Глэдис, что за углом, зашла женщина. Повернувшись к своему спутнику, она произнесла: «Вы слышали? Папа дал м-ру К. орден. Да. Ведь он обнаружил в Челси девственницу и подарил ее Церкви!»
_______________________________________________________________________________
[1] Около 1,2 га
О некоторых гностиках
Некоторые говорят, что в идеях Гюрджиева нет ничего нового, и в известной степени это правда, поскольку они стары как мир. Действительно, нова только трактовка - она сделала идеи новыми для нас. Когда человек постигает одну истину за другой, он говорит: «Я всегда об этом знал, но до сегодняшнего дня никогда этого не осознавал».
Когда я изучал трудную главу из Рассказов Вельзевула «Закон Гептапарапаршинок», закон октавы, я случайно наткнулся на такие строчки в одном из журналов:
«Дж. А. Р. Ньюландс стал первым человеком современности, кто понял, что химические элементы естественно складываются в семейства и группы. Ньюландс также отметил что, если элементы расположить определенным образом, схожие физические и химические свойства повторяются с интервалом, кратным восьми. Поэтому он назвал это открытие «Закон октав». Позже доработанный другими людьми, в итоге он появился как «Периодическая система», которая подтверждалась громадной практической ценностью и позволяла предсказать существование неизвестных элементов с удивительной точностью.
Коренной лондонец, Ньюландс родился в 1837 году в шотландско-итальянской семье, учился в Королевском химическом колледже. Он сражался на стороне Гарибальди в Италии, но вернулся в Лондон, чтобы практиковать и изучать химию. Позже он преподавал химию в средней школе в Соусворке и других местах, но в итоге стал главным химиком на сахарном заводе в порту Виктории. Хотя его Закон октав высмеяли, когда он впервые продемонстрировал его Химическому Сообществу в 1864 году, время подтвердило его правоту. В 1887 году его наградили Орденом Давида Королевского общества за открытие, которое на протяжении 23 лет не приносило ему ничего, кроме насмешек. Умер он в 1898».
Вместе с законом октав я изучал третье правило объективной морали: узнавать как можно больше о законах Мироздания и Мироподдержания, оно связано с законом октав и законом взаимного питания, с тем, как и для чего создан мир и как он поддерживается, и отношение всего к человеку.
Я прочитал все, что мог достать о взглядах на творение и о трех силах, сделал много заметок. Вот некая случайная подборка, в основном из гностиков.
Некоторые гностики утверждали, что создателем был Отец, другие – Сын, третьи – Змей-искуситель, иные говорили, что творцом была женщина – Пистис София; еще одни считали творцом Сатану или Дьявола – отрицающую или пассивную силу.
Среди греческих племен Приап почитался как «наилучший», создатель; его статуи, с выкрашенными в красный цвет преувеличенными гениталиями, водружались в садах. Повсюду на земле почитание сознательными людьми Бога - Творца мира, и пола как божественной силы, выродилось в поклонение бессознательных людей богам плодородия и сил Природы. Во многих древних религиях можно обнаружить идею Высшего Непознаваемого Существа кто, в основном, разделив себя на мужское и женское начало, порождает Бога - Творца. Ни в одной из них, за исключением существующих среди европейских рационалистов, ученых или коммунистов, нет представлений о том, что вселенная появилось просто благодаря случаю.
По Милтону:
Отец, вначале они пели, Всемогущий
Неизменный, Вечный, Бесконечный
Бессмертный Король! Ты, Создатель всего Сущего
Источник света, невидимый сам…
Он тоже говорит о Непостижимом Господе и его Сыне – Боге - Творце.
Некоторые из рассказов гностиков о творении связаны с законом трех. Наасены говорят, что Первопричиной был Человек и Сын Человеческий, который разделился на три части – ментальную, психическую и земную. Они называют его Адамом, и говорят, что знание о нем - начало возможности познания Бога. Три части соединились в Иисусе, совершенном человеке. Это знание, утверждают они, было передано Иаковым, братом Иисуса, сыном Марии.
Сетиане утверждали, что во вселенной существует три отдельных принципа, каждый из них обладает неограниченной силой. Все, что мы воспринимаем или не воспринимаем, создано в соответствии с каждым из этих принципов. Сущность принципов - свет и тьма; между светом сверху и тьмой внизу находится чистый дух, похожий на благоухание бальзама или ладана, он пронизывает все. Тьма, разумная, представляющая собой внушающую ужас воду, знает, что если убрать свет, она останется одинокой и неподвижной; поэтому тьма старается любым способом удержать в себе сияние Света и Благоухание Духа. Все сотворено этими тремя силами. Сетиане верили, что от первого слияния сил, принципов, появился образ или символ небес и земли в виде лона; затем появились образы всего, и так сотворено было все остальное.
Докеты учат, что три принципа или три силы происходят от Первого Принципа, а они создают все остальное. Но Первый принцип, Бог, пребывает сам по себе.
Эти три силы дали начало Единородному Сыну. Он был мудрее и лучше, чем Отец. (Аналогично Вельзевул говорил, что Рахурх, «результат» Горнахура Хархарха был лучше, чем «причина»).
Маркион говорит, что существует две силы: Любовь и Раздор. Раздор разделяет вещи, Любовь их связывает. Третья сила происходит от этих двух.
Манихейцы рассматривали нашу планету как худший из всех возможных миров. Некоторые говорили что вселенная, созданная отрицающей силой, зла и, следовательно, любое творение - зло, кое-кто доводил все до буквального, логического завершения, отвергая брак и детей, кастрировали себя.
Многие идеи ранних учений похожи на идеи Рассказов Вельзевула: идея о Чутбогглитаническом периоде, о нашем Единотяжестьнесущем Бесконечном, страдающем Создателе, и возможности для нас научиться нести маленькую часть вселенского страдания, чтобы облегчить Его Бесконечности часть Его ноши.
В связи с этим, Гюрджиев однажды признался Элизабет Гордон, находившейся рядом с ним с 1932 года до своей смерти в 1946, что он совершил ошибку. Он продолжил, что даже Бог сделал ошибку, одну большую ошибку. Мисс Гордон ответила, что думает, что Бог сделал все необходимое, чтобы нейтрализовать действие Безжалостного Геропасса – «Времени, которое изнашивает любую живую вещь». Гюрджиев сказал: «Да, все, кроме одного; он сделал зонт, тогда как ему нужно было сделать клизму, и теперь он идиот, так же как и все остальные, сел в галошу». Бессмысленное на первый взгляд высказывание озадачило меня; только спустя много лет я начал понимать замечательную точность этого иносказания.
Валентин утверждал, что надо всем пребывает Отец, от него произошел Демиург - Творец, а от Демиурга произошли как зло, так и добро. Христос пришел от этой Божественной Полноты чтобы спасти Дух, который сбился с пути, дух, запрятанный глубоко внутри нас. Дух был спасен, но плоть уничтожена. Он также говорил, что у нас наихудшая и наиболее поздно появившаяся планета.
Существует точка зрения, что практически с самого начала творения что-то пошло не так, что-то непредвиденное проникло в растущую вселенную – что-то нежелательное, что-то злое. Гюрджиев называл это Чутбогглитаническим периодом, эти три слова отражают его сущность. Очевидно, он происходил на нашей планете до появления Кундабуфера.
Гностик Карпократ учил, что мы должны отработать все наши грехи, но можно оплатить или отработать много грехов сразу сознательными усилиями, и так сократить годы нашего изгнания в этом низшем мире.
Стоики, как и Кришна, учили, что человек должен исполнить то, что ему предназначено; даже если он не желает подчиняться происходящему, он вынужден сделать то, что суждено. Сознательный человек может, до определенной степени, выбирать; несознательный человек не может.
Идея взаимного питания всегда была известна в эзотерических и даже оккультных школах.
Роберт Фладд, алхимик семнадцатого века, говорил:
Знайте, все, что создано нуждается
В удовлетворении и питании: вот основы,
Более грубое питает более тонкое; земля - море,
Земля и море питают воздух; воздух – эти огни
Неземные; вначале низший - Луну;
Отсюда эти грязные пятна, окружающие ее лик
Испарения, еще не обращенные в ее субстанцию.
Не будет Луны, не будет питательных испарений
От ее сырого континента высшим сферам.
Солнце, чей свет наделяет всех, получает
Питательное восполнение
От влажных испарений, и без остатка
Выпивает Океан.
С этим связана и идея, что человек полезен и помогает Богу, что Богу нужна определенная помощь от человека. Хассин в Рассказах Вельзевула говорит о «днях помощи Господу».
Силезиус писал:
Я знаю, без меня
Господь наш пресвятой
Не сможет жить и дня
Испустит дух со мной.
Не сможет без меня
Он мухи сотворить.
Мир должен с ним и я
От гибели хранить.
Гюрджиев в Рассказах Вельзевула рассказывает, что в начале, когда Его Бесконечность решил создать вселенную, он создал ее действием чистой воли, сознательно; но после появления второго порядка солнц творение, согласно закону октав, стало отчасти автоматическим; когда великая нота «до» нисходит вниз по шкале, творение становиться все более автоматичным, или механичным, пока не достигает, в нашем луче, Солнца и Земли. Сознательная положительная активная сила, берущая начало на Солнце Абсолюте становится, проходя вниз по октаве, на нашей планете отрицательной, пассивной силой – дьяволом, Сатаной. (В Библии о Сатане говориться как о Сыне Господа. Сын - отрицающая сила).
Поскольку все творение исходит от Бога – все есть Бог. Господь - это Мегалокосмос, и, спускаясь вниз согласно закону октав, Бог становиться дьяволом.
В человеке есть эманации, излучения Солнца Абсолюта и других солнц и планет, поэтому они должны бороться против отрицательной силы, нисхождения, инволюции октавы, и стараться помочь утвердить эволюционную силу, подняться против этого потока, против Господа в таком обличии, чтобы когда-нибудь достичь единения с Богом.
Идея о двух Богах часто упоминается в отрывках гностиков – о Неописуемом и о Благочестивом и Страдающем Создателе. А также падение человека и путь его возрождения; Луч Творения; законы Трех и Семи; идея, что нечто нежелательное вмешалось в наше творение; что мы должны расплатиться за наши грехи, вольные и невольные; идея практического метода само-совершенствовани. Они также говорят о «Мировой Музыке». Все эти представления в деталях развиты в Рассказах Вельзевула.
Идея Добра и Зла проходит через все религии и настоящие учения.
Согласно иудеям, дерево познания добра и зла олицетворяет универсальное понимание всех вещей – плохих и хороших. Нашим далеким предкам, практически первым существам, не разрешалось приобретать это понимание.
В одном из учений гностиков говориться, что Христос пришел освободить мир от проникшего в него зла, Христос был Методом само-совершенствования. Христос вселился в Иисуса при крещении. Он понял, что он должен сделать – для чего он был послан свыше. В учении гностиков есть замечательные стихи – «Гимн Покрова Славы» и «Гностическое распятие».
Учение гностиков понимали и применяли ранние христиане, но около 170 года н.э. «отцы» церкви объявили гностиков еретиками и отделили от церкви.
Некоторые современные писатели не понимают внутреннего учения гностиков, жалуясь на «фантастические» понятия и идеи; но они, несомненно, не более фантастические, чем взгляды Отцов организованной церкви о Рае, Чистилище и Аде.
Фрагменты учения гностиков сохранились благодаря случайности, когда несчастье обернулось удачей. Их высказывания, как говорят, собрал св. Ипполит – он «влачил существование», или, как тогда называли, «процветал», спустя 200 лет после смерти Иисуса Христа. Этот Ипполит присоединился к небольшой христианской церкви и стяжал власти, жаждал стать Папой; но у него был соперник, Калликст, и он также хотел им стать. Их частые шумные ссоры становились причиной беспорядков на улицах Рима, и в итоге власти сослали обоих в соляные копи на Сардинию. Когда позже им позволили вернуться, Ипполит провозгласил себя патриархом римской клики, Калликст – греческой. Чтобы упрочить свое положение, Ипполит, собрал, что смог, из различных гностиков и других учений и составил из них книгу под названием Философумения – опровержение всех ересей. К ереси он отнес не только греческие, иудейские и египетские учения, но и Калликста, называя его антихристом и богохульником. Практически все письменные источники учения гностиков «Отцами церкви» уничтожили. Сохранились только опровержения Ипполита и еще несколько фрагментов писаний.
Изображение Калликста стало символом кладбища в Риме, до сих пор носящего его имя. Так как они подвергались гонениям со стороны властей, после смерти Калликста и Ипполита признали мучениками и позже канонизировали как святых.
Это благодаря св. Ипполиту я разгадал головоломку, долго ставившую меня в тупик: почему последователи Пифагора отказывались есть бобы? Потому, говорит он, что кандидатов на государственную службу избирали, сажая на еду из бобов; потом, как и в наши дни, как только людей выбирали судьями, власть кружила им головы; они становились продажными и даже временно или постоянно теряли разум, рассматривая все только со своей точки зрения. Пифагорейцы, которые старались прожить жизнь согласно здравому смыслу и нормальной логике не хотели иметь с ними ничего общего; и, отказываясь есть бобы, они постоянно напоминали себе, что они не должны отождествляться с обычной жизнью.
Также Св. Ипполит указывает на сходство растущих бобов с человеческими половыми органами. В целом бобы, особенно растущие на цветоножке стручки, напоминающие мужские органы в различных стадиях возбуждения; а сами созревшие бобы - женские. Он утверждает также, что если бобы пережевать и оставить на солнце, их запах будет напоминать запах человеческой спермы.
Постройка дома
В это время я начал осознавать, что нет необходимости отождествляться и становиться рабом любого дела или обстоятельств. Как будто что-то во мне изменилось, борьба и страдания прошедших двадцати лет начали приносить плоды. Я почувствовал новую и растущую свободу – внутреннею и внешнюю свободу. Я оставался далек от достижения совершенства или высшего сознания, но что-то произошло и нужны были какие-то особенные усилия, чтобы перенести меня в следующую октаву.
После длительных раздумий в моем уме начал проявляться план, который мог быть отголоском грядущих событий. Я решил построить дом на моем трехакровом поле возле Корфи Касл. С тех пор, как я в четырнадцать лет проводил выходные в Свонэйдже, Дорсет всегда сильно меня привлекал, особенно позже, когда я – юнец, учился вести хозяйство возле Уинтерборн Уайтчерч, где жил вместе с фермером и его работниками. Автобусы там в то время еще не появились, а дорога в долину Свонэйджа не существовала, машин было очень мало. Люди все еще ездили на рынок в повозке с «возчиком» (извозчиком) или в фургоне. Графства Англии до сих пор обладают собственной сущностью, личностью и индивидуальностью, свом собственным акцентом, обычаями и манерой одеваться. Дорсет все еще был пропитан вибрациями и атмосферой древних цивилизаций Друидов и более поздних монастырей, уже давно исчезнувших. Его сосед, Уайлтшир, похож на удаленный от моря Дорсет.
Даже когда я был молод и ничего не знал, прогуливаясь в определенных местах между холмами, я чувствовал это древнее влияние. Я, выросший во тьме образования девятнадцатого века, как и все верил, что древние бритты были варварами, которые раскрашивали себя синей краской вайда, а жестокие и суеверные жрецы - друиды, приносили жертвы и сжигали в клетях людей; и только после прихода римлян, дикари приобщились к благам цивилизации. Но почти всегда историческая правда противоположна тому, чему учит общедоступное образование. Религия друидов была в своих основах гораздо возвышеннее, чем римская, а их ненаписанная литература гораздо богаче. Позднее, когда их религия деградировала, друиды возможно и сжигали людей, принося жертвы богам плодородия. Но даже если и так, то настолько больше жертв приносили своему Богу христиане; пятнадцать веков они тысячами мучили и сжигали еретиков, достигнув апогея принеся в жертву шесть миллионов «еретиков» в течение шести лет богам Германии. Ни один язычник или языческий народ не могут с этим сравниться. Конечно же, у них не было таких возможностей, у них не было замечательного оружия и химии, убивающих людей. Даже римляне убивали друг друга собственными руками, - долгий и утомительный способ, - а сейчас два человека могут убить тысячу за несколько мгновений. В нашем замечательном мире, кажется, почитается за наивысшие достижения цивилизации наибольшее число людей, которых можно уничтожить в кратчайшее время с наименьшими возможными усилиями.
Итак, моя жена случайно получила хорошую и интересную работу в школе Хэнфорд в Дорсете, в пятнадцати милях от моего участка среди холмов. (Этот старый особняк хорошо описан в Лисице на чердаке Ричарда Хьюгса). Поэтому мы решили уехать из Челси и построить дом на нашей земле около Корфи Касла, я хотел завести небольшое хозяйство, а он преподавать музыку. Денег у нас не было, кроме небольшого дохода, обеспечивающего нам проживание, еду и обслуживание старенького автомобиля; чрезвычайно сложно и зачастую просто невозможно было получить разрешение Лейбористского правительства на постройку частного дома. Построить подходящий дом без денег и в то же время придерживаться всех правил и сопутствующих законов было непростой задачей. Предприятие выглядело безнадежным. Оставался только один способ – поставить себе задачу построить лучший послевоенный дом в Дорсете.
Труднейшие согласования по получению разрешения на начало строительства заняли почти год, официальное «нет» стало привычным для любой просьбы.
Пока строился дом, я жил в крохотной лачуге, десять на двенадцать футов, которую я соорудил около источника, в приятном, тихом, укромном месте; время от времени я уезжал в Лондон на неделю или около того.
Рабочей силы и финансов не хватало, но я сумел занять достаточно денег для начала, а когда возвели стены, ипотечная компания дала ссуду. Я нанял строителей, местного каменщика и подсобного рабочего в помощники, а также работал сам. Камень доставляли из каменоломен в Лэнгтон Мэтреверс, а дранку для крыши из Орегона, поскольку в округе не было кровельщика, ее я крепил самостоятельно. Я хотел построить самый лучший и современный дом в Дорсете и черпал свежие идеи, обсуждая его с городскими проектировщиками, посещая строительный центр в Лондоне, читая буклеты и книги. Тем не менее, возникали разнообразные затруднения и разочарования. Строительство заняло три года и обошлось в 2000₤, хотя местные строители говорили мне, что необходимо 4000₤. Получился практически совершенный дом.
Через год после начала строительства, когда дом был наполовину готов, заболела моя жена и, оставив свою работу, вернулась в Челси. Некоторое время она не могла работать, я тоже вернулся в Челси, и вскоре понял, что мы никогда не сможем заработать достаточно денег для жизни в Корфи Касл. Несколько раз мне делали хорошие предложения за недостроенный дом и землю, проще говоря, практичнее и выгоднее было бы выбрать одно из предложений и сдаться, но в жизни я так часто выбирал легкий путь и сворачивал с намеченного курса; теперь я твердо решил принять трудное задачу и довести ее до конца.
Физические и психологические трудности росли. Все происходило как тогда, когда моей задачей было найти в Приорэ источник, я рассказывал об этом в Учении Гюрджиева; и даже еще труднее, поскольку меня не подгонял Гюрджиев. Но теперь у меня было больше внутренней силы, и я мог преодолевать сопротивление своей отрицающей силы – приступов тяжелого уныния, разочарований и безнадежности. У меня было сознательное желание и, как говорил Гюрджиев, «с сознательным желанием все возможно».
Когда я прибил на крышу последний из десяти тысяч кусков дранки, я получил готовую комнату наверху, где я и жил, готовя себе еду на примусе. Однажды, холодным утром в конце декабря я проснулся, и увидел красивую и пустынную округу, запорошенную снегом; то, что мне было нужно, чтобы покончить с затянувшимся тяжелым унынием. Я оделся и начал готовить чай посреди расположившейся на полу кухонной утвари, и, наклонившись, обнаружил, что повторяю за св. Терезой: «Бог гуляет среди горшков и котлов»; как только я это произнес, свет наполнил все мое существо, мое уныние испарилось. Я сел и позволил свету струиться сквозь меня, и хотя я осознавал все, что меня окружало, время снова словно остановилось. Снова это было нечто большее, чем состояние самовоспоминания – мгновения объективной сознательности. Я неподвижно сидел и чувствовал, как меня наполняет сила, я понял значение слов Гюрджиева из главы о Чистилище в Рассказах Вельзевула: «Трехмозгные существа, достигшие уже большей осознанности, всегда для реализации таких своих мечтаний (само-воспоминания) во время своего обычного существенского существования охотно и даже с радостью предоставляют для своего наличия те неприятности, которые происходят от допускаемых лишений для их планетарного тела, потому что такие существа уже хорошо понимают и инстинктивно ощущают, что это низшее существенское тело в их собственном священном космическом законе Триамазикамно является непременным источником для известного рода отрицательных выявлений и, как таковое, конечно, всегда должно и будет выявлять только отрицательное для своей положительной части, т.е. выявление этой их низшей части должное быть обязательно всегда противоположно тому, что требуется для их высшей существенской части»[1].
Слова становились реальностью – я осознал объективную истину. Возможно, весь процесс постройки дома был организован только для этого осознания, которое я с самого начала инстинктивно предчувствовал. Оно стало кристаллизованной истиной. Воздействие этого переживания отчетливо сохранялось все утро; а когда благодать прошла, я снова взялся за свою задачу с возродившейся верой и надеждой.
_________________________________________________________________________________
[1] По Г.И. Гюрджиев. Рассказы Вельзевула своему внуку, Санкт-Петербург, Издательство журнала "Звезда», 2001г., стр. 797-798
Гюрджиев в Париже. Группы
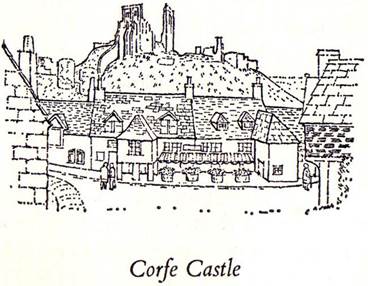
В начале 1949 года я услышал о возвращении Успенского в Англию. Была организована встреча, и он потряс своих учеников, сказав, что никогда не учил системе и что они должны начинать все сначала. Может быть, он осознал, что никогда не учил методу. Он, конечно, учил тому, что называл системой, и его старшие ученики хорошо в ней разбирались, но он не обучал методу внутреннего развития через самоощущение, самовоспоминание и самонаблюдение: сознательному труду и добровольному страданию, пяти устремлениям объективной морали, - основам внутренней работы.
Успенский вернулся из Америки больным умирающим человеком. Мадам Успенская осталась в Нью-Джерси и продолжила руководить работой на Франклин Фармс.
Напрямую новости об Успенском я получил только от де Гартманнов, после войны они останавливались у нас в Лондоне несколько раз. Они посетили Успенского, и рассказывали потом, что он очень злиться на меня, потому что я сказал, что его ученики застряли, и что единственной надеждой для них была встреча с Гюрджиевым и чтение Рассказов Вельзевула; Успенский передал мне просьбу не говорить ни с кем из его учеников. В любом случае они избегали меня, даже если я где-нибудь случайно кого-нибудь из них встречал.
Затем, однажды, я прочел в газете о его смерти, и меня охватило глубокое чувство жалости, я сожалел, что у меня не было возможности общаться с ним. Успенский был хорошим человеком и помог сотням людей. Его отношение к идеям было одним из самых достоверных, и доказательством тому Фрагменты неизвестного учения, блестящий образец объективного отчета. Но некая его странность заставила отвергнуть Гюрджиева как учителя. Успенский всегда хотел основать религиозную, философскую школу; и он основал очень успешную, с разветвленной структурой в Англии и Америке. Тем не менее, она не принесла ему настоящего «сущностного-удовлетворения». В конце жизни он, кажется, пришел к выводу, что философская школа ему, по существу, не нужна. Может быть он, как и остальные, должен был проработать что-то в схеме своей жизни: философскую школу и все связанные с этим теории, возможно, «в следующий раз» он будет лучше подготовлен для понимания настоящей работы внутреннего Учения.
Ко времени смерти Успенского его вариант учения Гюрджиева в Лондоне изучали около тысячи человек - работали в Лэйн Плейсе и встречались в большом зале на Колет Гарденс. Непосредственных последователей Гюрджиева было около двух сотен в Париже, Нью-Йорке и Лондоне.
Я посетил заупокойную службу по Успенскому в русской церкви в Пимлико, в церкви, с которой связано так много воспоминаний – свадьбы друзей, пасхальные службы, похороны. А теперь эта церковь, чьи камни были пропитаны положительными вибрациями тысяч людей, которые на короткое время заходили туда и получали что-то, не связанное с обычной жизнью, разрушена, а на ее месте соорудили стоянку для колясок с мотором.
После похорон Успенского, около трех недель спустя, я оказался в квартире Гюрджиева в Париже и, к изумлению, увидел там несколько ближайших учеников Успенского, одного из которых я последний раз видел во Франклин Фармс, Нью-Джерси, в день отъезда. Тем не менее, поскольку во всем, что касается Гюрджиева, сталкиваешься с экстраординарными и неожиданными событиями, я не выказал своего удивления, а только подумал: «Как странно, эти люди, которые не разговаривали со мной из-за того, как они считали, что я проигнорировал одно из правил Успенского, сами теперь разговаривают с Гюрджиевым и читают текст Рассказов Вельзевула!» За обедом Гюрджиев объяснил им ритуал науки идиотизма, некоторым были определены категории «идиотов» и мы выпили за их здоровье. После обеда мы набились в гостиную и затихли. Гюрджиев начал играть на небольшой гармонике, двигая одной рукой меха, наигрывая другой медленные мелодии всего из нескольких нот, и столь проникновенное звучание он создавал, что некоторые из учеников Успенского начали плакать. Он затронул их высшие эмоций так, как никогда за все годы их работы.
Гюрджиев постоянно напоминал своим ученикам: «Вы должны чувствовать, чувствовать, ваш ум - это роскошь. Вы должны страдать от угрызений совести в ваших чувствах».
Причиной появления учеников Успенского в квартире Гюрджиева была Мадам Успенская, которая после смерти Успенского посоветовала им всем отправиться к Гюрджиеву. Для них это стало громадным потрясением, после того, как на протяжении многих лет им говорили не иметь никаких дел с Гюрджиевым или его учениками.
В разговоре с некоторыми из них я отметил: «Теперь все мы в одной лодке». Они ответили: «Вы правы».
Две недели спустя, когда я и еще три человек ужинали за Гюрджиевским столом, раздался звонок. Кто-то открыл дверь, вернулся и сказал: «М-р и мс-с Беннет с учениками». Их было около двадцати. Для них приготовили место за столом и принесли ужин, они начали есть. Никто не разговаривал. После некоторого молчания, во время которого Гюрджиев внимательно их рассматривал, он начал рассказывать м-ру Беннету о науке идиотизма, о категориях «идиотов», и назначил его распорядителем тостов в этот раз. Потом Гюрджиев спросил, к какой категории принадлежит он, - он, конечно же, не знал. Гюрджиев сказал ему, и сразу же, как и у любого, кому он давал его «идиота», некоторые из нас удивительно ясно увидели характер м-ра Беннета.
После обеда мы отправились в зал Плейель, чтобы посмотреть, как французская группа выполняет движения. Потом Гюрджиев подозвал м-ра Беннета и его подопечных и каждого поручил одному из французских учеников, которые показали им жесты, позы и движения одного из танцев.
Пояснения к танцам дал позже один из старших учеников, «правая рука» Гюрджиева, чьи объяснения к танцам впервые звучали в Лесли Холле в Нью-Йорке, на первой демонстрации.
Священные танцы и движения всегда играли важную роль в работе настоящих школ. Они выражали неизвестное измерение и приоткрывали то, что спрятано от среднего человека – реальность высшего уровня бытия. Если мы можем перейти от нашего обычного уровня к более высокому, значит, что-то в нас изменилось. Изменения управляются определенными космическими законами, знание этих законов существует и может быть раскрыто. Гюрджиев в своих ранних путешествиях и временных остановках в храмах и монастырях Среднего и Дальнего Востока и Центральной Азии был свидетелем и принимал участие в разнообразных ритуальных танцах и церемониях; он понял, что танцы могут использоваться как язык для выражения знания высшего уровня – космического знания. Это математический, четко выверенный язык. Каждое движение имеет свое место, продолжительность и значение. Их комбинации и последовательность математически рассчитаны. Позы и позиции организованы так, чтобы воспроизводить определенные, заранее рассчитанные эмоции. В движениях могут быть задействованы высшие эмоции и высший ум, зрители могут также участвовать – они могут читать их как рукопись.
В создании этих движений имеет значение каждая деталь, малейший элемент принимается в расчет, ничто не оставляется случаю или воображению. Есть только один возможный жест, поза или ритм, который представляет определенное состояние человека или космоса. Другой жест, поза или движение не будут соответствовать истине – он будет фальшивым. Если допущена малейшая ошибка в композиции движения – танец перестает быть священным, воображение занимает место знания. М-р Гюрджиев, всю свою жизнь преданный приобретению знаний и поиску ответов на вопросы, овладел принципами этих священных танцев, представляющих собой ветвь объективного искусства. Овладев принципами, он смог продемонстрировать истину через движения.
Ученик, уже в самом начале, благодаря высокому уровню устойчивого внимания, необходимого для совершенствования себя в движениях, использует один из особенных способов самопознания и достижения «познания и понимания реальности».
На следующее утро, когда мы с Гюрджиевым пили кофе в кафе де Акасиас, я сказал: «М-р Беннет со своей организацией, все эти ученики, могут стать очень полезными для работы; и, кажется, у них есть деньги».
Гюрджиев лаконично ответил: «Беннет – пустяки. Полезный с точки зрения денег - да. Он приведет мне тысячу учеников, и среди них я выберу, возможно, десять человек».
В этом вся суть всех будущих ассоциаций м-ра Беннета с Гюрджиевым и его учением. Его личные отношения с Гюрджиевым продолжались около полутора лет с перерывами, вплоть до смерти Гюрджиева. Двадцать пять лет назад он жил в Приорэ около двух недель.
Я много раз видел м-ра Беннета и его учеников после, в Кумб Спрингс. Моя жена, с разрешения Гюрджиева, преподала в Кумб несколько танцев; но м-р Беннет вскоре отделился от Гюрджиевской организации и работал сам по себе. Позже Кумб Спрингс на время стал штаб-квартирой Субуда, а затем центром суфизма. В итоге он попал в руки так называемых «разработчиков», которые превратили его в «улей» для растущего населения.
С приходом учеников Успенского, чувствовавших необходимость в более глубоком знании учения, Гюрджиев решил, что пришло время опубликовать Рассказы Вельзевула своему внуку, Все и вся, книгу, которую мы читали в машинописи с 1924 года. М-ра Беннета назначили представителем Гюрджиева в Лондоне, он начал работать над публикацией со статьи в журнале Каждый. «Это прочтут восемь миллионов человек», - сказал он.
«А многие ли откликнуться?» - спросил я.
«Сотни, возможно тысячи».
Я не согласился ни с ним, ни с придуманными им большими и яркими объявлениями.
«Мы хотим добраться до людей на улицах», - сказал он.
«Но работа не для людей с улицы».
«Гюрджиев хочет публикацию», - сказал м-р Беннет.
«Не такую. Не разбрасывайте жемчужин перед свиньями».
В результате публикации статьи было получено восемь писем. Объявления так никогда и не использовали. Неделю или две спустя двоих учеников Успенского назначили представителями Гюрджиева и, после его смерти, они заведовали публикацией Рассказов Вельзевула в Нью-Йорке и Лондоне.
Я разговаривал с Гюрджиевым о появившихся в Лондоне статьях. Он спросил, почему эти люди, которые едва знали его, пишут о нем статьи в Англии? Я сказал, что возможно они думают, что это «новости», и хотят быть к ним причастными.
Присутствующий при этом Френк Пиндер спросил Гюрджиева: «Почему вы публикуете Рассказы Вельзевула сейчас? На каждой странице есть грамматические оплошности, неправильная пунктуация и даже ошибки. Их нужно должным образом отредактировать».
«Книга - совершенный бриллиант, - сказал Гюрджиев. - Нет времени сейчас ее редактировать. Она должна выйти».
«Зачем вообще разрешать им ее публиковать? – спросил Пиндер. - Они только все испортят».
«Они портили гораздо лучшие вещи, - ответил Гюрджиев. - Сегодня публикация необходима».
Таким образом, книгу, над которой Орейдж и его группа работали двадцать лет, собирали деньги для печати, и которую отвергли ученики Успенского, опубликовали усилиями, в основном, тех же самых учеников.
Ученики Успенского, не присоединившиеся к Гюрджиеву, на некоторое время задержались в Лэйн Плейсе; но, в итоге, он был продан и стал лечебницей для умственных инвалидов; Приорэ стало лечебницей, но для инвалидов физических.
Школа Гюрджиева в Лондоне стала теперь по-настоящему деятельной. Полуофициально проводились демонстрации танцев и движений (так называемые «открытые уроки»), а однажды на встречу пришли пять сотен человек, которые смогли насладиться хорошей едой, доставленной на Колет Гарденс, - большой зал, где Успенский проводил свои встречи. Позже в театре Фортюн в Лондоне французская группа провела публичную демонстрацию некоторых танцев. Все места были раскуплены, даже, несмотря на высокую цену.
Колесо сделало полный оборот. Успенский, который вел первые группы в Лондоне, организованные Орейджем, и порвавший с Гюрджиевым, теперь, через своих учеников, стал причиной возобновления настоящей Гюрджиевской работы в Лондоне – источник ее, однако, находился в Париже. Более половины учеников Успенского, которые не пошли к Гюрджиеву, основали свою собственную организацию и начали вести группы по изучению философских идей Успенского, каким-то образом связанных с «экономической наукой», таким образом, продолжая школу философии Успенского, но не Учение Гюрджиева, который, как они говорили, предал систему после Ессентуков; а поскольку они никогда не встречали Гюрджиева, не приезжали в Приорэ или Париж, они, конечно же, знали все. Они напоминали мне о Герцоге Веллингтоне. Когда к нему на одном празднике подошел человек и сказал: «М-р Беллами, я верю», Герцог ответил: «Если вы верите, вы поверите во что угодно».
Ученики Успенского в Америке покинули Франклин Фармс в Мэндеме и рассеялись. Родни Колин Смит и его жена, никогда не встречавшие Гюрджиева, отправились в Мексику и основали свою собственную школу, используя движения, которым мс-с Ховарт и моя жена обучали на классах в Лэйн Плейсе. Гюрджиев отправился в Нью-Йорк. Началась интенсивная деятельность со старыми учениками Орейджа, Мадам Успенской и ее учениками. Гюрджиев сам посетил Мэндем, чтобы увидеть Мадам Успенскую, но никогда там не останавливался. Мадам подарила ему полную копию Фрагментов неизвестного учения, и, послушав их чтение, Гюрджиев, сказал, что Успенский в этом отношении был хорошим человеком. Он записал то, что слышал от него, совершенно точно: «Как будто я слышу, как я это говорю».
Коммуна во Франклин Фармс продержалась несколько лет после смерти Гюрджиева и Мадам Успенской. Но в итоге имущество было распродано. Группы в Нью-Йорке росли, и сегодня, в 1968 году, с ними связаны несколько сотен людей. Они владеют участком в штате Нью-Йорк, где ученики заняты работой в садах и разнообразными ремеслами. Несколько человек из первоначальной группы Орейджа (которая берет начало с разговора в книжном магазине Санвайз Терн в декабре 1923 года) сейчас среди лидеров современных групп.
Нашему сыну Адаму исполнилось девятнадцать, Джеймсу шестнадцать. Адам учился в школе во Франции, Джеймс - в школе св. Павла в Лондоне. Мы никогда не говорили с ними об идеях и воздерживались от их обсуждения с друзьями в их присутствии. Только однажды учение Гюрджиева выплыло наружу, когда младший презрительно сказал: «Мне не интересно то, что вы называете идеями!» Я отпарировал: «Да, они не для тебя. Они только для определенных людей».
Шесть месяцев спустя наступил канун Пасхи. С некоторых пор я чувствовал необходимость отвезти семью в Париж к Гюрджиеву, но я едва сводил концы с концами, и между этими двумя концами не оставалось ничего для поездки во Францию. И все же, я всегда знал, что если сильно хочу что-то сделать, если это не праздное «хотение», а настоящее желание, и если я сполна его не удовлетворяю, я страдаю. С другой стороны, если я прилагаю усилие для его выполнения, то получаю глубокое удовлетворение и, часто, благословление. Таким образом, за неделю до Пасхи я, где только мог, начал собирать деньги, и собрал достаточно, чтобы купить практически последние билеты на последний поезд в Париж в среду перед Пасхой. И все же из-за движения транспорта все висело на волоске; мы сели на поезд за две минуты до отправления.
Наш старший сын Адам встретил нас в Париже. Каждый день мы ходили обедать и ужинать в небольшую квартиру Гюрджиева на Рю де Колонель Ренар, которая была переполнена учениками из французской группы, Лондона и Нью-Йорка, но, несмотря на переполненность, здесь всегда было место еще человек для десяти.
По возвращению в Лондон Джеймс упросил нас разрешить ему поехать в Париж, чтобы жить и работать с Гюрджиевым. Так он и поступил, и прожил там несколько месяцев. Всякий раз, когда Адам приезжал в Париж из своей школы в Севенне, он приходил к Гюрджиеву. Оба они с тех пор участвовали в группах. Тем не менее, если бы я в тот самый праздник не сделал определенного усилия, их встреча с Гюрджиевым могла бы отодвинуться на неопределенное время. Хорошо, что это произошло на Пасху.
При встрече в Париже Гюрджиев сказал моей жене: «Розмари, ты помнишь тот первый месяц в Приорэ, около тридцати лет назад, когда ты была еще совсем молоденькой девушкой! Я о многом тебе тогда сказал. Теперь ты замужем, у тебя сыновья. Они пришли увидеться со мной. Знаешь, я удивлен, настолько они хороши!»
Я нечасто виделся с Гюрджиевым в последние месяцы его жизни; с одной стороны, у меня редко было достаточно денег для оплаты поездки в Париж; с другой - я обнаружил, что начал плохо слышать и мне стало трудно понимать, что говорят люди. Хотя я мог отчетливо слышать голоса, окружающие, казалось, говорят на незнакомом языке; слова смазывались. Я безрезультатно посетил несколько «специалистов», которые, забрав мои деньги и, перепробовав всевозможные инструменты, так и не смогли помочь; в госпитале мне сказали, что я один из многих людей моего возраста, которые страдают от нервного расстройства слуха, вызванного оружейной стрельбой и взрывами первой войны, его нельзя излечить, для него не существует лекарства, и оно понемногу должно прогрессировать. Специальные приспособления не годились, так мне, так же как и остальным, нужна была четкость, а не громкость, а аппаратные средства только усиливали звук. Я начал чувствовать напряжение и беспокойство, но не осознавал этого, пока однажды случайно Гюрджиев не сказал мне: «У вас неважное выражение лица, поскольку вы не можете слышать. Я знаю очень хорошую немецкую слуховую машину, и достану вам одну». Я объяснил, что она будет для меня бесполезна. Он немного поговорил со мной, и это изменило мое отношение к самому себе и моей глухоте. Я начал ее принимать, и напряженный, беспокойный вид исчез. Я даже начал извлекать из нее пользу. Понемногу я обнаружил, что из всего обсуждения за столом, я могу понимать одновременно только одного человека, и то только если он сидит напротив меня. Пять лет я ходил на уроки чтения по губам, но так незначительно продвинулся, что оставил их; человек должен начинать читать по губам в молодости. Мало-помалу я стал отрезан от обмена идеями с людьми; я мог пропустить слово, и таким образом получить неверное представление обо всей фразе, мой ответ зачастую вызывал или улыбку, или ошеломление. Поначалу было трудно принять глухоту, так как я всегда наслаждался разговорами и обменом мыслями с людьми, но когда я ее полностью принял, ко мне пришли определенный внутренний покой и более глубокое понимание себя и людей. Я начал разбираться в том, что люди думают и чувствуют – развилась интуиция. За обедом или на собрании, чтении или беседе, слушая, но не понимая, я мог делать умственные упражнения или изучать людей вокруг, их позы и выражения, и таким образом узнавать о них что-то.
К счастью, я мог по-прежнему наслаждаться музыкой, если я сидел возле инструмента, хотя, кроме звучания пианино и скрипки, звуки стали расплывчатыми. И я по-прежнему мог слышать пронзительное щебетание птиц. Звуки двигателей и транспорта я различал столь же ясно, как и люди с нормальным слухом.
Сейчас я могу понимать всего несколько людей. Я слышу их, но звуки голосов неясны, так расплываются объекты для плохо видящих людей; и, тем не менее, совсем недавно мы три часа беседовали с моим старым другом, писателем. Я предусмотрительно приготовил листы бумаги для того, чтобы он мог писать каждый вопрос и каждое наблюдение. Я, конечно же, мог ему отвечать вслух. При расставании он сказал: «Ты знаешь, это наиболее интересная и вдохновляющая беседа, какой не было уже давно».
Я обратил внимание, что очень немного людей хотят слушать тебя; все хотят, чтобы слушали их. Иногда я разговариваю с людьми в течение двадцати минут, используя принцип, описанный Гюрджиевым в главе об Америке в его книге: чтобы улаживать дела и вести другие беседы ему хватало всего пяти выражений. Теперь я зачастую могу обходиться, используя всего два слова – «да» и «нет». Я улыбаюсь, когда улыбаются остальные, и смеюсь, когда все смеются; когда мне кажется, что мне задают вопрос, я покачиваю головой, как бы в сомнении. Люди могут подумать, что я простофиля. Какое это имеет значение? Я могу даже доставлять им удовольствие, слушая их. Иногда я могу уловить слово, и, повторяя его, производить впечатление, что я внимательно их слушаю.
Гюрджиев говорил о субъективной судьбе человека, чье проявление может быть несправедливым, но может произвести плодотворный для других результат. Когда я обнаружил себя отрезанным, то начал думать, что я могу сделать; идею я почерпнул из случайной реплики моего друга, сказавшего: «Почему вы не запишете то, что можете вспомнить о Гюрджиеве, его делах и высказываниях, пока еще помните об этом. Через двадцать лет мы все будем мертвы. Нужно записать его слова и дела для тех, кто придет следом».
Я понял, что это нечто, что я хотел бы сделать. Я всегда хотел уметь писать, быть признанным критиками человеком, который может хорошо писать по-английски, это желание тревожило меня с детства. Но, как только эта мысль пришла ко мне в голову и желание воплотить ее на практике начало расти, в то же время появилось и сопротивление, отрицающая сила, увещевающий дьявол, указывающий на незнание мною грамматических правил и на то, что я уже писал книги в прошлом, признанные непригодными. Я не брал в расчет опубликованную в Америке книгу для детей. Потом я вспомнил слова Гюрджиева о том, что если мы желаем приобрести внимание, волю, индивидуальность, сознательность, мы должны начинать с небольших вещей. «Возьмите одну вещь, некоторую мелочь, которую вы хотите, но не можете сделать, и заставьте себя сделать ее. Поступая так, вы приобретете вкус настоящей воли».
У меня уже не было такого желания писать, как несколько лет назад; я просто хотел записать то, что я помнил о Гюрджиеве. Итак, после некоторой внутренней борьбы между «да» и «нет» я начал, и сразу же почувствовал себя лучше; но это так никогда и не стало легким делом, семь лет я трудился над своими писаниями, часто с длительными перерывами ничегонеделания.
Я родился с сильными инстинктивным и эмоциональным центрами и никогда, пока не встретил учение Гюрджиева, у меня не было возможности использовать ум; любые интеллектуальные усилия, наподобие занятия литературой, для меня чрезвычайно трудны, и я обнаружил, что нахожу причины поработать и покопаться в саду, поплотничать, или даже заняться уборкой, лишь бы не сидеть и не писать; даже мысль об этом отталкивала меня. Но, как только усилие сделано, и я начинаю писать, то ощущаю освобождение и благополучие.
После каждого перерыва в написании книги, я прилагал громадные усилия, чтобы начать снова. В итоге, спустя семь лет, из моих собственных воспоминаний и заметок, записей других учеников я собрал достаточно материала для книги. Я планировал размножить ее на копировальной машине для использования в группах. Но, когда я показал ее некоторым старшим ученикам в главной группе, они убедили меня отнести книгу издателю. Я был против, поскольку думал, что ни одного издателя она не заинтересует. В итоге я согласился и передал машинописную копию издателю, приложив записку, что лично я не думаю, что ею заинтересуются, но некоторые друзья по Гюрджиевской работе рекомендовали мне так поступить.
К моему удивлению, менее чем через неделю пришел ответ, что вопреки моему мнению, они с радостью издадут книгу. Дневник ученика издали, и переиздавали несколько раз, причем отзывы были куда лучше, чем я ожидал или надеялся. Мне присылали письма со всего мира. Так, совершив усилие, я сделал что-то для своего ближнего и для самого себя.
Эта книга будто была сделана через меня, я был, так сказать, посредником. Другими словами «Я» желало сделать ее, «Я» заставляло организм трудиться и страдать, чтобы написать ее.
Ощущение, будто я - инструмент, что «Я» использует инструмент, сильно проявилось при переводе с французского Беседы Птиц. Я словно общался с Аттаром и понимал, что он хотел сказать.
Писательство очень много дало для моего развития. Все, что раньше было туманным, аморфным, кристаллизовалось. Вопросы и ответы стали более ясно сформулированными; то, чему я научился и передал другим, стало моим собственным.
И еще. В этой работе для ученика наступает время когда, чтобы сохранить приобретенное на опыте, он должен передать это кому-то другом. Я начал чувствовать потребность в этом; случилось так, что меня посетил читавший книги австралиец. Мы долго и много разговаривали, и в конечном итоге меня пригласили отправиться в Сидней. Ехать я не хотел. Хотя в молодости я жил и работал в Австралии, мне она никогда не нравилась, несмотря на многочисленные связи и хорошие отношения моей семьи с представителями старых Австралийских фамилий. Это последняя страна, которую я выбрал бы для посещения. Но мне представилась возможность сделать что-то, что я хотел сделать.
Я сделал усилие и поехал, что положило начало группе, с которой, после многочисленных трудностей и разочарований, теперь связано около сотни человек.
Однажды Гюрджиев сказал об идее начала группы: «Вы наживете врагов», так и произошло.
Многие сегодня интересуются Учением Гюрджиева, большинство из них только интересуются. Когда задевают их самолюбие и тщеславие, как и должно происходить в настоящей группе, ученики обижаются и уходят. Тем не менее, те, кто, несмотря на страдания, может себя заставить увидеть самих себя такими, какие они есть, получают хорошую награду – они начинают по-настоящему жить, становятся дважды рожденными. Практика этого Учения, которая вначале кажется легкой «точно то, что я искал», самая трудная вещь на свете. Все противится – внутри и снаружи – знанию себя, противится усилиям быть сознательным по отношению к себе самому. Суфии называют это «Сират», дорога или путь, мост от старой жизни к новой – тоньше волоса, острее меча, усеянный колючками и шипами; но, следуя путем и пересекая мост, человек получает бесценную благодать.
В письме Павла своим церквям – его группам – сегодня можно увидеть, как и тогда, одни и те же трудности, потому что человек, несмотря на все внешние изменения, внутри остается тем же самым; тот же самый разлад, те же самые разногласия. И они появляются в любой части света, где бы ни находилась группа. Тем не менее, несмотря на трудности и то, что я серьезно заболел во время обоих визитов в Австралию, последствия чего продолжались и после возвращения в Англию, результаты вознаграждают усилия. У австралийцев есть хорошие возможности, и у них есть качества, которых нет ни у американцев, ни у англичан. Я попытался передать некоторым из них то, чему я научился у Гюрджиева и его Учения за прошедшие сорок лет. Поступив так, я сохранил то, что имел. «То, что я отдаю, я сохраняю».
Во время моего пребывания в Приорэ спутниками Гюрджиева были люди высокого уровня развития; жаль, что только некоторые из них пережили своего учителя. В наши дни группы иногда критикуют за то, что ответственными за многие из них были женщины. Если даже и так, то не потому ли, что мужчины в основном все больше отождествляются с самодостаточными «знанием и прогрессом», и меньше открываются чувствованию настоящих идей? Может быть, Природе нужна созидательная консервативная чувственная сила, которая есть у нормальной женщины. И все же мужчина должен быть активной позитивной силой, и те, кто практикует «Учение», таковым и становиться.
Так как основная часть настоящих идей распространяется, все больше людей интересуются ими, группы растут и нуждаются в организации. «Учение» это одно, а организация - другое. Организация нужна, но некоторые неизбежно с ней отождествляются, становятся отождествленными со своим собственным отношением к тому, что они называют «Работой»; некоторые даже забывают, для чего нужна организация. Все это также происходит в соответствии с законом. Но внимательные искатели, признавая необходимость регулирования, могут не отождествляться с организацией и помнить свою настоящую цель.
Там, где почва плодородна, сорняки растут в изобилии. Уже появляются те, кто утверждают, что излагают идеи Гюрджиева и учат движениям – люди, которые не имеют ни малейшего представления о внутреннем учении; Гюрджиев называл их «ворами сущностных ценностей».
Учение остается неизменным; внешнее проявление его меняется. Гюрджиев, когда этап его работы сослужил своей цели, ликвидировал его и начинал нечто новое.
Говорят, что другие школы распространяют Учение в другой форме, достигая различных людей. Тем не менее, я сомневаюсь, что сегодня кто-то на Западе обладает чем-то сравнимым с силой, энергией, пониманием Г.И. Гюрджиева. Что касается работы Гюрджиева, нужно сказать, что она закончилась с его смертью, и группы теперь только повторяют слова, без понимания внутреннего значения.
Может быть, истина сохранилась в некоторых группах, но в каких? Безусловно, есть группы в Лондоне и других частях мира, которые ведут люди, никогда не встречавшие Гюрджиева, некоторые изучали философию Успенского. Эти группы имеют мало ценности в отношении внутреннего Учения; но они могут помочь некоторым ощутить необходимость чего-то большего.
И все еще существуют люди, которые работали с Гюрджиевым на протяжении нескольких лет, в группах они передают то, что получили непосредственно от него, и это имеет огромное значение.
Идеи Гюрджиева распространяются, во многих частях мира: в Англии и Франции, Северной и Южной Америке, Австралии, есть люди, изучающие их под руководством работавших непосредственно с Гюрджиевым учеников; и многие из этих разнообразных групп дают нечто, что помогает удовлетворить внутреннюю жажду не быть просто машиной или животным. Во многих людях я видел происходящие за несколько лет изменения – внутренние изменения, а за ними и внешние. С ростом внутренней жизни они становятся человечнее.
Может произойти так, как писал Гюрджиев, было у буддистов - после третьего поколения изучение идей станет более теоретичным, «последователи» разделятся на секты. Более не будет первого поколения учеников Гюрджиева; трактовка учения согласно Закону Октав мало-помалу измениться. Но останутся его писания, его музыка и танцы, движения; появятся те, даже если мы их еще не знаем, кто поймет внутренне учение.
Его писания могут оказать влияние даже на тех людей, которые его не знали, и изменить их отношение к жизни; они начнут думать по-другому, более нормально. У меня есть друг, который никогда не был в группе и не встречал никого, интересующегося идеями, за исключением меня. Он - ключевая фигура в гигантской компании. Несколько лет назад я познакомил его с Рассказами Вельзевула, и он говорит мне, что это его настольная книга. Он говорит, что люди не осознают глубины понимания Гюрджиевым истинной науки.
Затем, танцы и движения. Их бережно записали и отсняли на пленку, и если они выполняются точно в соответствии с заложенными в них правилами, они могут оказать животворное влияние на людей следующего поколения. Это объективное искусство и даже просмотр некоторых из них на экране производит глубокое впечатление на зрителей.
То же самое и с музыкой.
Профессор Дени Сора неоднократно говорил, что учение Гюрджиева будет иметь широкое влияние на человеческое мышление сто лет спустя.
Жизнь с каждым годом становится все более запутанной и менее удовлетворительной; старая жизнь повсюду рушиться. Человек приобретает все больше знаний, и чем больше он получает ординарного знания, тем больше уменьшается его понимание. Человек знает все обо всем – и понимает все меньше и меньше. Его энергия используется только умом, он практически уже не чувствует нормального образа жизни. Если так будет продолжаться, из-за переизбытка знания наша цивилизация может разрушиться. Только Учение может дать новое направление, показать путь достижения бытия, которое может противостоять чрезмерному знанию.
Кришна сказал: «Когда цивилизация придет в упадок, я проявлю себя»; Учение дано в подходящей ко времени и условиям форме. Оно берет начало на Востоке и исходит от настоящих Суфиев. Оно существует со времени падения человека и передается время от времени в различных формах. Гюрджиев адаптировал вечное Учение для Запада и для нашего времени. Он говорил, что мы должны всегда быть благодарны человеку, через которого мы встретились с Учением.
Кто бы ни был старше в понимании, тот и учитель. Как Евангелист в Путешествии Пилигрима, учитель может сказать:
Я посеял, ты должен пожать; грядет день, когда «тот, кто посеял, и те, кто собрал урожай, воссоединятся»: если ты выдержишь, «в нужное время ты пожнешь, если не дрогнешь».
А теперь я закончу словами коптского писца, жившего около 150 года от Рождества Христова
Помилуй Господи
душу
грешника
написавшего эту книгу
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 139; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
