О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ИМЕНА ПАРМЫ
Составитель В. КЛИМОВ

У НАС НА ИНЬВЕ

Легенды, рассказы и повести коми-пермяцких писателей

Перевод с коми-пермяцкого
Рисунки А. Мошева

СОДЕРЖАНИЕ:
| В. Климов. КРАЙ МОЙ МИЛЫЙ... НАРОД ГОВОРИТ ПЕРА И ЗАРАНЬ. Легенда. Пересказали Л. Грибова и В. Климов. Перевел В. Муравьев. ВОГАТЫРЬ КУДЫМ-ОШ. Легенда. Пересказал В. Климов. Перевел В. Муравьев. В. Климов. О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ИМЕНА ПАРМЫ. Перевел В. Муравьев. В ШКОЛЕ, ДОМА, В ЛЕСУ Т. Фадеев. НЕ БОЯТЬСЯ ДЕЛА. Рассказ. Перевел В. Муравьев. В. Исаев. ЛОСЕНОК С ЛЕНТОЙ. Рассказ. Перевел В. Муравьев. В. Кучева. ПОЛТИННИК. Рассказ. Перевел В. Муравьев. В. Климов. «ПЫЛАЙ, ПЫЛАЙ!» Рассказ. Перевел В. Муравьев. В. Баталов. НА ИНЬВЕ. Рассказ. Перевел В. Муравьев. С. Федосеев. АЛЕША. Рассказ. Перевел В. Муравьев. В. Баталов. НЕХОЖЕНОЙ ТРОПОЙ. Повесть. Перевел В. Муравьев. ДОРОГАМИ ИСПЫТАНИЙ В. Климов. КАРАВАННЫЙ БУНТ. Рассказ. Перевел В. Муравьев. В. Климов. Я УЖЕ БОЛЬШАЯ. Рассказ. Перевел В. Муравьев. Л. Налогов. БАНЯ. Рассказ. Перевел В. Муравьев. М. Лихачев. В РАЗВЕДКЕ. Глава из повести. Перевел В. Муравьев. Н. Попов. КОЛЫШКИ. Рассказ. Перевел В. Муравьев. Т. Фадеев. РУКИ МАТЕРИ. Рассказ. Перевел В. Муравьев. И. Минин. СТО ВЕРСТ ДО ГОРОДА. Главы из повести. Перевел автор. КРАЙ МОЙ МИЛЫЙ В. Баталов. КРАЙ МОЙ МИЛЫЙ. Перевел В. Муравьев. |

В. Климов

КРАЙ МОЙ МИЛЫЙ...
Статья
|
|
|
«Родные и любимые с детства места!..
Идешь через волнующееся на ветру поле, через лес или вдоль извилистого берега реки — и кружит голову свежий, настоянный на травах воздух, а на душе радостно и светло. И тогда лучше думается, зорче видится, острее слышится».
Так начинает свою книгу лирических рассказов о родном крае коми-пермяцкий писатель Валерьян Баталов.
Много добрых, ярких, проникновенных, по-сыновьи благодарных слов сказано коми-пермяцкими писателями о своей родной земле — Коми-Пермяцком автономном округе, о людях, живущих на ней, о ее прошлом и настоящем. В этой книге вы прочтете некоторые их произведения.
Коми-Пермяцкий автономный округ находится в Предуралье, на севере Пермской области, по верхнему течению реки Камы, там, где впадают в нее Весляна, Коса, Иньва.
Большую часть округа занимают леса. По-комипермяцки таежный лес называется парма, поэтому некоторые ученые считают, что древнее название пермской земли происходит от этого слова.
В дореволюционные времена те места, где жили коми-пермяки, считались дикой глухоманью, для которой нет будущего, и про коми-пермяцкий народ один ученый-этнограф в 1883 году писал: «Племя это быстрыми шагами идет к вырождению, и можно с уверенностью сказать, что ему недолго существовать на белом свете, что оно уже доживает свои последние минуты».
Но прошло сто лет, и теперь мрачное пророчество этого ученого вызывает только улыбку. И сейчас, как прежде, лес — основное богатство округа, но современное лесное хозяйство — это высокомеханизированные предприятия. Коми-Пермяцкий автономный округ живет кипучей полнокровной жизнью, единой со всей страной. Той же жизнью, что живут Москва и Киев, Казань и Владивосток. Кроме высокоразвитой лесной промышленности, в округе созданы машиностроительные заводы, некоторым изделиям которых присвоен государственный Знак качества, работают предприятия местной промышленности — мебельная фабрика, завод железобетонных изделий, молокозаводы, предприятия пищевой промышленности; колхозы и совхозы обеспечены сельскохозяйственной техникой. Производимая округом продукция, например автомаслозаправщики, лесоматериалы, лен, расходится по всему Советскому Союзу и экспортируется в зарубежные страны.
Столица округа — город Кудымкар и поселки городского типа давно изменили свой облик: вместо прежних деревянных изб ныне на их улицах возвышаются современные многоэтажные здания.
Каждое важное событие современной жизни — будь то трудовое начинание, праздник, успехи науки — тотчас получает отклик в округе. Округ гордится своими Героями Социалистического Труда, народными мастерами, чья резьба по дереву, плетение из бересты и лыка, тканье и вышивки с успехом демонстрировались на международных выставках, произведениями своих писателей, открытиями ученых и тем, что на территории округа 19 марта 1965 года приземлился космический корабль с космонавтами А. А. Леоновым и П. И. Беляевым.
В память об этом событии на месте приземления воздвигнут обелиск.
В общее развитие культуры народов Советского Союза вносит свой вклад и коми-пермяцкий народ — древний, талантливый, трудолюбивый.
Коми-пермяки издревле живут на тех землях, где в 1925 году был создан Коми-Пермяцкий автономный округ. Их предки поселились здесь несколько тысяч лет назад. Они были охотниками, добывали меха, умели плавить металл. Металлические украшения и орудия, а также меха были самыми ценными предметами в торговле с соседями.
Пермяки были язычниками. Люди каждого рода считались потомками какого-нибудь животного и назывались его именем: Ош увтыр — род Медведя, Сизь увтыр — род Дятла, Мош увтыр — род Шмеля. Этому животному поклонялись как своему покровителю. Почитали они бога создателя Вселенной Ена, бога ветра Войпеля, Солнце и Луну.
С тех времен остались в народной памяти прекрасные поэтические легенды.
Историческая судьба коми-пермяцкого народа тоже едина с судьбами других народов нашей страны.
В XV веке в пермских землях обосновался богатый купец и промышленник Строганов. В своих вотчинах Строгановы являлись полноправными хозяевами и все судили-рядили по-своему, даже торговали людьми.
Ужасающая бедность и бесправие царили в коми-пермяцком крае. Возмущенный народ, доведенный до отчаяния, не раз поднимался на борьбу, но все выступления жестоко подавлялись.
Темнота, безграмотность, болезни были уделом коми-пермяков.
Великая Октябрьская революция освободила народ от угнетения и дала возможность развивать свою национальную культуру.
О талантливости коми-пермяков говорили их песни, предания, произведения народных промыслов. Те немногие коми-пермяки, которым посчастливилось учиться, поражали своей одаренностью: коми-пермяком был замечательный зодчий А. Н. Воронихин — создатель Казанского собора в Петербурге, художник П. И. Субботин-Пермяк в первую годовщину Октября был одним из руководителей праздничного оформления Москвы...
Еще шла гражданская война, а в коми-пермяцком крае началось культурное строительство. Начинать пришлось с самого главного: с создания букварей, с обучения народа грамоте, потому что большинство было просто неграмотно.
Открывались школы, начали выходить первые газеты на коми-пермяцком языке, появились первые литературные произведения на родном языке — их создателями стали бывший красноармеец А. Н. Зубов (1899 — 1945), учитель М. П. Лихачев (1901 — 1945), другие учителя, партийные и советские работники. Они писали о преобразованиях, совершавшихся в родном краю, о борьбе нового со старым.
В двадцатые и тридцатые годы в коми-пермяцкой литературе преобладала поэзия. По своим изобразительным средствам она была близка к народным песням и тем самым очень понятна крестьянским массам, воспринималась ими как родное, кровное, и зачастую во время массовых читок стихи заучивались наизусть.
В ту пору очень популярными в округе были литературно-художественные праздники «Коми рыт», когда писатели, учителя, старшеклассники и сельские комсомольцы устраивали беседы, концерты, хороводы, ставили пьесы.
Шесть лет спустя после революции, в 1923 году вышла первая книга коми-пермяцкой литературы — сборник стихотворений коми-пермяцких поэтов «Звонкий шар».
В годы колхозного строительства, в годы Великой Отечественной войны, в послевоенные годы восстановления народного хозяйства, в настоящее время коми-пермяцкие писатели в своих произведениях воссоздают жизнь своего народа. Теперь в коми-пермяцкой литературе наряду со стихами достойное место занимают проза и драматургия.
В сборник «У нас на Иньве» вошли произведения многих коми-пермяцких писателей разных поколений.
М. П. Лихачев, автор рассказа «В разведке» (отрывок из романа «Мой сын»), — один из основоположников коми-пермяцкой литературы, в гражданскую войну служил в Красной Армии, потом работал в газете, составлял первые национальные учебники. Он первым в округе стал членом Союза писателей. Он встречался с М. Горьким, и Горький подарил ему библиотеку.
Н. Попов (1902 — 1975), автор рассказа «Колышки», крестьянствовал, избирался председателем сельсовета, учительствовал, был журналистом, редактором книжного издательства.
И. Минин (родился в 1926 году) многие годы работает журналистом, хорошо знает колхозную деревню, потому так интересно и написал повесть «Сто верст до города», — о своих современниках, с которыми вместе жил, пахал и сеял, возил зерно на элеватор, делил горе и радость.
В. Баталов (родился в 1926 году) — прозаик, он не пишет стихов, но прочитайте его короткие рассказы из цикла «Край мой милый», и вы убедитесь, что он настоящий поэт. Эти рассказы — результат частых поездок по округу: он работал в газете, на радио, в управлении нефтеразведки.
В. Исаев (родился в 1923 году) — сельский учитель. Обычна биография и у Л. Нилогова (родился в 1924 году): комсомольская юность, фронтовые дороги, учеба, преподавание в школе и тридцать лет работы в партийных и советских органах. В одном из самых отдаленных сел округа родился и живет там поныне С. Федосеев (родился в 1936 году), он медик, работает фельдшером. Т. Фадеев (родился в 1937 году) тоже прекрасно знает жизнь своего родного края — был колхозником, работал на ферме, на стройке, затем стал учителем, работал также журналистом, художником-оформителем, организатором охраны природы в округе.
У В. Кучевой (родилась в 1961 году) трудовая и литературная биография только начинается.
Разные писатели разных поколений, разные произведения, по-разному написаны, но все, что написали коми-пермяцкие писатели, объединяется в один общий рассказ о милом сердцу родном крае — Коми-Пермяцком автономном округе.
Прочитав эту книгу, вы узнаете о прошлом и настоящем округа, о красоте его лесов и рек, а главное, о красоте души народа, живущего на этой земле и прославившего ее своими трудовыми и боевыми подвигами, созданиями своего таланта.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В. К л и м о в

НАРОД ГОВОРИТ

ПЕРА И ЗАРАНЬ
Легенда

Пересказали Л. Грибова и В. Климов
Перевел В. Муравьев
Высоко-высоко над землей, на небе, жили бог Ен и его дочь Зарань. Тихо и спокойно текла их жизнь. Вокруг было одно небо — ровное, голубое, ни гор высоких на нем, ни оврагов глубоких, ни рек текучих, ни лесов дремучих — ничего нет.
Скучно стало Зарани на небе.
Смотрит она вниз на землю. А земля не то что небо: в одном месте зеленеет лесами, в другом желтеет полями, и реки по ней бегут, и леса стоят, и горы возвышаются.
Смотрела, смотрела Зарань на землю и однажды сказала Ену:
— Отец, мне скучно здесь, пусти меня землю посмотреть.
— Чего там смотреть, — недовольно проворчал Ен. — Плохо на земле: горы, да овраги, да дремучий лес — парма, а в нем бродят свирепые звери медведи.
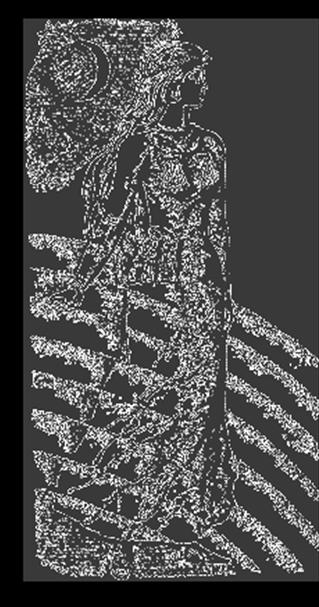 Не пустил Ен дочку на землю.
Не пустил Ен дочку на землю.
Прошел день, другой, третий, а у Зарани из головы не выходят мысли о земле. Все думает она, каковы горы и овраги, что такое дремучий лес — парма. Очень хочется ей увидеть все это своими глазами. Даже медведи не пугают. «Авось, — думает, — не тронут они меня». Но как попасть на землю?
Тут увидела Зарань радугу, которая через все небо перекинулась, до земли достала и пьет воду из лесной реки.
— Радуга, радуга, позволь мне по твоей спине с неба на землю сойти, — попросила Зарань.
— Иди, — ответила радуга, — только спеши: я как напьюсь, так сразу поднимусь в небо.
Побежала Зарань по спине радуги вниз, но не успела добежать до земли: радуга напилась и поднялась в небо.
Досадно стало Зарани.
С тех пор Зарань, что бы ни делала, все время поглядывала: как там радуга, не пьет ли опять воду из земной реки?
И когда однажды радуга снова наклонилась к реке, Зарань со всех ног пустилась бежать по ее полосатой спине.

На этот раз она успела пробежать весь путь и ступила на зеленую землю.
Вдруг она слышит, кто-то ее спрашивает:
— Кто ты такая?
Видит Зарань: перед ней стоит молодой парень в красивой одежде из пушистого меха.
— Я Зарань, дочь бога Ена. А ты кто?
— Я охотник, хозяин здешних мест, а зовут меня Пера. Зачем ты спустилась с неба сюда?
— Скучно мне на небе, хочу посмотреть на землю.
— Что ж, будь гостьей, покажу тебе всю земную красоту.
Повел охотник Пера девушку по своим владениям, показал ей леса и поляны, горы и долы, реки шумные и ручьи светлые. Очень понравилась Зарани парма, и Пера ей понравился.
— Хочу я подольше пожить в твоих владениях, — говорит она Пере.
— Оставайся насовсем, — отвечает ей Пера, — пусть моя земля будет и твоей.
И осталась дочь бога Ена жить на земле.
Тем временем хватился бог Ен дочери, а ее нет. По всему небу он искал ее — не нашел. Глянул на землю — и увидел свою дочь Зарань в доме земного человека на берегу реки.
Приказал Ен радуге наклониться к земле и говорит:
— Возвращайся, дочь, скорее домой.
А та отвечает:
— Не хочу на небо, я хочу жить на земле.
— На земле ты будешь жить в темном лесу, ходить узкими звериными тропами, есть грубую земную пищу.
— Все равно я останусь на земле.
— Тебе придется терпеть лишения и нужду, тяжелый труд и болезни. Одумайся, пока не поздно.
Поглядела Зарань на Перу и ответила отцу:
— Нет, я больше никогда не вернусь на небо.
Рассердился Ен и напустил на землю великую жару. От этой жары поникла трава на лугах, листья на деревьях пожухли, высохли реки и речки, но на самом дне глубокого оврага остался один маленький родничок, он и поил все живое.
Перетерпели Пера и Зарань великую жару, а Ен шлет новое испытание: обрушил на землю невиданные ливни. Затопила вода все низины, затопила низкие горы, затопила высокие. Но Пера и Зарань построили плот и спаслись.
Спала большая вода, пошла было жизнь по-прежнему. Но Ен придумал новое наказание: он увел от земли солнце, и наступила на земле стужа, повалил снег, замела-завыла метель, земля погрузилась во мрак.
Но скрылись Пера и Зарань в чаще пармы. Парма укрыла их от ветра и холода, в парме охотник Пера добывал дневное пропитание.
Долго не пускал Ен солнце освещать и греть землю, а когда оно вернулось на прежний свой путь и снова осветило и согрело землю, посмотрел Ен вниз и глазам своим не поверил.
На берегу большой реки, радуясь солнцу, пели и плясали люди, целое племя. И была среди них женщина, которую они все называли матерью. Была она такая же ясноглазая, как его дочь Зарань, только волосы у этой женщины были не золотистые, а седые.
— Скажи мне, женщина, кто ты такая? — спросил Ен.
— Я твоя дочь Зарань, — ответила она.
— А кто эти люди, которые веселятся вокруг тебя?
— Это наши с Перой дети, а твои внуки.
Так на земле появилось племя Перы — предки коми-пермяков.

БОГАТЫРЬ КУДЫМ-ОШ
Легенда

Пересказал В. Климов
Перевел В. Муравьев
Давным-давно, когда Иньва-река еще текла не тем путем, каким течет теперь, жил на ее берегах могучий народ — чудь.
Не знали чудины ни хлеба, ни топора, жили они среди дремучих лесов, в землянках, словно кроты или мыши. Тайга с чистыми реками и светлыми озерами давала им еду и одежду. Солнце дарило тепло. Добрый бог Войпель хранил их от болезней и несчастий. Жили чудины по сто лет, были они крепкие и сильные, как медведи в их лесу.
Самыми сильными в чудском роде — увтыре — были три брата — Купра, Май и Ош, сыновья чудского вождя — пама и мудрой женщины по имени Пэвсин.
А среди трех братьев самым ловким и удачливым был меньшой брат, Ош. Глаза у Оши зоркие, как у ястреба, черной ночью он видел лучше совы, ростом был в три аршина, а сила и разум были ему даны втрое против других людей. Зимой и летом ходил Ош с непокрытой головой, не боялся он ни дождя, ни снега, ни жаркого солнца, ни злых северных ветров. Потому и звали его Ош — что значит медведь.
Матери Оша, Пэвсин, мудрой и проворной женщине, покровительствовал сам Войпель. Весь увтыр ее уважал, и все ее слушались. Трудилась Пэвсин наравне с мужчинами, и когда несла воду с реки в тяжелой корчаге, то не искала пологого подъема, поднималась на берег по круче.
Отец Оша, пам чудского племени, пошел войной на Курэгкар и Круточой; в этом походе он был убит.
Была у чудского рода ведунья Чыкыш, которая зналась с рогатым лесным царем Сюрапеле. Она умела оживлять мертвых, из камня огонь добывать и людям глаза отводить. Но даже Чыкыш не смогла оживить пама: много времени прошло, как он умер.
Похоронили пама возле Кудвы-реки, на Изъюре — каменистой круче, где было чудское мольбище — жилище богов и самого Войпеля.
Похоронили старого пама, надо выбирать нового. Люди назвали Оша.
Обрядили Оша в памскую одежду, стали молиться, просить Войпеля уберечь нового пама от болезней, от порчи и колдовского сглаза, от вражеских стрел и ножей. Потом дали молодому паму наказ, чтобы правил он чудским родом — увтыром — так же, как его отец, старый пам: охранял чудинов, и старых и малых, защищал их очаги, всегда наготове держал острые копья и стрелы с наконечниками, смазанными ядом.
Чудское селение находилось на открытом месте за болотом, в стороне от мольбища. Хорошее это было место, веселое, но часто нападали на него соседские племена, и трудно было защищать неукрепленное селение.
 И сказал Ош своим братьям Купре и Маю, и своей матери Пэвсин, и ведунье Чыкыш, и всем людям:
И сказал Ош своим братьям Купре и Маю, и своей матери Пэвсин, и ведунье Чыкыш, и всем людям:
— Давайте построим свои жилища на красной круче Изъюра, за пазухой у Войпеля, пусть он сторожит нас, как тетерка своих птенцов, как мать свое дитя.
Молчали люди, как будто онемели их языки, сидели неподвижно, будто отнялись у них руки и ноги. Даже Иньва-река замерла, перестала играть галькой. Разве не знает удалой Ош, что Изъюр — жилище богов? Разве не знает он, что великий бог Ен покарает всякого, кто посмеет осквернить священное место?
Ведунья Чыкыш сказала:
— Пусть отсохнут руки и отнимутся ноги у того, кто потревожит жилище богов!
Старики согласно склонили седые головы.
Но не согласился с ведуньей молодой пам.
— Люди! — сказал он. — Вы дали мне этот посох — знак вождя, вы обещали слушаться меня, как дети свою мать. Пусть же те, кому не дороги их головы, остаются здесь, а кто хочет жить, идемте со мной на Изъюр.
Молчали люди, только Иньва-река заволновалась, забурлила на перекатах.
Старая Чыкыш сказала в раздумье:
— Бог покарает всякого, кто пойдет против его воли, и будет тот ползать на четвереньках всю жизнь и не увидит больше светлого солнца.

Молчали люди, только Иньва-река яростно ревела и билась волнами о берег, унося с собой камни.
Тогда Ош протянул свои могучие руки к солнцу и сказал:
— Ясное солнце, открой людям глаза, дай им разума, покажи, где надо жить!
И тут люди увидели, как засияло солнце и ярко осветило крутой обрыв Изъюра.
— Солнце указало, где нам жить! — воскликнул молодой пам.
Чудины вслед за Ошем пошли на Изъюр. Построили они там селение, сначала поставили шалаши, потом вырыли землянки, огородили их сосновым заплотом и назвали селенье Куд дым кар, то есть город на реке Куд, а молодого пама стали называть Кудым-Ошем. 
Настало время Кудым-Ошу жениться.
Сказала ему старая Чыкыш:
— На далекой быстрой реке живут вогулы. Правит ими большой князь, и есть у князя дочь Костэ, прекрасная, как золотистый цветок горадзуль-купава. Кто возьмет в жены вогульскую княжну, тому родит она сына-богатыря.
Захотел Кудым-Ош жениться на вогульской княжне. Нагрузил он лодку собольими и горностаевыми шкурками в подарок вогульскому князю, выбрал себе помощников и отправился вниз по Иньве-реке.
Плывет лодка легко и быстро, как гусь, а Кудым-Ошу все кажется: медленно; торопит он гребцов, были бы крылья — птицей полетел бы к вогульской княжне.
Доплыли до Анюшкара, где правил пам Анюш. Спросил Кудым-Ош дорогу к вогулам. Ответил Анюш:
— Плыви вверх по Каме целый день, вечером приплывешь к крепости, где правит женщина-пам. Она укажет тебе дорогу дальше.
Приплыл Кудым-Ош к женщине-паме, стал спрашивать у нее дорогу к вогулам. А женщина-пам знала, что грозит Кудым-Ошу у вогулов гибель. Жалко ей стало молодого пама, отговаривает она его:
— Не ходи туда, Кудым-Ош. Ты там чужой, языка не знаешь, кто тебе поможет? Пропадешь!
Но Кудым-Ош ответил:
— Я ничего не боюсь и с полпути возвращаться не привык.
Видит женщина-пам — не отговорить ей богатыря, покачала она головой и говорит:
— Тогда запомни, что я скажу. Согласится князь отдать за тебя дочь, женись на ней, не отступай, что бы ни случилось. Запомни: что бы ни случилось! А откажешься от нее — пропадешь. Даю тебе в проводники моего человека Ваякси. Он дорогу знает и по-вогульски говорит.
Поблагодарил Кудым-Ош женщину-пама и на другое утро отправился туда, где мерцал холодный полуночный свет.
Долго плыли чудины по Каме, Ваякси указывал им путь.
Наконец приплыли к вогульскому городищу.
Послал Кудым-Ош Ваякси к вогульскому князю сказать, что прибыл чудской пам. Но гордый князь не захотел принять чудина, велел запереть ворота. Пришлось Кудым-Ошу со своими людьми ночевать под стеной, как бездомной собаке.
На другой день снова послал Кудым-Ош Ваякси к князю, снова не принял их князь, снова ночевали чудины под открытым небом, терпя жестокие муки от гнуса. Но когда в третий раз послал Кудым-Ош Ваякси к князю, понял гордый князь, что чудской пам не отступится, и велел привести его к себе.
— Что тебе нужно? — спросил он богатыря.
— Я хочу взять в жены твою дочь, красавицу Костэ, — ответил Кудым-Ош.
Усмехнулся князь:
— У меня не осталось в изгороди пустого кола для твоей головы. Забудь свои слова и убирайся.
— Не уйду, — сказал Кудым-Ош. — Только тот найдет свое счастье, кто не боится голову потерять.
— Много женихов сватались к Костэ, но ни один не захотел жениться, увидев ее, — сказал князь. — Наша Костэ — страшное чудище, не человек, не телка.
Смутился Кудым-Ош, но вспомнил слова женщины-пама и сказал:
— Я приехал сюда за твоей дочерью и без нее не уеду.
— Ну, как знаешь, — сказал князь. — Проведите гостей в девичий чум.
Был тот чум покрыт не берестой, как другие, а оленьими шкурами, и внутри этого чума стоял другой чум.
Вошел Кудым-Ош и остолбенел: лежит на мягких шкурах что-то черное, волосатое, только глаза у этой твари светлые и очень печальные.
Заговорила Костэ по-вогульски, Ваякси перевел Кудым-Ошу:
— Не бойся меня, Кудым-Ош, я не такая, как ты видишь.
— Поедешь со мной в чудские земли, прекрасная Костэ? — спросил Кудым-Ош.
— Я всюду поеду с тобой.
Пошел Кудым-Ош к князю и говорит:
— Я женюсь на твоей дочери.
Велел князь готовиться к свадьбе. Закололи много оленей, наловили в реке рыбы, настреляли в лесу птицы, наготовили угощения целую гору.
Жена князя тем временем дочь к свадьбе готовит, снимает с нее коровью шкуру, умывает и наряжает. Коровью шкуру она сама на дочь надела, чтобы не выдал князь Костэ за кого попало.
Два дня и две ночи готовились к свадьбе, на третий день собрались гости. Вывели няньки из чума невесту, идет она, словно лебедь плывет, а лицо закрыто покрывалом.
Князь приказал:
— Открой, дочка, лицо, покажись жениху.
Жена князя торжественно сказала:
— Пусть рассеется колдовство и Костэ станет красавицей!
Она откинула покрывало с лица дочери.
— Ты ли это, Костэ? — воскликнул князь.
Костэ ответила:
— Чары рассеялись, отец, и я стала красивее сестер моих.
Начался свадебный пир.
Потом дали Кудым-Ошу много подарков, дали лодки и людей и проводили молодых в дальнюю дорогу.
Дома Пэвсин со всем увтыром вышла на берег встречать сына и его красавицу жену.
Когда на небе показался молодой месяц, начали играть свадьбу на Изъюре.
На зеленой лужайке расстелили выбеленные и дубленые узорные шкуры, на шкурах расставили угощение — мясо сушеное и печеное, рыбу сырую и вареную, съедобные травы, сладкие ягоды, душистый мед в туесах. Много наехало гостей: пам Анюш, с Иньвы-реки два брата, Паль и Кэч, с Косы-реки князь Юкся. На почетных местах, рядом с женихом и невестой, сидели Купра и Май, Пэвсин и ведунья Чыкыш. Три дня гуляла чудь, потом гости разъехались.
Задумал Кудым-Ош торговать с другими землями. Велел он построить легкие и широкие лодки, нагрузить их звериными шкурами и собрался плыть на юг, чтобы обменять там шкуры на оружие, ткани и украшения.
Но чужеземцы опередили Кудым-Оша, первые приплыли со своими товарами. Кликнули дозорные Кудым-Оша, вышел он на берег, спрашивает гостей, с чем прибыли. А они своего товара не показывают, говорят:
— Там, где восходит солнце, живет наш добрый хан. Он послал нас к тебе, Кудым-Ош. Мы хотим выменять у тебя меха и шкуры, у нас есть на обмен богатое оружие для тебя и твоих воинов, дорогие ткани и украшения для женщин, сласти для детей.
Стали они показывать мечи и копья, кумач и парчу, серьги и кольца. Обрадовался Кудым-Ош гостям, но не хотел впускать их за ограду — в городе было в ту пору мало защитников, все лесовать да рыбачить ушли. Но народ стал просить впустить купцов. Вошли они в город, но не бросили, по обычаю, в воротах ни одной монеты, не раскрыли своих коробов с товарами, а схватились за мечи и луки.
Первая стрела пронзила сердце Кудым-Оша. Брызнула кровь, упал богатырь на землю, прижался к ней могучей грудью, и от соприкосновения с матерью-землею зажила рана, вернулась сила к Кудым-Ошу. Вскочил он на ноги. Не нашел своего копья, схватил тяжелую жердь, стал ею бить врагов.
Другая стрела ударила Кудым-Оша в грудь. Опять упал он на землю, и опять земля предков дала ему свою силу. А от третьей стрелы упал Кудым-Ош на спину, не может он прижаться сердцем к родной земле, не может залечить рану.
Стали враги требовать с чудин дани. Сказала старая Пэвсин:
— Дадим им, что они требуют, не будем ничего таить. Не отдадим добром, они возьмут силой, да еще самих заберут, а детей в реку побросают. Несите свое добро, не жалейте, наше к нам вернется.
Принесли чудины дорогие меха. Наполнили враги до краев свои легкие лодки и оставили городище. Недалеко они отплыли, стали добычу делить, глянули — а в лодках один камыш. Разгневались, повернули обратно к городищу.
Тем временем ведунья Чыкыш оживила Кудым-Оша и других воинов.
Увидел Кудым-Ош, что возвращаются вражеские лодки, схватил камень в двенадцать пудов и бросил его в реку. Поднялась страшная буря, опрокинула лодки. Выбрались враги из воды, двинулись к городищу, а буря на их пути деревья валит, дорогу загораживает. Три дня бушевала буря, три дня не могли враги подступиться к городищу. На четвертый день повел Кудым-Ош своих воинов на врагов. Начался бой. В том бою Кудым-Ош многих взял в плен и среди них самого атамана. Упал атаман в ноги Кудым-Ошу:
— Отпусти меня, пам, к моим женам и детям, я тебе заплачу богатый выкуп!
— Ничего мне не надо, кроме оружия.
Отобрал Кудым-Ош у пленных оружие, роздал своим воинам, а ружье атамана взял себе. Потом поставил на бересте свой знак, отдал бересту пленным и отпустил их на все четыре стороны.
Прошло некоторое время, и Кудым-Ош вновь собрался в южные земли, в устье Камы и еще дальше. Перед дорогой собрались чудины на мольбище. Чтобы путь был счастливым, принесла ведунья Чыкыш угощение мудрому Войпелю, лесному царю Сюрапеле и водяному Вакулю.
Потом Кудым-Ош пошел на могилу своего отца, старого пама, натянул тугую тетиву и пустил стрелу в большую сосну, что стояла над могилой. Попала стрела прямо в середину меты: значит, дорога будет удачной.
Проводила старая Пэвсин своего сына, проводила прекрасная Костэ своего мужа, проводил отца малый сын, проводил своего пама весь чудской увтыр.
День плывут ладьи Кудым-Оша, другой плывут, вышли на Каму. Когда молодой месяц состарился и на ущерб пошел, приплыли в большой город.
Привязали ладьи у берега, а сами пошли к здешнему князю, понесли ему свой товар.
Понравились чудские меха князю и его людям. Нанесли они в обмен кумач и парчу, золотые и серебряные украшения, узорные чаши и кувшины.
Велел князь угостить гостей. Усадили чудинов на мягкие ковры, налили им вина, положили хлеба. Кудым-Ош во многих краях побывал, а хлеба никогда не видел. Попробовал он — не мясо, не рыба, а вкусно. Стал спрашивать хозяев, как они добывают хлеб.
Князь показал на поле:
— Вот хлеб растет.
Кудым-Ош попросил немного зерна. Добрые хозяева дали ему зерна и научили, как сеять его, как жать, как молотить и как печь хлебы.
Вернулся Кудым-Ош домой, посеяли чудины рожь и ячмень, собрали первый урожай и весь его оставили на семена, на следующий год опять посеяли и собрали богатый урожай.
Созвал Кудым-Ош гостей из ближних и дальних земель, устроил пир, угостил всех хлебом.
Позавидовал Кудым-Ошу чудской князь Юкся с Косы-реки и решил идти на него войной, отнять хлеб.
Узнал об этом Кудым-Ош, велел навострить ножи и топоры, намазать стрелы густым ядом и повел своих людей против князя Юкси.
О старый Войпель, и ты, великий бог Ен! Или не видят ваши глаза и не слышат ваши уши? Или отвернулись вы от чудского народа? Брат на брата точит нож, чудин на чудина идет войной, а вы не остановите их! Или вам нужна кровь человеческая? Или вы хотите слышать рыдания женщин и видеть осиротевших детей?
Не помешали войне мудрый Войпель и великий бог Ен. Сошлись два войска на Косе-реке, как нож и камень сошлись. Оба войска насмерть стоят. День бьются, ночь бьются, земля у них под ногами дрожит, стонет парма, ручьями течет кровь в Косу-реку, багрянит чистую воду.
Три дня, три ночи бились, все воины полегли, остались на поле только Кудым-Ош и Юкся. Оба они совсем обессилели, не могут от усталости поднять ни копья, ни меча. Собрал Юкся последние силы, взмахнул мечом, да не удержал его, уронил и сам упал. Падая, протянул он руки к Кудым-Ошу. Кудым-Ош подумал, что старый Юкся предлагает мир. Забыл он тут свои обиды, остудил гнев, успокоил сердце, пожал Юксе руку и сказал:
— Ты погубил много людей и заслуживаешь наказания, но видит Войпель, ты каешься в своих злодеяниях и первый протягиваешь руку. Так будем же жить с тобой в мире, и пусть вся чудь навеки живет в мире и дружбе.
Так оно и стало. Кудым-Ош со всеми поделился хлебом, дал зерна и Купре и Маю, Кэчу и Палю, Анюшу и Юксе. За это все соседи любили и благословляли Кудым-Оша.
Прожил Кудым-Ош сто лет и еще полста. Наконец пришла за ним смерть.
Собрал Кудым-Ош весь свой увтыр и сказал:
— Когда я умру, положите тело в кедровый гроб, обейте его кованым железом и закройте крепко-накрепко, чтобы ни капли воды туда не просочилось. И буду я там спать, а настанет время, проснусь — и тогда придет к вам счастливая жизнь. Но вы не ждите ее сложа руки, а сами ищите счастья. И никогда не воюйте с соседями, дружите с ними.
Сказал так чудской пам Кудым-Ош и заснул крепким сном.
В. Климов
О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ИМЕНА ПАРМЫ

Перевел В. Муравьев
Нас окружают сотни географических названий: названия городов, деревень, рек.
А задумываемся ли мы, почему журчащая возле нашей деревни или поселка речушка называется Гудырья? Почему коми-пермяцкие деревни носят такие названия, как Киев, Сибирь, Перемка?
Кто и когда придумал их?
Один старик на этот вопрос ответил мне так:
— По Каме и прежде много деревень было, и все они были некрещеные и безымянные. Вот святой Степан сядет на большой камень и плывет на нем, будто на плоту, по Каме. Плывет и смотрит, где какая деревня стоит. Видит: на угоре деревня торчит, дает имя ей — Керос; видит: на парме — Дзибьян, значит. Так по всей Каме проплывет, а потом и по другим нашим рекам — по Иньве, Косе, Велве, Обве. Плывет то на камне, то на кочке, то на своем колпаке и каждой деревне свои имена дает. А урманы* да болота, где никто не селился, никак не называет. Но это было не так. Названия деревням, конечно, не святые придумали, а дали простые люди, которые жили в тех местах. Скажем, поставил Далмат (было такое имя) избушку на новине — соседи назвали ту однодворку Далматы, которая со временем превратилась в большую деревню. Болотистый лес назвали Согра — заросшее, глухое болото; голый угор между двумя логами — Ошкымэс — медвежий лоб; посад в березняке — Березняки. Немало селений получили свои названия от названий рек — Нытва, Гайва, Усолье, Верх-Иньва, Красновишерск.
Встречаются названия, смысл которых прост и ясен. Например, Липовая гора. Менее понятны названия, которые произошли от русских, теперь устаревших или диалектных слов: Оханск (охань — вид сети, верши), Курья (речной залив), Слудка (слуда — высокий берег), Кулиги (поляна в лесу), Исады (речная пристань), Урман, Раменье (лес, чернолесье). И конечно, восходящие к языкам финно-угорских племен, некогда населявших земли Прикамья. Летописи отмечают, что «в Перми Великой жили зыряне, вятчане, лопь, корела, югра, вогулы, пертасы, гамаль чусовская». По соседству с ними жили водь, весь, меря, мурома, мещера. Вот они и оставили нам на память свои названия — свидетелей тех далеких времен. Немало прикамских имен произошло от языков коми, коми-пермяков и удмуртов. Это и понятно. Их предки, как показывают археологические данные, жили в наших местах еще три тысячи лет тому назад.
_______________
* У р м а н — лес, чернолесье.
КАРЫ И ГОРТЫ — ЖИВАЯ ДРЕВНОСТЬ
В Прикамье встречаются географические названия, оканчивающиеся на «кар». «Кар» — означает «крепость, городище, город».
Возьмем дорогое для коми-пермяка название — Кудымкар, столицы Коми-Пермяцкого автономного округа. В этом слове тоже, как видим, имеется «кар». О происхождении этого названия народ рассказывает в легенде «Богатырь Кудым-Ош».
Некоторые ученые считают, что это название произошло от «кудыма кар», что в переводе означает «городище в сосновом бору». Город и правда стоит в окружении лесов.
Очень древнего происхождения названия с окончанием — «горт», что у коми означает — «дом, родина, жилище». Так, название села Пешнигорт восходит к имени богатыря Пеша, жившего некогда на круглом холме Чевван, окопанном глубоким рвом.
На севере Коми-Пермяцкого автономного округа, на старой сибирской дороге, есть села Юксеево, Пуксиб, деревни Чазево и Бачманово. Исконные коми-пермяцкие названия этих населенных пунктов звучат так: Юкси или Юксьэв, Пуксипи, Чадз, Бачман. Предание говорит, что так звали четырех братьев. В один прекрасный день они отделились от родителей, выбрали себе места для гортов и начали строиться. А на всех братьев отец выделил только один топор — вот и весь строительный инструмент. Срубит Юкси сосну, отешет и, перед тем как на стену поднять его да на мох положить, кричит брату:
— Эхей, братушко Бач! Лови-ка топор! — и кидает через леса.
Поработает топором Бачман и перебросит его на другую парму, где Чадз обосновался, а тот передаст Пукси. Так они и сделали одновременно четыре починка.
Коми-пермяцкая деревня Киев, тезка столицы Украины, ничего общего с украинским не имеет — это случайное совпадение звуков. Название деревни произошло из древнекоми слов «ки» — «камень» и «йыв» — «вершина, начало, исток».
Ну а что же значит название Пермь?
Город Пермь и Пермь Великая — разные понятия. Историческая Пермь Великая была большой землей, лежащей между нынешней Удмуртией и Уральскими горами, между Чусовским озером на севере и рекой Чусовой на юге. А севернее Перми Великой была еще и Пермь Малая. Эти три Перми, такие далекие и разные, все же имеют одинаковое название.
Древнескандинавские саги, рассказывая о богатой сказочной земле Биармии, имели в виду, наверное, Пермь Великую. Эту землю, надо полагать, знали финны, потому что по-фински «паарма» — «крайняя земля»; русские назвали ее по-своему — «Пермь».
Имеется и другое объяснение происхождения этого названия. Некогда в этих местах жили два племени — пер и емь, чьи земли и стали называть общим именем Перемь. Кстати сказать, у пермяков и зырян был бог Войпель, или просто Пель, которого иногда легенды называют и Пер, Перя. В честь божества предки пермяков совершали жертвоприношения — приносили «Пелин хлеб», «хлебец Пеля» — пельнянь, ныне известные всем пельмени (в Поморье их кое-где называют пермени). Вполне вероятно, что некогда земли по Каме могли называться «Пер ма» или «Пер му» — «земля Пер». Коми-пермяки город Пермь до сих пор называют Перма или Перем.
Но какое бы объяснение мы ни приняли, точно известно, что название города Перми произошло от имени древней земли, которую разные народы произносили каждый на свой лад — Паарма, Биармия, Перем, Перма.
КАМА И ЕЕ СЕСТРЫ
— Извилистая-петляющая, ты куда день и ночь спешишь?
— А ты, стриженый-чесаный, чего спрашиваешь?
Загадка о реке и береге.
Много рек, извилистых, петляющих, протекает по нашей планете. Одни известны всему миру, других знает одна страна, а есть и совсем безвестные и безымянные.
Самая большая, самая известная река на Урале — Кама. Она берет начало в Удмуртии и сначала течет на север, потом поворачивает на восток и через земли Коми-Пермяцкого округа идет к селу Бондюг, а затем круто меняет направление на юг и мимо Перми уносит свои могучие воды снова в Удмуртию; в Татарии она сливается с Волгой.
Вдоль Камы с незапамятных времен селились разные народы, и все они хорошо знали реку. По ней булгарские, хазарские и другие торговые люди плавали в Пермь Великую, выходили на Печору, Северную Двину и Вычегду.
Многое повидала Кама-матушка. На ней хозяйничала когда-то камская вольница, плыли Ермаковы дружины, плавали новгородские ушкуйники.
Так что же означает это всем знакомое и такое непонятное название — Кама?
Однажды прогневался бог на людей и послал на них великую кару — проливной дождь. Льет дождь неделю, две, месяц ливмя льет. Размокла земля, холмы и бугры дождем размыло, реки морями разлились. Вот-вот всю землю затопит, всех людей загубит. И тогда один богатырь догадался, что надо воду увести. Взял богатырь большой-пребольшой валун, заарканил его веревкой и потащил по земле — сделал русло. Потекла вода за богатырем, и земля пермяков снова стала сухой и цветущей.

Вот тогда и назвали новую реку по имени богатыря — Кам ва — река Кама.
В коми-пермяцких сказках существует злой Кам, который никому не дает огня, а если кто придет к нему, того он изжарит на огне. Но в древние времена, при родовом строе, Кама представляли себе другим — он был хранителем огня, лекарем, жрецом, и люди почитали его. Древняя легенда восходит к тем временам и рассказывает о таком добром Каме, который вызволил свой род из беды.
Многие ученые полагают, что в основе названия реки лежит слово «кам», что у пермских народов означало — «человек» или название рода.
Можно допустить и другое толкование слова «кам», которое я считаю более правильным; это слово, очень древнее и означает просто «река».


В ШКОЛЕ, ДОМА, В ЛЕСУ

Т. Фадеев
НЕ БОЯТЬСЯ ДЕЛА
Рассказ

Перевел В. Муравьев
Коля Кунаев учится в шестом классе. Учится он плохо, перебивается с тройки на двойку, и особенно не любит уроков труда. Когда учитель труда Сергей Иванович дает ему задание, Коля говорит: «Я не умею» — и ничего не делает.
Неизвестно, сколько бы так продолжалось, если бы не один случай.
В пятницу Коля сбежал с урока труда и пошел кататься по льду, не жалея подметок. Мороз был крепкий, скоро у Коли замерзли ноги. Он забежал в школу погреться, зная, что уроки уже кончились и в классе в это время никого нет. Но в классе был Миша Матвеев. Он стоял у окна и пальцем что-то рисовал на запотевшем стекле.
— Ты что, забыл чего? — спросил Миша.
— Ноги замерзли. Давай в ляпу поиграем.
Они стали бегать по классу, поднимая пыль, пока ноги у Коли не отошли.
Тогда он взял учительский табурет, поставил его на одну ножку и, усевшись на него, стал крутиться, словно циркач, но потерял равновесие и вместе с табуретом грохнулся на пол. Ножка у табурета треснула, тут в класс вошла учительница. Она посмотрела на Колю, на сломанный табурет и строго сказала:
— Завтра чтобы починил. Не починишь — купишь новый.
Учительница ушла. Коля прислонил табурет к ножке стола и вышел из класса, мрачно размышляя:
«Легко сказать — «купишь новый»! А на какие деньги? И так в кино раз в неделю хожу».
Дома Коля сел за геометрию. Понадобилось ему достать из стола циркуль. Ящик стола давно уже не выдвигался как полагается и, чтобы достать что-нибудь из него, надо было снимать столешницу. Она была старая и от протирания песком стала совсем тонкой. Коля, как всегда, поднял столешницу, но она выскользнула у него из рук, упала на пол и раскололась пополам. Коля растерялся, стал думать, как скрепить половинки, но так ничего и не придумал, а просто положил их на место и покрыл клеенкой.
Вечером пришла учительница и пожаловалась матери на Колю. Чтобы не слышать ругани матери, Коля рано лег спать, а утром пораньше встал, надеясь незаметно ускользнуть из дому. Но мать заметила его, поставила на стол тарелку супа и сказала не очень ласково:
— Садись ешь.
Нечего делать, пришлось Коле садиться за стол. Только он облокотился, как столешница подпрыгнула и вместе с тарелкой полетела на пол. Тарелка разбилась вдребезги, жирный суп вылился на Колины штаны.
Глянула мать на Колю и все поняла.
— Мало, видать, я тебя учила.
Она сняла со стены ремень и несколько раз огрела им сына по спине. Потом подала ему пальтишко, сунула в руки половинки столешницы и сказала:
— Пока не починишь, домой не являйся! — А вслед крикнула: — И чтоб табурет был починен!
После уроков все разошлись по домам, а Коля нехотя поплелся в мастерскую.
— Что-нибудь натворил? — не очень приветливо встретил его Сергей Иванович.
Коля показал ему сломанную столешницу и табурет, учитель покачал головой и сказал:
— Ну что ж, берись за дело. Сумел сломать, сумей и починить.
Он дал Коле инструменты и отошел от него. Коля принялся за табурет. Отпилил брусок для ножки, долго строгал, но ножка вышла кривая; бросил ее Коля, взял другой брусок и опять испортил. И так несколько раз: ножка выходила то кривая, то тонкая, то короткая. Коля вспотел, на руках у него вздулись мозоли, спина заболела от усталости, а ножка все не получалась.
— Ну что, мастер, скоро ли будет готово? — спросил Сергей Иванович. — Я ведь по твоей милости еще не обедал.
Коля стоял весь красный.
— Не выходит, что ли?
— Не выходит.
— Вот видишь, сломал ты за одну минуту, а починить не смог и за час. Нехорошо! Сам ничего не умеешь делать и чужой труд не бережешь! Смотри. — Сергей Иванович сам принялся за табурет.
Коля смотрел и удивлялся, как легко и ровно берет в руках учителя шерхебель, который у Коли еле двигался по доске. А фуганок режет так тонко и гладко, будто утюгом гладит. Каждую деталь Сергей Иванович измерял несколько раз, чертил по угольнику, доски у него получались прямые, одинаковой длины и толщины. Через полчаса все было готово. И табурет был починен, и столешница склеена. Сергей Иванович поставил ее поближе к печке, чтобы скорее высох столярный клей.
Домой Коля шел весело. Он твердо решил, что отныне будет учиться все делать сам.
На другой день Коля первым пришел в мастерскую на урок труда и сказал:
— Сергей Иванович, дайте мне работу.
— Что же ты хочешь сегодня делать?
Коля ответил:
— Я ничего не умею, но буду учиться.
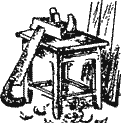
В. Исаев
ЛОСЕНОК С ЛЕНТОЙ
Рассказ

Перевел В. Муравьев
День выдался на редкость хороший, теплый, настоящий майский денек.
После уроков Миша сказал Ване:
— Пошли сегодня по клюкву.
— Что ты, какая клюква весной?
— А та, что с прошлого года осталась. Она за зиму не портится и очень вкусная.
— Ну, пошли.
Ребята занесли портфели домой и отправились в лес. Дошли до Пугыр-болота, где росла клюква. Ее было совсем немного. Они долго ходили по болоту, потом вышли на пригорок, поросший частым кустарником. Когда-то здесь был лес, его вырубили, и теперь среди мелкого осинника и кустов возвышалось лишь несколько старых осин и берез.
— Какие осины огромные! — сказал Миша. — Интересно, сколько им лет?
Вдруг Ваня испуганно вскрикнул:
— Ой, там кто-то лежит!
— Где?
— Вон под той осиной. Видишь? Идем лучше отсюда.
Миша пригляделся и увидел что-то лохматое, неподвижно лежащее на траве.
— Надо посмотреть, что там такое, — сказал Миша. Пригнувшись, вытянув шею, он осторожно стал приближаться к осине, потом остановился и махнул Ване рукой:
— Подходи, не бойся!
Но Ваня нерешительно топтался на месте. Тогда Миша крикнул:
— Лосенок здесь лежит и еще кто-то, мех очень красивый.
Ваня робко подошел.
— Это рысь, — сказал он. — Отец в прошлом году принес такую с охоты.
Миша оглядел землю вокруг и сказал:
— Все понятно. Это лосиная тропа, они тут ходят на водопой на Нипанку. Рысь подстерегла лосиху с лосенком, бросилась на них с дерева и вцепилась в лосенка, но лосиха стала биться с рысью. Видишь?
Миша показал на глубокие следы лося на земле, поломанные кусты можжевельника, развороченный мох.
Вдруг лосенок дернул ногами. Ребята бросились к нему.
— Он живой! — закричал Миша. — Ой, какая рана на шее!
— Надо его перевязать, — сказал Ваня. — А то подохнет. Вон кровь-то как течет!
Миша снял рубаху и сказал:
— Давай сюда ножик.
Ребята отрезали от рубахи длинный лоскут, положили лосенку на рану листья подорожника, как это делала Мишина бабушка, когда он порезал себе палец, и перевязали. Лосенок тяжело дышал. Ребята сидели над ним и думали, как доставить его в деревню.
Вдруг затрещали сучья, Ваня взглянул и обмер:
— Лосиха! — Он схватил Мишу за руку: — Бежим скорее отсюда! Говорят, лось, если рассердится, ногой может дерево свалить...
Прибежав домой, мальчики рассказали, что видели на болоте.
Мишин отец спросил:
— Значит, рысь задрала лосенка?
— Не задрала, а только хотела. Лосенок жив остался, мы его перевязали, — сказал Миша. — А потом вернулась лосиха, и мы убежали, даже ягоды там бросили.
На другой день Мишин отец пошел с ребятами на Пугыр-болото. Как же удивились они, когда на поляне, неподалеку от болота, увидели лосиху и лосенка с белой повязкой на шее. Лосиха не испугалась людей, но все же тихонько увела лосенка в лес, ласково поглядывая на ребят, словно говоря: «Спасибо вам».
Шкуру рыси Мишин отец принес домой. Весенняя шкура худая, в заготларек ее не приняли, но из нее получилось хорошее чучело для школы.
Кто не видел рыси, приходите посмотреть.
А можно сходить на Пугыр-болото, может быть, встретите там спасенного Мишей и Ваней лосенка. Только он теперь уже большой и, наверное, без белой ленты.

В. Кучева
ПОЛТИННИК
Рассказ

Перевел В. Муравьев
День начался хорошо. Во-первых, Витька получил пятерку по математике и учитель похвалил его, во-вторых, их класс отпустили с последнего урока.
Витька весело бежал домой, в интернат. В одной руке он держал портфель, а другой прикрывал то одно, то другое ухо — день был морозный.
В интернате было тихо, ребята еще не вернулись из школы. Витька сел к столу. Попробовал играть в шашки и в домино, но играть самому с собой неинтересно. Ему стало скучно, к тому же очень захотелось есть.
Он решил посмотреть, нет ли хлеба в тумбочке у кого-нибудь из товарищей. Витька понимал, что это нехорошо, но голод оказался сильнее совести. Он оглянулся на дверь и открыл тумбочку своего соседа, восьмиклассника Саши. Ничего съестного там не оказалось, только книги и тетради. Витька хотел было уже закрыть тумбочку, как заметил на верхней полке немного мелочи. Рука сама потянулась пересчитать деньги. Среди них оказался полтинник с зарубкой на ребре. И Витька, сам не зная как, положил полтинник себе в карман.
Он быстро вернулся к столу, стал ворошить кости домино, а сердце колотилось, лицо горело, и какой-то голос шептал: «Вор! Вор!»
Скоро пришли восьмиклассники. Они побросали портфели, переоделись и побежали кататься на лыжах. Взяли с собой и Витьку.
В другое время он был бы рад этому, но сегодня катание на лыжах не доставляло ему никакого удовольствия. Взятый из чужой тумбочки полтинник не давал ему покоя.
«Надо его поскорее истратить», — подумал Витька и ушел с горы.
Сначала он хотел пойти в интернатскую столовую, но, решив, что там с чужими деньгами можно попасться, побежал в сельскую столовую.
Еще на крыльце почувствовал он вкусный запах жареной рыбы. Зашел, встал в очередь, но тут ему показалось, что какая-то старушка подозрительно на него поглядывает. Витька выскользнул из очереди и побежал в магазин. Там не было никого, кроме продавщицы. Витька протянул ей полтинник:
— Маленькую шоколадку и пачку печенья.
Продавщица взяла полтинник и поднесла его к глазам.
«Попался!» — подумал Витька, схватил шоколадку и печенье и скорее пошел к выходу.
— Постой! — закричала продавщица.
Витька остановился ни жив ни мертв.
— Сдачу забыл!
У Витьки отлегло от сердца. Он взял несколько медяков и выскочил из магазина.
Вечером Саша заметил пропажу полтинника. Все всполошились, пришел воспитатель, стал допытываться, кто взял, но никто не признался.
Тогда Саша сказал:
— Наверное, я сам его где-нибудь потерял.
Тем дело и кончилось.
Пришла весна. Саша окончил восьмой класс и уехал в город учиться. Витька перешел в пятый класс, учился он хорошо, но каждый раз, когда учителя хвалили его и ставили в пример другим, он вспоминал украденный полтинник, и ему становилось стыдно.
Как-то в субботу, когда Витька пришел из интерната домой, мама послала его в магазин. Витька купил все, что надо, и на улице стал пересчитывать сдачу. Вдруг среди медяков и серебра сверкнул полтинник с зарубкой на ребре. Витька поспешно оглянулся кругом, но на улице никого не было, только солнце сияло в небе, словно смеялось над ним.
Витька выпросил у матери этот полтинник и побежал к Саше домой. Но Сашу ждали только к вечеру.
Весь день томился Витька, не знал, чем себя занять, сторонился приятелей. Задолго до прибытия вечернего автобуса он уже ждал на остановке.
Саша приехал усталый, прошел мимо Витьки, не заметив его. Витька собрался с духом, окликнул Сашу и протянул ему полтинник с зарубкой на ребре.
— Помнишь, зимой... Это я взял, — сказал он, запинаясь.
С Витькиной души свалилась огромная тяжесть, и ему стало легко и весело.

В. Климов
«ПЫЛАЙ, ПЫЛАЙ!»
Рассказ

Перевел В. Муравьев
Всю ночь выл, ревел и свистел неистовый ветер. Ухая, он срывал с вековых елей висевшие на них лохматыми гирляндами старые шишки, трепал космы сивых «лешачьих волос».
На опушке леса стояла невысокая, но очень густая ель. Под ее ветвями прятался, как под надежной кровлей, шалаш деда Митрока. В шалаше, покрытом берестой, было всегда тепло и сухо.
На зорьке дождь перестал, небо прояснилось, и только на западе еще висели хлопья рваных облаков. Обессилевший ветер теперь тихо-тихо шептал что-то старой ели — может быть, просил у нее прощения за ночное буйство.
Дед Митрок, лежа на топчане, прислушивался к шуршанию ветра в еловых ветвях. Ему не хотелось вставать, потому что всю ночь ломило в костях и он почти не спал. Так всегда бывало в непогоду. На людях дед Митрок старается держаться бодро, но годы, что ни говори, берут свое. Да, прожить восемьдесят лет — не ложку с медом облизать...
Тр-р-р... — громко застучал на соседней сосне дятел.
— Ишь будильник! — ухмыльнулся старик. — Ладно, встаю, встаю...
Он поднялся и, держась рукой за поясницу, вышел из шалаша. Утреннее солнце слепило деду глаза, пригревало голую макушку и ноющие коленки. Хорошо бы посидеть на солнышке, погреться в его ласковых лучах, но надо посмотреть хозяйство — не наделал ли ветер ночью беды. Плеснув из чуманка* воды на лицо, дед утерся стареньким полотенцем и заковылял на пасеку.
Ульи стояли на широкой полянке рядами, образуя как бы четыре улочки. Внук деда Митрока, Минька, дал им даже названия: Кипрейная, Ключевая, Куропачий луг, Ромашечник.
Еще издали дед заметил, что ветер повалил один улей, и забегал, захлопотал, приводя все в порядок.
Пока ставил улей, подошло время обеда. Дед Митрок решил подождать Миньку, который еще вчера вечером ушел домой в деревню за луком и редькой. Обещал вернуться к обеду, да вот что-то задержался. А без внука у деда и аппетита нет. Да и что за обед без редьки! Редька с медом — любимая еда деда Митрока. Он постоянно твердит Миньке:
— Ешь, как я, редьку с медом — сто годов проживешь!
А Минька только смеется:
— Я лучше одного меда поем. Он без редьки-то слаще.
— Так-то оно так, а только с редькой полезнее.
— Горькая она, твоя редька, — не сдается внук.
— Горькая? — начинает сердиться дед. — Так ведь с медом! А с медом и старый лапоть проглотишь...
«Что-то не идет мой Минька, — сокрушенно вздохнул старик. — Ну да ладно, пока сенцо в валки сгребу...»
_______________
* Ч у м а н о к — берестяной ковшик.
Плохая нынче трава — редкая да низкая. Зима стояла бесснежная; весной земля оголилась на две недели раньше срока. А тут, как на грех, похолодало, и потом до самого сенокоса дождей не было. В сухое лето хорошей травы не жди. Вот и пришлось деду Митроку собирать сено для своей Пеструшки чуть ли не по травинке.
Дед Митрок сперва литовкой косил, да уж больно быстро она тупится, потому что трава нынче и в росу жесткая, а днем — ну прямо проволока. Тогда наладил он старую горбушу, что висела в сарае, на всякий случай. Хорошая горбуша, острая, словно бритва, да не по годам деду кланяться траве в пояс. И он брался за литовку, а горбушей орудовал Минька. Всю траву по кустам выкосил, повытаскивал ее на поляну, а как высохла — к стогу подгреб. В самую жару, когда деду становилось невмоготу и он отсиживался в холодочке, Минька не бросал грабель, спешил, чтобы сено дождем не попортило, — очень уж трудно оно досталось.
Хоть и плохая нынче трава, а у пасечника уже стоят три стога сена. И все три как на картинке — ровные, плотные, ни одна капля дождя внутрь не просочится.
День был жаркий; солнце, ясное и желтое, как медовые соты, висело над головой.
«Не будет дождя, — решил старик. — А раз так, значит, можно и отдохнуть».
Он сел на хрустящее сено, отбросил в сторону самодельную войлочную шляпу и, вытащив из-за пояса большой ситцевый платок, вытер голову, блестевшую от пота. Потом с прищелком открыл табакерку, достал щепоть табаку, но тут до него донесся крик:
— Э-эй!..
— Минька кричит! — обрадовался старик. — Явился!
Минька бежал уже по поляне что есть силы и что-то кричал, размахивая холщовой сумкой, но старик не мог разобрать слов.
— Эка орет, ровно заблудился, — недовольно проворчал он.
Минька, с трудом переводя дух, подбежал к деду и бросил сумку на землю. В его маленьких, быстрых, как у ящерки, глазах застыл испуг.
— Человека убило!..
Дед Митрок по-молодому вскочил на ноги.
— Какого человека? Где?
— Там! — Минька махнул рукой. — Лесиной придавило!..
— Где там? Не тараторь, говори толком.
— Там, у Турпан-лога...
— Ах беда! Идем скорей, покажешь... — И старик, забыв даже надеть шляпу, торопливо зашагал к логу.
Минька семенил рядом.
— Ну где же?
— Дерево без вершины видишь? Так под ним...
Молодой мужчина в коротком дождевике и длинных, с отворотами резиновых сапогах лежал, придавленный обломившейся вершиной пихты. Его глаза были закрыты. Кто он — пастух, нефтеразведчик, грибник? Наверно, ночью, в бурю, вершина обломилась, а утром, когда мужчина проходил под деревом, она рухнула вниз.
— Берись за тонкий конец! — приказал старик Миньке.
Они сняли лесину. Человек, не открывая глаз, глухо застонал, его губы слегка шевельнулись.
Дед Митрок опустился на колени, приподнял голову парня: на темени виднелась широкая кровяная полоса.
— Сучком задело, — сказал дед Митрок. — Беги-ка, Минька, к шалашу, притащи воды и меду! Живо!
Дед перевязал голову раненого своим большим ситцевым платком.
Запыхавшийся Минька принес туесок с медом и воду в берестяном чуманке.
— Давай сюда! — дед принялся разводить мед водой. — Это мед первого взятка... — приговаривал он. — Майский мед — первостатейный! Самый лечебный... Лей-ка ему в рот. Да помаленьку...
Минька стал лить медовую воду тонкой струйкой в рот раненому. Глаз незнакомец по-прежнему не открывал и, казалось, побледнел еще больше.
— Врача нужно, — прошептал Минька.
Старик покачал головой:
— Где его возьмешь? До деревни десять верст, до райцентра — сорок. Кабы ты на велосипеде был, а так, пешком, засветло не успеешь. Вот что, Минька, беги-ка на Карин мыс, может, лесника на покосе застанешь. Пусть приедет на лошади. А не найдешь лесника, шпарь домой, бригадиру скажи. Я тут дожидаться стану.
Минька пустился было бежать, но тут послышался гул, и над лесом показался вертолет. Он летел медленно и очень низко, будто высматривал кого-то в лесу.
— Дедушка, вертолет! — закричал Минька. — Пожарник!
Он выбежал на поляну, сорвал с себя рубаху и стал вертеть ею над головой.
— Эй! Эй! — кричал Минька что было силы. — Эй, дяденька!
Но летчик, наверно, не заметил его: вертолет медленно удалялся.
Чуть не плача, Минька вернулся к деду, волоча рубаху по земле.
— Улетел!.. — Дед понурился, но вдруг поднял голову: — Пожарник, говоришь? — Он быстро полез в карман и протянул внуку коробок спичек: — Зажигай стог!
Минька не поверил своим ушам. Он растерянно стоял перед дедом, мигая глазами.
— Ну, кому сказано! — прикрикнул на него дед. — Зажигай со всех сторон!
Вертолета уже не было видно, когда вверх взметнулся высокий столб огня и дыма.
Дед Митрок осторожно положил голову раненого на траву и, подобрав брошенную Минькой рубаху, подошел к пылающему стогу.
— Вернется... Должен вернуться, — твердил он, прислушиваясь к отдаленному стрекоту вертолета. — У него должность такая — пожарник... Пылай, сенцо, пылай!
Услышав последние слова деда, Минька запрыгал на месте и тоже закричал:
— Пылай, пылай!
Расчет старого пасечника оказался верным — через несколько минут вертолет уже кружил над самой поляной.
Дед Митрок напялил на зубья грабель Минькину рубаху и принялся размахивать ими, точно флагом.
Вертолет приземлился у лога. Дед и внук побежали навстречу летчику.
— Что случилось? — строго спросил он. — Отчего стог загорелся?
— Я его поджег! — выпалил Минька, но дед цыкнул на него, и мальчик смущенно умолк.
— Человек при смерти, — сказал дед Митрок. — В больницу его надо доставить. А пожара не будет, об этом не беспокойтесь.
Летчик внимательно посмотрел на мальчика и на пасечника, который все еще держал на плече грабли.
— Где он? — спросил летчик.
Раненый по-прежнему неподвижно лежал на спине, только дыхание его стало частым-частым и под глазами появились синие отеки.
Летчик приподнял незнакомца за плечи, дед с внуком — за ноги, и они осторожно понесли раненого к вертолету. Второй пилот помог втащить его в кабину.
Летчик захлопнул дверцу. Заработали винты, и машина, тяжело оторвавшись от земли, поднялась над лесом, словно большая стрекоза.
Стог уже догорел; от него остался на земле лишь красноватый, подернутый серым пеплом круг.
Когда вертолет скрылся из виду, дед Митрок положил руку на плечо Миньки и сказал:
— Обедать пора. Редьку-то принес?
Минька кивнул.
— Вот и ладно.
И старик, тяжело ступая, пошел к шалашу.

В. Баталов
НА ИНЬВЕ
Рассказ

Перевел В. Муравьев
За лугами садилось солнце.
По узкой тропинке, ведущей к реке, с удочками в руках шли трое друзей — Толик, Коля и Ванек.
— Слушайте, я загадаю вам загадку, — сказал тоненький, наголо остриженный Толик. — Шел охотник. Смотрит — в озере плавают пятнадцать уток. Подкрался он, выстрелил и убил одну утку. Сколько уток осталось?
Плотный, коренастый Коля сразу понял, что загадка не простая, а с подвохом. Только в чем подвох, он не мог догадаться. Коля не любил хитрить и поэтому прямо признался:
— Не знаю...
А Ванек тряхнул кудрявой головой и засмеялся:
— Чего же трудного в твоей загадке? Я сразу отгадал.
— Отгадал — скажи, — посмотрел на приятеля Коля.
— Сам подумай. В четвертый класс перешел, а не можешь решить такую простую задачку, — поддразнил Колю Ванек. — Не знаешь?
— Нет, — буркнул Коля.
— Эх, ты! Четырнадцать уток осталось! — весело крикнул Ванек. — Правильно, Толик?
Но Толик отрицательно покачал головой:
— Вот и не отгадал. Осталась одна убитая утка, а остальные улетели.
Ванек отвернулся и стал насвистывать какую-то песенку.
Тропинка свернула в овраг, заросший густым лесом. Здесь было темно и страшновато. Говорили, что в овраг забредают медведи, и поэтому его называли Медвежьим.
Ребята притихли и невольно прибавили шагу. Но овраг и лес скоро кончились, тропинка поднялась на холм, и перед мальчиками снова открылись широкие луга. С холма хорошо было видно деревню, школу, новый клуб и вьющуюся среди лугов и густого ивняка Иньву.
Толик взглянул на солнце и сказал:
— В это время уже начинается клев. Пошли скорее.
И ребята, подхватив удочки наперевес, побежали.
На реке было тихо и пустынно. Только по самой середине Иньвы плыли одно за другим бревна.
Ребята размотали удочки, насадили на крючки червей и сели на берегу.
Скоро начали попадаться окуни. Больше всех везло Ваньку. Он с трудом сдерживался, чтобы не закричать от радости, не похвастать, а тут, как нарочно, его червяком прельстился круглый подлещик и тоже попался на крючок.
— Уже будет на две ухи, — бормотал Ванек, заглядывая в свое ведерко, — да еще утром наловлю столько же...
Как-то незаметно солнце опустилось на черное болото. Стало прохладно. По лугам, словно пролитое молоко, медленно полз туман.
— Надо костер запалить, — поеживаясь, негромко сказал Толик.
Ребята собрали сухих сучьев и разожгли костер. Толик достал из дедушкиной сплетенной из лыка сумки-пешорки солдатский котелок. Каждый почистил по две рыбы, и вскоре из весело забурлившего котелка пошел вкусный запах ухи.
Ванек зачерпнул ухи ложкой и, подув, попробовал.
— Соли маловато, — определил он.
Коля развернул газету, в которой были завернуты хлеб и соль.
— Смотрите, ребята! Опять в газете портрет Володи Зубова! — воскликнул Коля и, подвинувшись к костру, начал читать: — «На снимке сплавщик Владимир Зубов. Комсомольская бригада, которую он возглавляет, ежедневно перевыполняет норму и заняла первое место среди бригад Самковского леспромхоза».
— Часто пишут о нем, — с завистью вздохнул Ванек.
В это время кипящая уха плеснула из котелка в костер.
— Надо долить! — спохватился Коля и с кружкой побежал к реке за водой.
Он раздвинул кусты и в недоумении остановился: то место, где он всего час назад сидел с удочкой, залило водой, а во всю ширину реки — от берега до берега — сплошняком стояли бревна.
Коля поглядел на затор, прислушался, как плескалась вода и терлись друг о друга бревна, потом закричал:
— Эй, ребята, идите сюда-а!
Затрещали кусты, и к реке кубарем скатились Ванек и Толик.
— Чего кричишь, как будто заблудился? — запыхавшись, спросил Толик.
— Погляди, что тут делается! — показал Коля на запруженную реку.
— Да-а, не придется, видать, утром здесь поудить, — вздохнул Ванек, но тут же облегченно добавил: — А мы на рассвете пониже спустимся, может, там нет затора. Я на той неделе там знаете сколько плотвы натаскал!..
— Да погоди ты со своей плотвой! — прервал его Толик. — Тут дела поважней: за ночь столько лесу наберется, что потом его придется растаскивать тракторами. Надо к сплавщикам сбегать, сказать про затор.
— Верно, — поддержал Коля. — Надо.
— Через Медвежий овраг идти, — задумчиво проговорил Ванек.
Толик посмотрел на Колю, Коля на Толика, и все замолчали.
— Тогда надо попробовать самим разобрать, — неуверенно сказал Толик. — Может, что выйдет...
Он поднял длинную палку и шагнул к ближнему бревну.
— Осторожней! — крикнул Коля и тоже принялся искать в траве жердь.
— Зря вы, ребята. И затор не разберем, и уха остынет, — сказал Ванек.
— Не хочешь помогать, иди к костру, никто тебя не держит, — оборвал его Коля и встал рядом с Толиком. 
Коля и Толик одновременно уперлись шестами в торец крайнего бревна, подтолкнули, и бревно, оторвавшись от берега, крутясь, поплыло по реке.
Одно за другим отставали бревна от затора, но вот ребята дошли до двух толстых кряжей, зацепившихся за берег, из-за которых, верно, и образовался затор.
— Ты, Коля, становись с этой стороны, — распоряжался Толик. — А я толкну здесь. Раз-два, взяли!
Ванек тоже не выдержал. Закатав штаны выше колен, он шагнул к воде:
— Погодите, я помогу.
— Давно бы так! — весело крикнул Коля.
Ванек подвел свою палку под бревно и навалился.
— Раз-два, взяли! — командовал Толик. — Раз-два!
Кряж стронулся с места.
— Еще разик!
Под дружным напором тяжелое бревно нырнуло под воду, развернулось и поплыло. За ним, словно живой, зашевелился весь затор.
— Вот и все, — обрадовался Коля.
Но когда ребята поднялись на берег и оглянулись на реку, то увидели, что чуть выше по течению, метрах в трех от берега, длинное бревно встало поперек реки и за ним плотной серой кучей колышется новый затор.
— Тут уж нам самим не справиться, — вздохнул Коля. — Все-таки придется бежать за сплавщиками...
— Зачем бежать? Сами разберем! — горячился Ванек.
— Без багров не обойтись, — рассудительно проговорил Толик.
— Ну ладно, я пошел, — сказал Коля и оглянулся вокруг. Уже начало рассветать. Только теперь стало видно, как велик затор. — А вы, ребята, не лезьте в реку. Тут опасно, — добавил он.
И вдруг он увидел невдалеке силуэты людей. Люди с длинными баграми на плечах шли берегом в сторону ребят. Когда они подошли ближе, Коля узнал в парне, шедшем впереди, знатного лесосплавщика Володю Зубова.
Володя взглянул на ребят, все еще державших мокрые жерди, и помахал им рукой:
— Помогать вам идем. Примите в свою бригаду?
— Примем, — радостно улыбнулся Коля. — Тут без багров ничего не получится. Я уж собрался бежать за вами...
Володя повернулся к сплавщикам:
— А ну, братцы, скорее! Мы только идем, а люди тут уже работают.
Сплавщики дружно взялись за дело. И когда из-за деревьев блеснули первые лучи солнца, затор был разобран.
Сплавщики и ребята стояли на берегу и смотрели на розовеющую под лучами восходящего солнца воду и медленно плывущие по течению друг за другом кряжи.
С. Федосеев
АЛЕША
Рассказ

Перевел В. Муравьев
Фельдшер Алеша вернулся с обхода на свою квартиру около полудня.
Квартирная хозяйка Степановна, едва он переступил порог, протянула ему телеграмму:
— Тебе, Алеша. Давеча принесли.
Алеша бросил шапку на стул, поспешно развернул телеграмму.
Заметив, как он побледнел, Степановна тревожно спросила:
— Что там? Али недоброе что?
Алеша взглянул на нее растерянно, выговорил через силу:
— Пишут, жена... Валентина тяжело больна.
Степановна схватилась за сердце. С тех давних пор, как ей принесли похоронку на сына, ее сердце часто спотыкается — и чужое горе отзывается в нем острой болью.
— Чем больна-то? — спросила она.
— Не пишут. Поеду я, Степановна. Она ведь там совсем одна.
Он нахлобучил ушанку, по привычке схватил с лавки свой фельдшерский чемоданчик и вышел за дверь.
Стоял ясный зимний день. Но Алеше он показался сумрачным и неприветливым. Утопая в глубоком снегу, он спешил к тракту, и чем сильнее торопился, тем больше заплетались у него ноги, тем медленнее, как казалось ему, двигался вперед.
Наконец Алеша добрался до тракта, по которому день и ночь идут машины.
«Если сразу удастся подсесть в машину, через два часа буду в городе», — думал Алеша.
Он напряженно, до рези в глазах, вглядывался в даль, но машин, как назло, все не было и не было.
«Хоть пешком иди! — нервничал Алеша. — Как она там? Конечно, в городе врачи, без помощи не оставят, но ведь она одна в квартире, каково это тяжелобольному человеку?»
Наконец вдали натужно зарычал мотор.
Машина шла медленно, видно, была тяжело нагружена. Она показывалась из-за увала постепенно: сначала крыша кабины, потом лобовое стекло, радиатор и, наконец, стала видна вся, вместе с колесами.
Алеша увидел, что это МАЗ.
«Только бы не проскочил мимо!» — подумал он и поднял руку.
МАЗ, фыркнув, остановился, шофер открыл дверцу кабины, а Алеша все еще стоял с вытянутой рукой. Ему казалось, что если он опустит руку, то шофер захлопнет дверцу и уедет, оставив его по-прежнему стоять на дороге.
Шофер, удивленно поглядывая на него, достал папиросу, щелкнул зажигалкой.
Алеша стряхнул с себя оцепенение.
— Довези, браток, до города, — с мольбой сказал он. — Жена заболела. Телеграмма пришла.
— Садись, — коротко сказал шофер.
Алеша сел в кабину, захлопнул дверцу, и МАЗ тяжело тронулся с места.
Больше шофер не говорил ни слова. То ли он по характеру был такой молчаливый, то ли не хотел пустыми разговорами тревожить удрученного горем человека.
Мотор натужно пел свою бесконечную песню. Под эту песню Алеша, должно быть, задремал, потому что он не заметил, как на дороге появилась женщина.
Она как будто с неба упала — встала, раскинув в стороны руки, и такая решимость была в ее глазах, вот-вот кинется под колеса.
Шофер резко нажал на тормоз — Алеша чуть не вышиб головой лобовое стекло. Открыв дверцу кабины, шофер высунулся наружу и заорал:
— Ты что? Ошалела?
Женщина подошла к кабине. Была она в легкой телогрейке, платок сбился с ее головы, ветер трепал рассыпавшиеся волосы. Она проговорила голосом, полным слез:
— Люди добрые! Помогите!
— Что у тебя стряслось? — все еще сердитым голосом спросил шофер.
— Девочка у меня... Умирает... — Женщина заплакала, но тут же вытерла слезы, сказала: — В больницу надо!
— Да где девочка-то? — спросил шофер.
Женщина махнула рукой куда-то в сторону от дороги:
— Там. В деревне.
— Далеко твоя деревня?
— Всего два километра, сразу за оврагом. Свернешь? — спросила она с надеждой.
Шофер нахмурился.
— Сама подумай, как я могу свернуть? Видишь, какой у меня груз? Я же в снегу завязну, меня никакой трактор не вытащит. Лови другую машину, без груза.
— Лови! Я уже битый час тут стою — ни одной машины не было, твоя первая. — Женщина снова заплакала.
Шофер развел руками:
— Рад бы помочь, да не могу! — Он взглянул на Алешу, как бы ища у него поддержки.
Алеша и сам прекрасно понимал, что тяжелый МАЗ не пройдет по занесенному снегом проселку, круто спускавшемуся в овраг. Думая об этом, он до боли в пальцах сжимал свой фельдшерский чемоданчик, лежавший у него на коленях. Что делать? Где-то там, впереди, его ждет больная Валентина... А тут, рядом, плачет убитая горем мать.
Он решительно распахнул дверцу кабины, выпрыгнул на дорогу, махнул шоферу рукой: мол, поезжай. Потом повернулся к женщине:
— Идем. Я фельдшер.
И он, не оглядываясь, пошел по тропинке в сторону, указанную женщиной. Она, притихшая, шла следом.
Девочке было лет шесть-семь. Худая, бледная, она дышала часто и поверхностно, чуть приоткрыв синеватые губы. При первом взгляде на нее Алеша понял, что положение очень серьезно: тяжелая форма воспаления легких.
Девочка с доверчивой мольбой смотрела на него.
Алеша сосчитал пульс, выслушал легкие и сердце. Раскрыл чемоданчик, достал шприц, вату, лекарство...
До вечера он просидел возле постели девочки, ночью наступил кризис, ей стало лучше, она перестала метаться и стонать и, наконец, спокойно уснула.
— Кризис миновал, теперь уже не страшно, — сказал Алеша, повернувшись к матери.
Она, всхлипывая, тихо проговорила:
— А я уж думала, что не жить моей Валечке.
Алеша вздрогнул.
— Ее Валей зовут? — переспросил он.
— Да, Валентиной.
— Она будет жить. Но ей необходимо наблюдение врача, — сказал Алеша.
— Завтра наша фельдшерица из отпуска приедет.
— Вот и хорошо. А мне, знаете ли, пора.
Он уложил свой чемоданчик, надел шапку и пальто.
— Поели бы на дорожку, — предложила женщина. — Я быстро соберу.
— Нет-нет, спасибо, я очень тороплюсь, у меня в городе важное дело, — говорил Алеша, застегивая пуговицы. — Очень, очень важное.
В это время девочка открыла глаза. Увидев готового уйти Алешу, она чуть слышно попросила:
— Дядя доктор, не уходи...
У Алеши упало сердце. Он представил себе, что его Валентина, может быть, в эту минуту таким же тихим, слабым голосом просит попить и некому подать ей напиться. А он, вместо того чтобы спешить ей на помощь, сидит у постели незнакомой девочки.
Девочка смотрела на него испуганно и умоляюще, и он не знал, как ему поступить.
В это время на дворе залаяла собака, и в избу вошла закутанная в платок женщина.
— Марья, у тебя, сказывают, Валюшка заболела? — обеспокоенно спросила она. — Не надо ли чего? Ты только скажи, мы все сделаем. И Клавдия, и Елена велели спросить, чем тебе помочь?
— Спасибо, пока ничего не надо, — ответила Валина мать.
А Алеша подумал:
«Наверное, и моя Валентина сейчас не одна. Люди у нас добрые, не кинут человека в беде, поддержат, помогут...»
— Дядя, ты не уйдешь? — тревожно спросила девочка.
Алеша снял шапку, повесил на гвоздь пальто, подошел к девочке и погладил ее по волосам.
— Нет, не уйду, — сказал он, улыбнувшись. — Я побуду с тобой. Скоро ты выздоровеешь, Валя-Валентина...
В. Баталов
НЕХОЖЕНОЙ ТРОПОЙ
Повесть

Перевел В. Муравьев
ДЯДЯ ИЛЬЯ ПРИЕХАЛ
Мальчик стоял у берега по колени в воде. Вокруг его ног шныряли юркие мальки, а изредка набегавшая волна касалась засученных штанин. Мальчик держал в руках длинное березовое удилище и не сводил глаз с белого поплавка — тонкого гусиного пера.
Поплавок шевельнулся, запрыгал и юркнул под воду. От него мелкой рябью разбежались круги. И когда над водой оставался только едва заметный острый кончик пера, мальчик резко взмахнул удилищем. Леска натянулась, и из воды, в брызгах, показался красноперый окунь. Рыбак снял окуня с крючка и положил в висевшую на боку полевую сумку. Потом он неторопливо нацепил на крючок красного червя, поплевал на него и снова закинул удочку.
— Дима, дядя Илья приехал! — послышалось с берега.
По тропинке к речке, размахивая руками, бежала девочка в коротком белом платье.
— Чего ты орешь, Татьяна, всю рыбу распугаешь, — проворчал мальчик себе под нос.
— Иди скорее, а то он уедет! — кричала девочка.
Хотя жаль было уходить с речки, когда клев только начался, но Диме очень хотелось повидать дядю, и он полез на берег, на ходу сматывая удочку.
Димин дядя, Илья Кузьмич Руднев, или, как его все называли попросту, Кузьмич, редко бывал в Гайнах. Он работал лесничим и жил за семьдесят пять километров отсюда, в лесном поселке Серебрянке. Кузьмич был заядлым охотником и рыболовом, а как он рассказывал о разных охотничьих приключениях, о звериных хитростях, рыбьих повадках — заслушаешься!
— Зашла я к вам, вижу, незнакомый человек, — говорила Таня, шагая рядом с Димой, — усы огромные и с завитушками на концах...
— Гвардейские, — вставил Дима.
— Ага, гвардейские... Сам высокий, у нас в Гайнах, пожалуй, нет ни одного такого высокого человека. Твой отец ему говорит: «Значит, спешишь, Илья...» Я сразу поняла, что это Кузьмич из Серебрянки. А он отвечает: «Жаль, что Димы нет дома». Тогда я говорю: «Я сейчас сбегаю за Димой, он на Желтом плесе окуней ловит». И побежала.
Дима и Таня перешли по мостику через бурлящий на дне оврага быстрый ручей и побежали по спускающейся под горку улице к Димкиному дому. Они остановились только возле крыльца. Дима поставил удочку, снял сумку с плеча, пригладил вихры...
— А брюки? — подсказала Таня.
Дима опустил безнадежно измятые штанины, попробовал разгладить их ладонями, поправил воротник и открыл дверь.
— А вот и Дмитрий Федорович! Ну-ка подойди поближе, племянничек, — встретил Кузьмич мальчика. — Да ты скоро меня перерастешь.
Лесничий ласково потрепал Диму по русым, торчащим во все стороны волосам.
— Здравствуй, дядя Илья, ты на сколько дней приехал? А будешь сегодня опять про Серебрянку рассказывать? — спросил Дима.
— Нет, браток, на этот раз не придется нам с тобой договорить, — ответил Кузьмич, подкручивая кончики усов. — Рассказать-то есть о чем, да надо ехать. Дело у меня одно важное.
Дима вздохнул: когда еще теперь приедет дядя Илья в Гайны?
— Не расстраивайся, браток, — вдруг сказал дядя, — хочешь, поедем со мной. На рыбалку сходим, про охоту расскажу. А красота у нас какая! Ну как, согласен?
Дима посмотрел на дядю: не шутит ли? Как будто нет.
Мальчик повеселел, но не отвечал ни слова, переводя взгляд с дяди на отца, развертывавшего у окна свежую газету. Дядя догадался, в чем дело: «Я-то, конечно, согласен, — говорили красноречивые взгляды племянника, — а вот отпустит ли отец...»
— Федор, — окликнул Кузьмич брата, — я хочу твоего сына к себе забрать. Как ты на это смотришь?
— Диму в гости? — переспросил отец и замолчал, раздумывая.
Он медленно, так медленно, что у Димы дыхание перехватило от нетерпения, свернул газету, положил на подоконник и лишь тогда заговорил снова:
— Что ж, пусть посмотрит ваши места. А то по географии получил четверку. Поездит — может быть, будет географию лучше знать, — улыбнулся отец.
У Димы радостно заблестели глаза:
— Дядя Илья, ты на моторке приехал?
— Да, на моторке.
Таня, молчаливо стоявшая в стороне, подошла к Диме сзади и легонько дернула его за рубашку. Дима понял, что ей тоже хочется в Серебрянку и она просит замолвить за нее словечко перед дядей.
— Ну куда тебе! — зашептал через плечо Дима. — Устанешь, заноешь: «К маме хочу...»
— Я не устану, — горячо зашептала в ответ девочка. — Помнишь, как на Черное ходили? Ведь тоже не близко...
— Вы о чем там шепчетесь? — спросил Кузьмич.
— Мы в одном классе с Таней учимся... — уклончиво ответил Дима дяде.
— Ну и что же? Она тоже хочет в Серебрянку?
— Ага...
— Можно и Таню взять, места в лодке хватит, — ответил дядя. — Так!
— Так! — хором ответили Дима и Таня.
— Тогда собирайтесь. Я сейчас схожу в контору лесхоза, а через два-три часа отчаливаем.
— На, путешественник, — сказал отец и, вынув из стола коробочку, подал ее Диме. — Очень нужная вещь в путешествиях.
Отец и Кузьмич вышли во двор. Через окно доносился их разговор.
— Ты, Илья, лучше меня знаешь окрестные леса, — говорил отец. — Леспромхозу дали план по лесу для авиафанеры. Надо найти хороший бор и ставить там новый поселок. Только нет у нас нигде поблизости такого леса...
— Поблизости не найдешь, — ответил лесничий. — По-моему, подходящий лес должен быть где-нибудь в наших местах, возле Адова. Там нужно искать...
Отец с Кузьмичом скрылись за калиткой, и ребята не слышали их дальнейшего разговора.
— Дима, а что в коробочке? — спросила Таня.
— Не знаю.
— Тогда открывай скорей!
Дима открыл коробочку; в ней был новенький черный компас.
— Компас! — с восторгом воскликнул Дима. — С ним в любую глушь зайдешь и никогда не заблудишься!
СБОРЫ
Но медлить было некогда, нужно собираться. Дима вырвал из тетрадки чистый лист, отточил карандаш и стал записывать, что нужно взять с собой. Путешествие — не игра, тут необходимо все предусмотреть и ничего не забыть.
Прежде всего — ружье. Вот оно висит над Диминой кроватью, новенькое, блестящее. Отец подарил его Диме в прошлом году, и Дима только три раза ходил с ним прошлой осенью за Каму охотиться на уток.
В углу стоит бамбуковый спиннинг с алюминиевой катушкой. Его Дима сам сделал в школьной мастерской. Спиннинг тоже не мешает взять.
Потом в список попали компас, вещевой мешок, топорик, котелок, кружка и другие нужные в походе вещи.
— Плохо, что фотоаппарата у нас нет, — с сожалением вздохнула Таня. — Какие бы мы снимки интересные сделали в Серебрянке!
— Это верно... — Дима почесал затылок. — Фотоаппарат нам необходим как воздух или, скажем, как ружье. Что же делать?
— У Афони-Профессора есть аппарат, — напомнила Таня.
— Правильно! Позовем с собой Афоню.
— А Кузьмич возьмет троих? — с сомнением спросила Таня. — И Афоня, может быть, не поедет...
— Дядя возьмет, — уверенно сказал Дима. — А Профессор не дурак, чтобы от своего счастья отказываться.
Дима подошел к отцовскому столу, покрутил ручку телефона, снял трубку.
— Алло! Мне квартиру диспетчера Лежнева.
Отец Афони диспетчер леспромхоза, а сам Афоня учится в одном классе с Димой и Таней. Он толстый, круглолицый, ходит медленно, говорит не спеша, к тому же носит очки. Кто-то из ребят прозвал его в четвертом классе Профессором, и с тех пор это прозвище прилипло к нему, как муха к меду.
— Соединяю с квартирой диспетчера, — ответила телефонистка.
— Алло!
Дима узнал по голосу Афоню:
— Афоня, здравствуй! Это я, Дима. Мы уезжаем через три часа.
— Кто уезжает? Куда?
— Мы, то есть я с Таней и дядей Ильей Кузьмичом. В Серебрянку.
— Доброго пути.
— Поедем с нами. Знаешь, какие снимки хорошие сделаешь!
Афоня не отвечал. Но Дима не клал трубку.
— Что он говорит? Не хочет ехать? Да? — спрашивала Таня.
— Молчит. Думает.
Наконец Дима снова услышал Афонин голос.
— Алло! Я согласен. Думаю, что такая поездка будет для меня полезна.
— Тогда дуй сейчас же ко мне на велосипеде.
Дима положил трубку.
— Профессор согласен, — сказал Дима. — Теперь пойдем спросим у твоей матери. Ведь она тебя не отпустит.
Таня жила через двор от Димы.
Когда ребята вошли в дом, Марфа Гавриловна, мать Тани, варила обед. С тряпкой в руке она стояла перед примусом. Из белой кастрюли кудрявыми струйками вырывался к потолку белый пар. Вкусно пахло луковым супом.
Таня кивнула Диме: начинай, мол, сразу.
— Тетя Марфа, мы к вам по делу, — несмело заговорил Дима.
— Небось опять надумали куда ехать? — вытирая мокрые руки о фартук, совсем нестрого сказала Марфа Гавриловна. — То на Черное озеро, то в колхоз, то на лесоучасток... Прямо непоседы какие-то.
«Как она догадалась, что мы собираемся ехать?» — удивился Дима и молчал, не зная, что ответить.
— Мы с Ильей Кузьмичом в Серебрянку, — вступила в разговор Таня. — На моторке. Пусти, мама...
— Туда на лодке, а оттуда пешком, — уже строже сказала Марфа Гавриловна, снимая с примуса кастрюлю. — Неблизкий свет, все ноги обобьете, пока дошагаете.
— Оттуда тоже на моторке или на катере, — неуверенно ответил Дима.
— Ну вот что, садитесь, пообедаем, а потом поговорим.
Марфа Гавриловна поставила на стол три тарелки, положила три ложки.
— Тетя Марфа, я уже обедал сегодня... — начал было отказываться Дима.
Но Таня быстро толкнула его в бок и зашептала на ухо:
— Садись. Мама не любит, когда отказываются.
Все сели за стол.
Опасения, что Марфа Гавриловна не пустит Таню, оказались напрасными. Она только строго-настрого наказала ей и Диме не зевать по сторонам, быть осторожными, велела Тане купить бинт, йод и другие медикаменты.
Вскоре прикатил на велосипеде Афоня:
— Едете?
— Едем, — ответил Дима. — Меня отец уже отпустил, Таню мать тоже.
— А моих родителей нет дома... Как же быть? — растерянно поглядел на ребят Афоня.
— Да-а... Как же быть? — повторил Дима.
— Придумал! — хлопнул себя по лбу Афоня. — Я им оставлю записку.
— Молодец, Профессор! 
Афоня тут же написал записку: «Дорогие папа и мама! Я с ребятами и дядей Кузьмичом отправился в путешествие в Серебрянку. Обо мне не беспокойтесь. Афоня».
Афоня вскочил на велосипед и поехал за фотоаппаратом.
ПО КАМЕ И ВЕСЛЯНЕ
Когда Илья Кузьмич вернулся из конторы, ребята ждали его уже у крыльца, готовые к отплытию, в дорожной одежде и срюкзаками за спиной.
— О-о, брат ты мой, да тут целая экспедиция! — воскликнул Илья Кузьмич. — Значит, все в порядке?
— Так точно! — отрапортовал Дима, вытянувшись по стойке «смирно». — Экспедиция собралась в полном составе: начальник экспедиции — Дмитрий Руднев, медсестра и повар — Татьяна Зорина, фотокорреспондент — Афанасий Лежнев.
— Ну, раз фотокорреспондент, — ладно. Пошли на корабль.
— А как называется наш корабль? — спросила Таня.
Илья Кузьмич задумался.
— Назовем «Павка Корчагин», — предложил Дима.
— Правильно, — одобрил Илья Кузьмич. — Ну, корчагинцы, в путь!
 Ребята сложили все свои вещи в носу лодки, уселись сами, и Кузьмич оттолкнулся веслом от берега.
Ребята сложили все свои вещи в носу лодки, уселись сами, и Кузьмич оттолкнулся веслом от берега.
Заработал мотор, и лодка сначала медленно, а потом быстрее и быстрее поплыла против течения, разрезая носом воду и оставляя за собой две длинные волны, с плеском набегающие на берега.
С каждой минутой Гайны уходили все дальше.
Уже совсем скрылись в зелени темные стены старых домов и сарайчиков, и только несколько новых срубов долго светились ярко-желтыми бревнами. Позади остался Желтый плес, где ребятам известен каждый камень, каждая ямка на дне. Поворот — и село пропало за лесом.
А потом пошли уже незнакомые места.
Навстречу плыли то высокие и обрывистые берега, то пологие и низкие, то покрытые коричневато-желтым песком, то заросшие высокой травой и густым ивняком. Прямые, как свечи, сосны, темные высокие ели вперемежку с кудрявыми березами и осинами сплошной зеленой стеной подступали к воде. То тут, то там, растопырив сучья и словно застыв в испуге, с обрывистых берегов свисали над рекой деревья.
Дима лежал, подложив под голову вещевой мешок, и смотрел вверх. Лодку приятно покачивало. Кажется, плыл бы так и плыл и день и ночь.
Диме не видно ни берегов, ни леса, а только небо, знойное летнее небо. Освещенные солнцем легкие белые облака — как небрежно растрепанные жидкие клочья ваты. Они бегут, спешат куда-то, как будто стараются обогнать друг друга. Вровень с ними черной точкой маячит неподвижный ястреб, и кажется, что он указывает путь.
Таня перегнулась через борт и рукой коснулась воды. Она видит то же небо, облака и глубокую синь, только отраженные в реке, точно в зеркале.
Афоня, прищурившись, внимательно поглядывает посторонам, выбирает наиболее красивые пейзажи и держит наготове свой ФЭД. Он уже успел сделать несколько снимков. 
Посередине реки, где глубже и где течение быстрее, извилистой беспорядочной лентой плывут бревна, толстые и тонкие, длинные и короткие. Летом лесозаготовители, вывозя лес к реке, не складывают его, как зимой, в штабеля, а сразу спускают на воду.
Илье Кузьмичу не раз приходилось проплывать здесь на своей лодке, и он хорошо знает реку. Обходя мели, лодка иногда пересекает сплавную ленту. Иной раз удается пройти, не задев бревен, иной раз они с грохотом прокатываются по дну, ныряют под воду, а затем всплывают с шумом и плеском.
Афоня поднес фотоаппарат к глазу, навел на резкость, щелкнул и закричал:
— Замечательный вид! Место слияния Камы и Весляны!
Дима и Таня подняли голову.
Картина была действительно замечательная: две реки, две красавицы сестры, Весляна и Кама, одинаковые здесь по ширине и полноводности, сливаются в одну величественную реку.
Лодка описала дугу и вошла в Весляну.
— А в Весляне течение быстрей, чем в Каме, — сказал Дима.
— И вода какая-то желтоватая, — добавила Таня.
— Это потому, — объяснил Илья Кузьмич, — что Весляна течет среди болот и размывает торфяные берега.
Вскоре впереди показалось устье какого-то впадающего в реку широкого ручья.
— Как называется эта речка? — спросила Таня.
— Это не речка, а прокоп, — ответил Илья Кузьмич. — Здесь Весляна делает в своем течении большую петлю — хобот, как ее у нас называют, и вот сплавщики, чтобы не гонять плоты кружным путем, бульдозерами прорыли напрямик канаву. В половодье эту канаву размыло еще больше, и теперь потекла Весляна по новому руслу.
Десятки километров остались позади. Леса, луга, поселки и снова леса...
Таня тронула Диму за плечо и, показывая вперед, тихо сказала:
— Смотри-ка...
Впереди, метрах в ста, по грудь в воде стояла лосиха и спокойно поводила по сторонам большой горбоносой головой.
— Совсем не боится, видно, привыкла к шуму. Ну, сейчас попадешь в мой объектив, — проговорил Афоня и поднес ФЭД к глазу.
Лодка все ближе подходила к лосихе. Вот до нее уже восемьдесят, шестьдесят, пятьдесят метров... Лосиха не уходила.
Дима вскинул ружье и прицелился.
— Не смей стрелять! — встревоженно крикнул Илья Кузьмич и, когда Дима опустил ружье на колени, добавил: — Лосей у нас не бьют.
Лодка приблизилась к лосихе метров на тридцать. Она оглянулась, не спеша вошла глубже, с силой оттолкнулась ногами от дна и, погрузившись в воду так, что сверху осталась одна голова, поплыла к противоположному берегу.
В это время из молодого осинника на берег выскочил маленький длинноногий лосенок. Споткнувшись и подняв фонтан брызг, он вбежал в воду и поплыл за лосихой. Быстрое течение сносило его вниз, к лодке.
— Дядя Илья, теленка на нас несет! — закричала Таня. — Он тонет! 
Илья Кузьмич заглушил мотор. Лодка сразу сбавила скорость. Еще полминуты, и захлебывающийся, фыркающий лосенок поравнялся с ее бортом.
— Надо спасать малыша. А ну, ребята, тащи его в лодку! — распорядился Илья Кузьмич. — Раз-два, взяли!
Ребята уцепились за лосенка — кто за шею, кто за уши, Афоня схватился за хвост.
— Раз-два, взяли!
Но лосенок оказался не так-то легок.
— Еще, еще немного! — ободряюще приговаривал Илья Кузьмич, перехватывая лосенка за передние ноги. — Еще чуточку! Так, братцы, так. А теперь тащи его через борт.
Лосенок грузно свалился на дно лодки. Он тяжело дышал, озираясь вокруг круглыми, на выкате, испуганными глазами, и его вытянутые ноги судорожно дрожали.
— Дурной ты, лопоухий, — ласково проговорила Таня, гладя лосенка по бурой жесткой шерсти. — Не можешь по-настоящему плавать — не лезь в воду. Мал ты еще, чтобы такую речку переплывать...
Лосенка решили перевезти к матери, которая уже звала его где-то за кустами.
Илья Кузьмич, не включая мотора, на веслах подогнал лодку к берегу. Днище зашуршало по песку.
— Вставай, — подтолкнул Илья Кузьмич лосенка.
Тот согнул ноги, подтянул их под себя и неуверенно поднялся. Минуту постоял, словно проверяя, держат ли его ноги, а потом, подпрыгнув, ринулся бегом в прибрежные кусты на зов матери...
И снова застрекотал мотор, и поплыли мимо лесистые берега.
ЕСТЬ ТАКОЕ ОЗЕРО
Через полчаса на левом берегу показалось большое, пожалуй, не меньше, чем Гайны, село.
— Вот и Серебрянка, — сказал Илья Кузьмич, направляя лодку к берегу против стоявшего на возвышенности крайнего дома.
Из ворот вышла маленькая, полная женщина в голубом длинном, до земли, сарафане-дубасе и синем ситцевом платке. Она взглянула на подплывающую лодку, всплеснула руками и нараспев, окая, запричитала:
— Го-о-стечки приехали! Радости-то сколько!
Мелкими, суетливыми шажками она словно не сбежала, а скатилась под горку.
— Услыхала шум-то знакомый, ну, думаю, Кузьмич катит на своей каталке. Глянула в окно, вижу — не один едет, никак, Митеньку везет. Ой, как вырос-то... Как вырос!.. — Она обняла Диму, поцеловала в щеку, похлопала по спине и, повернувшись к Тане и Афоне, ласково спросила: — Это твои товарищи, Митенька?
— Да, мы в одном классе учимся. Это Таня, а это Афоня.
— Здравствуйте, милые мои... Уж как я рада!.. И чего ты, старый, не предупредил, что с гостями приедешь?..
— Сколько раз я тебе, Груша, сказывал, не называй ты меня стариком, — с досадой отозвался Илья Кузьмич. — Какой я старик? А не предупредил — времени не было.
Афоня тихонько хмыкнул. «Ну и прозвал же Кузьмич свою жену! — подумал он. — А ведь она и вправду похожа на грушу».
— Как зовут твою тетю? — тихо шепнул он Диме.
— Тетя Груша, — ответил Дима.
— Разве есть такое имя?
— Вообще-то ее зовут Агриппина Прокопьевна. Ведь и ты не Афоня, а Афанасий.
— Понятно. Только все равно смешно...
— Что же это я замешкалась-то! — спохватилась тетя Груша. — Пойдемте, милые, в дом. Проголодались небось в дороге-то, устали...
Ребята пошли в дом.
— Я сейчас, ребятишки, сейчас стол накрою, — суетилась хозяйка.
Ребята с интересом осматривались вокруг.
Дом у лесничего небольшой, изнутри он оклеен голубыми, уже выцветшими обоями, и по всем стенам висят плакаты — о повышении удоев, об охране лесов, о выращивании овощей, как в клубе. Два окна смотрят прямо на реку, два других выходят к лесу, а из окошка маленькой комнатки, которую тетя Груша называет служебным кабинетом Кузьмича, видно все село — улицы, лесопилку, клуб, швейную мастерскую, магазин...
Дима остановился перед большой висевшей между окон застекленной рамкой со множеством больших и маленьких фотографий. Среди фотографий он нашел и свою, и отца с матерью. Вот дядя Кузьмич, а этот парень в военной форме с сержантскими погонами, с орденами и медалями на груди — сын дяди Кузьмича и тети Груши, Иван. Он погиб на войне.
— Ну, идите за стол, — позвала тетя Груша.
Ребята ели так, что за ушами трещало. Тане больше всего понравился гусь с жареной картошкой, Дима не мог оторваться от соленых рыжиков, а Афоня нажимал на варенье.
— В смородиновом варенье много витаминов, поэтому оно очень полезно, — приговаривал Афоня, в пятый раз накладывая варенье в свое блюдечко.
— Кушайте, детки, кушайте на здоровье, — потчевала тетя Груша. — Отведайте рыбки. В прошлое воскресенье Кузьмич полведра лещей принес.
Тетя Груша села напротив ребят и, подперев щеку рукой, ласково и печально глядела на Диму.
— Гляжу я на тебя, Митенька, — вздохнула тетя Груша, — и ровно Ванюшку вижу. И нос, как у него, чуть с горбинкой, и глаза карие да бойкие. — На глазах Агриппины Прокопьевны выступили слезы. — Тебя еще на свете не было, когда его на войне фашисты убили. Наводчиком он при пушке был. Писал он мне в письмах: «Скоро, мама, добьем фашистов, и вернусь домой». А потом пришла похоронка...
Илья Кузьмич обнял тетю Грушу за плечи и ласково сказал:
— Не плачь, мать...
Дима отвел глаза и вздохнул.
* * *
В кабинете Ильи Кузьмича висела большая, во всю стену, карта Пермской области. Ребята нашли на ней свои Гайны, потом нашли Серебрянку.
— Ребята, смотрите-ка, Адово озеро! — воскликнула Таня.
— Адово? — переспросил Дима.
— Да, Адово, — подтвердил Илья Кузьмич. — Есть в наших краях такое озеро. Большое озеро.
— Сколько в нем километров по окружности? — спросил Афоня.
— Точно-то никто не знает, уж больно в глухом месте оно находится, как будто нарочно спряталось, чтобы люди не добрались до него и не беспокоили. На том озере жил один человек, наш охотник дед Афанасий. Знаменитый был охотник — одних медведей шестьдесят восемь убил. Поставил он себе избушку, стрелял зверя, ловил рыбу, а как помер, осталась избушка пустая, и больше никто не решается туда ходить. Я тоже бывал там всего два раза.
— Дядя Илья, расскажи что-нибудь про это озеро.
Илья Кузьмич достал из кармана трубку, постучал ею по столу, вытряхнул пепел в жестяную баночку. Потом не спеша достал кисет, набил трубку и закурил. Облако белого дыма потянулось в открытое окно.
— Ладно, расскажу. Слушайте. Немало озер в нашем крае, но самое большое находится в тайге между Утьвой и Онылом. Старики говорят, что его сотворила нечистая сила, леший, значит. Потому-то к нему нет подступа — со всех сторон болота, и только на западном берегу есть небольшой кусок твердого берега. Никогда то озеро не бывает спокойным, днем и ночью бушуют на нем волны, а посредине такой водоворот, что, если подплыть к нему на лодке, вмиг утянет — и поминай как звали. А по ночам из озера выходят русалки...
— А вы их видели? — прервал Илью Кузьмича Афоня.
Илья Кузьмич улыбнулся:
— До седины дожил, весь свой век бродил по лесу, болотам да озерам, а вот видеть русалок или там лешего не случалось.
— Может быть, там не русалки, а водится кистеперая рыба целакантус, — проговорил Афоня. — Та самая, про которую в книге «На лунных островах» написано. Она...
— Ладно, потом расскажешь про рыбу, — остановила Таня Афоню. — Не мешай дяде Илье...
— Ну, значит, так, — продолжал Илья Кузьмич. — Рассказывают люди про это озеро такую легенду.
В давние-давние времена жил в наших лесах Лесной царь, и была у него дочь-красавица. А в озере жил Водяной царь, и был у него сын. Задумал Водяной царь женить своего сына на дочери Лесного царя и послал к нему сватов.
Только сваты вернулись ни с чем. «Не отдам я свою дочь за сына Водяного царя, — сказал Лесной царь. — Она у меня в холе да в богатстве выросла, а у вашего Водяного всего добра — вода да ерши».
Разобиделся Водяной царь. «Не хочет добром дочь отдать — возьмем сами, — сказал он сыну. — Мало у нас добра, зато сила велика».
Однажды дочь Лесного царя гуляла по берегу озера, вдруг выскочил из воды сын Водяного царя, схватил ее и утащил на дно.
Пришел Лесной царь к озеру.
«Эй, отдайте мне дочь, а то плохо вам будет!» — закричал он.
Но тут в ответ ему забурлила вода в озере, заходила ходуном, поднялись волны до неба, разлетелись брызги на много верст кругом.
Испугался Лесной царь, отступил от озера.
«Не велико богатство у Водяного царя, зато велика у него сила», — промолвил Лесной царь и вернулся в свои леса, а дочь его так и осталась жить в озере...
Только с тех пор бурлит озеро: так разгневался Водяной царь, что и теперь никак не успокоится.
— А почему же это озеро назвали Адовым? — спросила Таня.
— Об этом слышал я от людей такую историю. — Илья Кузьмич зажег потухшую трубку, затянулся и начал новый рассказ: — В старину узнали как-то люди, что в лесу есть большое озеро, на дне которого лежит бочка с золотом.
У многих тогда глаза разгорелись на такое богатство, да не каждому было по силам приняться за дело. На маленькой лодке-долбленке не выедешь: сразу перевернет, а построить большую лодку по средствам только богатею купцу или торговцу. Съехались к озеру богатеи со всех концов, нагнали людей ладьи строить. За одну ночь построили десятка два лодок, и рано утром выплыли на них богатеи на середину озера.
Стали они спорить, кому первому сеть закидывать. Один кричит: «Я первый прибежал к озеру!» Другой ему в ответ: «Я богаче тебя, значит, мне первому счастье пытать». А третий просто ругается: «Отойди, а то веслом стукну!»
Слово за слово, и началась драка. Вцепились богатеи друг другу в волосы, свалились в воду и утонули.
«Черт их к себе в ад утащил», — сказали люди, и с тех пор озеро стало называться Адовым...
За рассказами не заметили, как стемнело.
— Спать пора, — сказал Илья Кузьмич. — Хотите — на полатях устраивайтесь, хотите — тетя Груша постелит вам на полу.
— Мы на улице переспим, — ответил за всех Дима.
— На свежем воздухе полезней, — поддержал его Афоня.
— Раз полезней, лезьте на сеновал. Сейчас ночи теплые, не замерзнете, — проговорил Илья Кузьмич. — А завтра придумаем что-нибудь интересное.
«СОН В РУКУ»
По лестнице, сколоченной из березовых жердей, ребята влезли на темный сеновал и ощупью, спотыкаясь о чердачные балки, на четвереньках доползли до мягкого, пахучего сена.
— Здесь очень здорово, — бубнил себе под нос Афоня, копошась в сене, — очень здорово...
Он вытянулся и сразу уснул. Таня свернулась калачиком и тоже уснула.
А Дима лежал на спине, положив руки под голову, и смотрел вверх. Сквозь щели в крыше длинными полосами пробивался в сарай лунный свет. Понемногу глаза привыкли к темноте, и Дима увидел метрах в двух от себя насест и на нем силуэты спящих кур.
Было очень тихо. Откуда-то доносился еле слышный рокот далекого трактора; корова в хлеву лениво жевала свою жвачку; изредка тоненько похрюкивал во сне поросенок, и сонная курица щелкала клювом.
Дима старался себе представить, какое оно — Адово озеро. Он закрывал глаза, и перед ним вставал лес и волны, бегущие за кормой лодки...
На насесте послышался шорох, большой петух переступил с ноги на ногу, звучно захлопал крыльями и отчаянно, сначала с хрипотцой, а потом звонко-звонко закричал: «Ку-ка-ре-ку-у!»
От неожиданности Дима вздрогнул:
— Ты с ума спятил, Петька!
«Ку-ка-ре-ку-у!» — отозвался другой петух с соседского двора.
И покатилась по всему поселку торопливая петушиная перекличка.
Но Дима уже ничего не слышал, он спал, и снился ему сон. Как будто идет он, а под ногами у него упругий, пружинящий мох. Дима поднял голову и увидел вокруг глухую тайгу. Он пошел прямо через бурелом, через цепкий ельник, через какие-то овраги. Вокруг перелетали с ветки на ветку стаи тетеревов и рябчиков, их было много, как скворцов осенью. Меж сосен мелькнула быстрая тень волка, над красным малиновым кустом поднялся медведь, стороной пробежал олень, задевая ветви рогами. А Дима шел вперед и совсем не боялся.
Но вот перед ним открылось безбрежное море, по которому катились шумные волны с белой пеной на высоких гребнях.
«Это Адово озеро», — подумал Дима.
Он прыгнул в долбленку, качавшуюся у берега, и поплыл.
Огромная волна подняла лодку выше деревьев. Тут из зеленой глубины выплыл Водяной царь. Он грозно взглянул на Диму, тряхнул длинной зеленой бородой и строго спросил:
«Ты зачем явился в мои владения? Или не знаешь, что человеку заказаны пути к Адову озеру? Убирайся отсюда подобру-поздорову, пока цел».
Оглянулся Дима вокруг и увидел с гребня волны, что на другом берегу стоит высокий светлый сосновый бор.
Схватил Водяной царь Диму за ногу...
— Эй, соня, вставай! — дергала Таня Диму за ногу. — До обеда, что ли, собираешься спать?..
Дима открыл глаза. На сеновале было совсем светло. В чердачное окно сияло солнце.
— Ну и сон же я видел! — потягиваясь, проговорил Дима. — Про Адово озеро...
— Любопытный, должно быть, водоем, судя по рассказам Кузьмича, — рассудительно сказал Афоня. — Там, наверное, можно сделать интересные снимки.
— Что снимки! Ведь дядя Илья говорил, что как раз там есть такой сосновый бор, какой нужен леспромхозу. Помнишь, Таня?
— Помню, — ответила девочка.
— Может быть, нам посчастливится, и мы найдем его. Вот все удивятся, когда мы придем к директору леспромхоза и скажем: «Товарищ директор, мы нашли авиафанерный лес!» — Дима оглянулся и, понизив голос, заговорщически зашептал: — Давайте сегодня же махнем на Адово? Ну решайте, корчагинцы!
— Заблудимся, — поежился Афоня. — Дорогу туда мы не знаем, карты нет...
— Карту я срисую с дядиной, а компас у нас есть. Идем, а?
Таня, соглашаясь, кивнула головой.
— А ты, Профессор?
— Надо подумать...
— Ты подумай, какие снимки принесешь в школу...
— Ладно, идем, — решительно махнул рукой Афоня.
— Молодец. Дай руку. — Дима взял Афонину руку и крепко ее пожал. — Только идти-то ведь далеко.
— Хоть на край света, — бодро ответил Афоня.
— А хныкать не будешь?
— Не буду.
— Клянешься?
— Провалиться мне на этом месте.
— Нет, ты давай клянись по-настоящему: я, Афоня-Профессор, клянусь, что пройду столько километров, сколько надо, и, что бы ни случилось в пути, никто не услышит от меня жалоб.
Афоня повторил слова клятвы и добавил:
— А вы с Таней тоже поклянитесь.
— Мы тоже клянемся...
В сенях протяжно скрипнула дверь.
— Митенька, детки, идите, милые, скорее завтракать. Я для вас блинков да шанег настряпала. Кузьмич-то чуть свет по службе куда-то ушел, обещал после обеда вернуться... «Пусть, сказал, гости наши без меня не скучают, в лес либо на речку сходят...»
— Мы сейчас, тетя Груша, — отозвался за всех Дима. — Только сбегаем на речку, умоемся.
— Что такое сон? — рассуждал Афоня, спускаясь по тропинке вслед за Димой и Таней к речке. — Человек спит и видит сон. Вот Диме море приснилось, а сейчас мы все решили снарядить экспедицию на Адово озеро. Не приснился бы сон, может быть, не снарядили бы. Вот такой сон, когда он сбывается, называется «сон в руку».
Снова ребята достали свои рюкзаки. Дима перерисовал с дядиной карты на отдельный листок план местности, от Весляны до верховий Утьвы, надписал все речки и ручейки, только лес да речки и ручейки лежат на пути к Адову озеру и ни одного села, ни одной деревушки.
— Никак, вы куда собираетесь? — спросила тетя Груша, увидев, что ребята складывают в мешки консервы, хлеб, сахар.
— Мы, тетя Груша, в поход пойдем на два дня, в лесу и заночуем, — ответил Дима.
— И то, — сказала тетя Груша, — у костра переспите, а с зорькой грибов насбираете, малины. Самое лучшее время утречком, пока солнышко не печет: тогда и гриб крепче, и ягода сочнее. А не заблудитесь в лесу-то?
— Да нет, — важно сказал Афоня. — У Димы есть карта и компас, так что заблудиться невозможно.
— Ну идите. Я Кузьмичу так и передам: мол, пошли пионеры в поход. Только вы, милые, далеко-то не уходите да реки держитесь.
— Ты о нас не беспокойся: не в первый раз, — ответил Дима, надел рюкзак и взял в руки ружье. — Ну, корчагинцы, в путь!
ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ
По узкой квартальной просеке далеко в глубь леса уходит еле заметная тропинка. Почти на каждом шагу ее пересекают выступающие из земли толстые черные корни вековых деревьев, как будто какие-то гигантские ящерицы выползли из лесной мглы и растянулись поперек тропинки, грея на солнце бугристые спины.
Неожиданно просека кончилась, и тропинка, приведя к невысокому, уже почерневшему от времени столбику, пропала. Такие столбики ставят в тех местах, где проходят границы кварталов, на которые разбит весь лес. По ним легче ориентироваться в лесу.
На столбике, к которому вышли ребята, черной, выцветшей краской одна над другой были написаны три цифры: 57, 5, 38.
— Пятый километр пятьдесят седьмого квартала, — сказал Дима. — А столб поставлен в тридцать восьмом году.
Дима достал из кармана карту, начерченную на тетрадном листке, разложил ее на колене и обвел пальцем небольшой кружок.
— Сейчас мы находимся примерно вот здесь.
— Скоро будет какая-нибудь речка? — спросила Таня. — Пить хочется...
— До Утьвы далековато, — ответил Дима, складывая карту. — А у меня тоже в горле пересохло. Может быть, встретится какой-нибудь ручеек...
«И как это мы не догадались взять с собой воды? — глотая слюну, подумал Афоня. — Идти далеко, а тут еще жарит, как на экваторе».
Лес становился все гуще. То и дело ребятам приходилось обходить густые, колючие ельники, бурелом и валежины.
Дальше столбика квартальная линия была отмечена затесами на деревьях. Давнишние затесы потускнели, заплыли соломой и были еле заметны, но вскоре и они исчезли.
Дима присел на толстую поваленную сосну.
— Отдохнем немножко...
Ребята остановились.
Из-за кустов с шумом вылетел большой черный глухарь и сел над ними на обломанный сук. Вытягивая пышную шею, птица смотрела на ребят, и они тоже с любопытством разглядывали ее лохматые ноги, белые перышки, резко выделявшиеся на черной груди, и ярко-красные, как будто вышитые неумелой рукой брови.
— Тише, — умоляюще прошептал Афоня. — Я его сниму.
Глухарь продолжал спокойно наблюдать за ребятами.
Афоня, не сводя с него глаз, снял вещевой мешок, ощупью нашел фотоаппарат, расстегнул футляр.
— Хорошее у меня оружие: щелк — и в сумку.
— Давай быстрее, — сказал Дима.
Прячась за елки, Афоня на четвереньках стал обходить глухаря. Вот до него уже совсем близко. Но Афоня решил подойти еще ближе.
Он уже представлял себе, как принесет фотоснимок этого краснобрового великана в школу. Карточка пойдет по рукам, и все будут говорить: «Вот это снимок! Такой даже можно послать на фотоконкурс в журнал или газету».
Афоня встал на колени, поднес аппарат к глазу и стал наводить на резкость. В желтом кружке видоискателя маячили две одинаковые, сидящие рядом птицы. Легкий поворот объектива, и они слились в одну четкую фигуру. Оставалось только нажать на спуск.
Но тут под ногой фотографа предательски треснул сучок. Глухарь нырнул с дерева и улетел.
— Щелк — и в сумку? — насмешливо спросила Таня.
— Не повезло, — огорченно проговорил Афоня. — А ведь мог бы получиться замечательный снимок...
Дима достал компас, и дальше путешественники пошли по компасу. Вскоре опять вышли к квартальному столбу.
— На этом тоже написано 57, 5 и 38! — воскликнула Таня. — Шли целый час, а вышли на старое место. Может быть, это все-таки другой столб, только похожий на тот?
— Нет, тот же самый, — со вздохом подтвердил Дима. — Я его приметил вон по тем елочкам.
Ребята молча посмотрели на две пушистые елочки, которые, сплетясь, словно обнявшись, росли у столба.
Первой нарушила молчание Таня:
— Что же делать? Кружимся на одном месте. Прямо в какой-то заколдованный круг попали.
Дима развернул карту и положил на нее компас.
— Мы идем все время в юго-западном направлении. Значит, там север.
Все на корточках присели вокруг карты.
— Но почему же компас показывает север на востоке? — удивилась Таня.
Дима почесал затылок:
— Да, что-то не то. Или карта неверная, или компас врет.
Афоня встал, сбросил с плеч вещевой мешок и, обойдя карту с другой стороны, снова присел.
— Куда же нам идти? Хорошо, если к людям выйдем... А то, чего доброго, останутся от нас рожки да ножки...
— Помолчи, Афоня, ты же поклялся, что ныть не будешь.
— Тут клятва не поможет...
— Ой, смотрите-ка на компас!.. — воскликнула Таня. — Никто его не трогает, а стрелка поворачивается!
Синяя стрелка, дрожа и покачиваясь, медленно описала полукруг и остановилась, показывая на юг.
— Не может быть, чтобы север вдруг переместился на юг. Просто компас никуда не годится, — махнул рукой Афоня и вернулся на прежнее место.
Стрелка снова дрогнула и пошла обратно.
Дима вскочил на ноги.
— Профессор, стрелка гоняется за тобой! Ты что, магнит проглотил?
Афоня недоуменно пожал плечами, потом сунул руку в карман и достал фотоэкспонометр «Киев».
— Вот, наверное, в чем секрет. В экспонометре есть сильная магнитная система, и поэтому он притягивает к себе стрелку компаса.
Афоня обвел экспонометром вокруг компаса, и стрелка покорно описала полный круг.
— Теперь все ясно. Вот почему мы вышли опять к тому же столбу, — заключил Дима. — Но тебе, Профессор, придется со своей магнитной системой держаться подальше от компаса.
* * *
Солнце клонилось к западу, а ребята все шли и шли. Спускались в низины, заросшие осинами и березами, пробирались сквозь кустарники и густую, высокую, в рост человека, траву, поднимались на голые, выжженные, словно в степи, желтые холмы, где под ногами, как бумага, шуршал сухой мох.
Ребята брели, с трудом переставляя отяжелевшие ноги. Вещевые мешки оттягивали плечи, и мокрые рубашки прилипали к спинам. По лицу катились соленые капли едкого пота, во рту пересохло. Не хотелось ни думать, ни разговаривать. Хотелось пить.
Когда вышли к Утьве, уже ни у кого не было сил для бурного выражения радости.
— Наконец-то, — сквозь зубы процедил Дима и, припав к воде, сделал несколько больших глотков.
Таня легла на толстую корягу и осторожно, краями губ прильнула к губам своего же отражения в водной глади, как будто две сестрички встретились после долгой разлуки.
Афоня зачерпнул воды кружкой и пил долго, не спеша, маленькими глотками.
— Хороша вода в Утьве! Теперь хоть на край света, — сказал он, допив кружку.
Ребята перешли Утьву вброд. Она была неширока, и отражения росших на противоположных берегах кустов сливались в одну сплошную зеленую полосу. Поэтому вода в речке казалась зеленой.
Наступал вечер...
У КОСТРА
В лесу вечер наступает раньше, чем в поле или в лугах. Едва скроется солнце, как уже сгущаются сумерки, деревья закутываются в темную пелену, все предметы вокруг теряют четкость очертаний и смутно темнеют расплывчатыми пятнами.
Наступившие сумерки застали ребят у большого бурелома.
Дима остановился.
— Сегодня дальше не пойдем. Сквозь эти баррикады за целую ночь не проберешься, — сказал он, глядя на громоздившиеся друг на друга в несколько рядов огромные деревья с поднятыми вверх широкими косматыми корнями.
— Да, придется подождать до утра, — проговорила Таня.
— Что ж, заночуем здесь, — согласился Афоня. — Разведем костер, сварим ужин.
Ребята наломали сучьев, очистили небольшую площадку от сухого мха и разожгли костер. Темнота отступила на несколько шагов и, став еще более темной и зловещей, притаилась за деревьями.
Дима развязал мешок и достал полбуханки хлеба и банку тушенки.
— Давайте сварим суп, — предложила Таня. — Вот тушенка, у меня есть гороховый концентрат. Дома я такой суп сама варила.
Через полчаса суп был готов. Замелькали ложки, застучали по донышку котелка.
— Эх, маловато! — с сожалением вздохнул Дима, облизывая ложку. — Хоть снова вари!
— Нельзя, — возразил Афоня. — Нужно экономить продукты, у нас их и так немного.
— Да, немного, — подтвердила Таня, — хлеба две буханки, две пачки горохового супа, полторы банки тушенки, банка бычков в томате и сахар.
— Да-а, — протянул Афоня.
После ужина выпили из фляжки по четыре глотка: воду тоже приходилось экономить: кто знает, когда снова встретится речка?
Вокруг стояла глухая тишина. Словно все в лесу заснуло под покровом ночной темноты.
Ребята сидели вокруг костра и смотрели на огонь. Колеблющееся пламя билось, волновалось, кружилось, как будто озорная, веселая девчонка в красном сарафане лихо отплясывала «Барыню».
Но не все спит ночью в лесу. То прилетит откуда-то комар, глухо позвенит над ухом и улетит от жаркого костра в темноту. То мелькнет черная тень летучей мыши.
А вот откуда-то издалека донесся странный и громкий крик: «Угу-гху-гху!»
Таня вздрогнула. Дима поежился, ему стало холодно, как будто подул холодный ветер. Один Афоня, спокойно прислушиваясь к крику, улыбнулся и проговорил:
— Это какая-нибудь птица из отряда сов: неясыть, филин или ястребиная сова. В наших лесах их много, а всего на свете существует сто тридцать видов сов.
— Откуда ты все это знаешь, Профессор? — повеселела Таня.
— Систематическое чтение газет и журналов, — ответил Афоня. — Занятие весьма полезное...
А все-таки страшновато ночью в лесу... Тем более когда впервые приходится ночевать в тайге...
Но усталость дает себя знать и непреодолимо тянет в сон. Зевнула Таня, закрывая рот ладошкой, зевнул Афоня.
— Вы поспите, а я подежурю, — сказал Дима. — Через час кого-нибудь разбужу на смену. Ладно?
В ответ в нескольких шагах от костра послышался явственный шорох.
Ребята примолкли.
— Кто-то подкрадывается, — прошептал Дима.
Шорох приближался. Вдруг из темноты выкатился небольшой темный шар, за ним другой, третий... Через минуту их набралось до десятка.
— Уф! — облегченно вздохнул Дима. — Это же белые куропатки. Они всегда идут на свет. Сами маленькие, а какого большого страха нагнали.
— Они же совсем не белые, — возразил Афоня.
— Летом они темнеют, а с осени до весны белые, под цвет снега.
Сжимая в руке ружье, Дима просидел час, а может быть, и больше. Таня и Афоня крепко спали. Ему стало и жалко будить их, и он решил подежурить еще.
Дима устроился поудобнее, прислонился спиной к валежине, под голову подложил мешок, и несколько минут спустя он уже спал так же крепко, как Таня и Афоня.
По лесу перекатывалось далекое: «Угу-гху-гху!»
НЕХОЖЕНОЙ ТРОПОЙ
На следующий день ребятам с утра просто везло. Сразу за буреломом начались сухие, ровные места, а только они подошли к речке Чугруму, тут как тут готовый мост — как будто нарочно ветер свалил огромную пихту поперек речки, и ребята перебрались по ней на другой берег, не замочив ног. 
Через два-три километра опять речка. Вчера шли целый день без глотка воды, а сегодня пей, сколько твоей душе угодно.
Дима развернул карту:
— Речка Шушара.
Странная эта речка Шушара. Она уже Утьвы и даже уже Чугрума и вся сплошь завалена черными корягами, воды почти не видно, а только слышно, как она бурлит и клокочет, пробиваясь среди валежин.
Прыгая с коряги на корягу, ребята перешли Шушару.
Вдруг Дима услышал угрожающее шипение. Он замер, прислушиваясь, потом бросился назад и потянул за собой Таню:
— Змея!.. Змея там!..
Дима поднял с земли толстую палку и осторожно, на цыпочках, стал подкрадываться к змее.
Афоня, издали увидев поднятую палку, закричал:
— Не надо, не бей! Может быть, это уж, он совсем безобидный!
Бурая змея с темно-коричневой лентой вдоль спины, вяло извиваясь, медленно ползла к Диме, раздвигая траву плоской треугольной головкой. Шагах в трех она свернулась в клубок, раздулась и зашипела еще сильней. Дима шагнул вперед, размахнулся и изо всей силы ударил змею по голове, потом еще и еще раз. Змея судорожно размоталась, вытянулась на целых полметра, выкинула изо рта тонкий длинный язык с раздвоенным концом, дернулась несколько раз и затихла...
— Все... Теперь не укусит, — устало дыша, сказал Дима.
Афоня подошел к убитой змее, потрогал палочкой.
— Богатый трофей. Жаль, спирта у нас нет, а то бы захватили ее с собой в школу.
— А ты щелк — и в сумку, — посоветовала Таня.
— Правильно, — обрадовался Афоня. — Бери ее, Дима, за хвост и становись на фоне речки. Ох и снимок получится! Я его назову «Победитель гадюки».
— Не буду я сниматься, — отмахнулся Дима. — Подумаешь, какой подвиг — гадюку убил!
— Давай, Профессор, тебя с ней сниму, — предложила Таня.
— Неудобно как-то, ведь не я убил ее.
— Не ломайся. Змею-то все равно надо заснять.
— Надо, конечно. — Афоня передал фотоаппарат Тане, а сам двумя пальцами поднял змею за хвост. — Диафрагма — одиннадцать, экспозиция — пятисотка. Речку в кадр захвати.
Таня нажала спуск.
— Прямо рыцарь, только без доспехов.
Впереди показалась вырубка. Далеко вокруг среди светлой поросли густо торчали низкие пни, а посреди вырубки возвышалась высокая пожарная вышка.
— А знаете, ребята, — повернулся Дима к друзьям, — нужно залезть на вышку и посмотреть с нее, может быть, увидим Адово озеро. Компас компасом, а вдруг пройдем где-нибудь рядом с ним...
Таня задрала голову вверх:
— Какая высокая! Метров тридцать, а то и все пятьдесят. Как ее только построили такую!
Возле вышки стоял низенький шалаш, покрытый берестой. При приближении ребят из него вылетел черный белоклювый дятел с ярко-красной шапочкой на макушке.
— А вот и хозяин дома! — воскликнул Дима. — Эй, хозяин, приглашай в гости!
Дятел сел на одну из перекладин вышки и протяжно завопил: «Киаай, киаай», потом раздалась резкая, звучная барабанная дробь.
Ребята один за другим полезли в шалаш.
В шалаше было прохладно. На полу кучей валялись чешуйки от еловых и сосновых шишек, в сухом пне посреди шалаша торчали две шишки, наполовину объеденные, видно, этот пень служил дятлу обеденным столом.
Таня присела на мягкую пахучую охапку еловых ветвей и мечтательно сказала:
— Хорошо тем людям, которые ставят такие вышки... Пришли, поставили высоченную вышку, залезли на самую вершину, посмотрели, а вокруг далеко-далеко видно. Посмотрели и пошли дальше, а дальше снова неизвестные места...
— Ладно, надо лезть, — решительно проговорил Дима и первый подошел к вышке.
На ее вершину зигзагами вела узкая частая лесенка. Дима вступил на первую ступеньку.
За Димой полезла Таня, за Таней — Афоня. Афоня остановился на первой же площадке, Таня забралась почти до половины вышки, но тут посмотрела вниз, ей стало страшно, и она медленно начала спускаться.
Диме тоже страшно. Но он только крепче обхватывает пальцами ступеньки лестницы и старается не смотреть вниз. Вот уже близка верхняя площадка. Устали ноги, онемели от напряжения руки, все страшней и страшней становится поднимать ногу на новую ступеньку.
«Нужно отдохнуть, — подумал Дима. — Отдохну и полезу дальше». Он плотно прижался к лестнице и зажмурил глаза. Минута, две — и снова вперед.
— Уже немного осталось! Всего десять ступенек! — доносится снизу глухой Танин голос.
Дима напрягает последние силы. Последние ступеньки, и он через узкое квадратное отверстие выполз на дощатую площадку.
Немного отдышавшись, Дима поднялся и, держась за перила, посмотрел вокруг.
Со всех сторон вышку окружал лес. Сверху он был похож на бескрайнее моховое болото, потому что виднелись одни зеленые верхушки, а стволов совсем не было видно. К горизонту лес синел и словно таял в беловато-голубой дымке.
Адово озеро Дима с вышки не увидел. Только в том направлении, где оно должно было быть, поднимался особенно белый туман. Дима проверил направление по компасу.
Ребята с сожалением покинули уютный берестяной шалаш и вскоре вошли в лес. Идти было легко, после небольшого ельника начался чистый сосновый бор, выстланный, словно ковром, мягкой золотистой хвоей.
Высокие прямые сосны с пушистыми шапками кудрявых ветвей на самых вершинах возвышались вокруг. Их красноватые стволы, словно тысячи колонн, уходили рядами вдаль.
Вот уже два километра, три километра тянется бор, и все нет ему конца.
Дима остановился, за ним остановились и все. Афоня поднял толстый сук и со всего размаха ударил по ближайшей сосне. Сосна зазвенела, и сверху упала маленькая черная шишка.
— Какой красивый лес! — сказала Таня.
— Да, красивый, — подтвердил Дима и достал карту.
Он приложил карту к гладкому стволу и ногтем нацарапал на ней кружок.
— Зачем ты написал букву «О» на карте? — спросила Таня.
— Это не буква «О», — ответил Дима.
— А что же?
— Угадай.
— А я знаю! — воскликнул радостно Афоня. — Ведь мы находимся сейчас как раз в том самом бору, который нужен леспромхозу! Ты его отметил, да?
— Да, — также радостно ответил Дима.
— Правда! Правда! — подхватила Таня. — Вот это здорово! Только твою отметку и сейчас не видно, а пока дойдем до дому, она совсем сотрется.
— Эх, вот карандаша я не взял, — вздохнул Дима.
— А мы естественными чернилами, — деловито проговорил Афоня. — Дай-ка карту.
Афоня взял карту, сорвал с куста ягоду черники, раздавил в пальцах и обвел Димин кружок красным черничным соком.
— Теперь не сотрется.
Вскоре бор пошел в низину. Лес поредел, началось болото.
Ноги по колено утопали в густом мягком мху, и ребята шли словно по пуховой перине. Где-то внизу тревожно хлюпала вода: только посматривай, как бы не провалиться в яму, спрятавшуюся среди травы.
Трудно идти по болоту. Ребята медленно брели от кочки к кочке, собирая под редкими тоненькими березками и сосенками сизые ягоды черники.
Афоня уныло плелся сзади, опираясь на длинную палку. Вдруг под ним закачалась земля, он испуганно отскочил в сторону, послышался хруст, заклекотала вода, и Афоня очутился по пояс в воде.
— Ой! Спасите!.. — закричал Афоня и обеими руками ухватился за палку, которая, на счастье, очутилась у него под грудью.
Дима и Таня обернулись на крик. Вокруг Афони выступила темно-коричневая вода, и из нее торчали только голова, плечи и вещевой мешок.
Дима побледнел, у Тани задрожали губы.
— Что делать?
Дима быстро сбросил с плеча ружье и пошел к Афоне.

Мох под ногами дрожал и ходил ходуном. Дима лег на живот и пополз. Возле широко разросшегося низенького кустика багульника он почувствовал под собой более твердую почву и протянул Афоне конец палки.
Афоня с трудом выкарабкался из ямы.
Из опасного места ребята выбирались ползком, по-пластунски. Добравшись до большой кочки, остановились, Афоня разделся, и, пока сушились на солнце его брюки и рубашка, пришлось отдыхать.
Кажется, нет конца болоту. К полудню ребята вышли к небольшому лесочку. Афоня натер ногу и хромал.
— Тоже мне, Профессор! — возмущалась Таня. — Поленился вовремя перемотать портянку...
Афоня ничего не ответил. Он нагнулся и хлопнул рукой по траве.
— Ага, попался, — сказал Афоня, торжественно зажав в пальцах какого-то зеленого жучка.
— Вот на озере ты уже поживишься всякими жучками, паучками и травинками. Там их небось видимо-невидимо...
Но Афоня скривился от боли и сел на землю.
— Наверное, до озера еще очень далеко. Идем, идем, а его все нет. Давайте лучше отдохнем здесь до утра, а потом — домой.
— Ты паникер, Профессор, — сказала Таня. — Мы тоже прошли не меньше твоего, тоже устали. Только нам нельзя возвращаться, не побывав на озере. Ведь нас засмеют в школе. Вставай, пошли Диму догонять.
В это время из-за деревьев послышался радостный Димин крик:
— Озеро!.. Ура, ура-а!.. Озеро!
ВОТ И АДОВО ОЗЕРО!
Таня побежала к Диме. Афоня тоже поднялся и, хромая, поспешил за ней. Ребята вышли к блестевшей серебром воде.
— Вот и Адово озеро, — не обращаясь ни к кому, восторженно сказала Таня. — Как море...
Перед ними в низких берегах, таких низких, что, казалось, вот-вот вода выльется из них и затопит все вокруг, расстилалось широкое, почти круглое озеро. По озеру, качая и разгоняя в стороны белые лилии и желтые кувшинки, катились шумные волны и, разбиваясь о торчащие из воды вдоль берега коряги, обдавали ребят брызгами.
— Смотрите сколько уток. А вот там — дикие гуси, — проговорил Дима. — Совсем как на колхозном пруду.
— Им здесь благодать, никто не тревожит, — отозвался Афоня.
Дима стал снимать ружье.
В это время из кустов, в нескольких шагах от ребят, вылетела утка, громко закричала и, отлетев немного от берега, шлепнулась на воду.
— Тише ты, крякуша, всю дичь мне распугаешь! — в сердцах пробормотал Дима. — Вот пальну в тебя, не будешь кричать без толку.
— Не стреляй, — остановил его Афоня. — Ведь все равно утку без собаки не достанешь.
Дима с сожалением опустил ружье. Афоня был прав. Но ведь обидно же таскать с собой ружье и ни разу не выстрелить!
Дима смотрел на мелькающих в воде уток, а Таня как зачарованная слушала глухой шум набегающих волн. Волны качали берег, и растущие на берегу ели и сосны тоже покачивались, как маятники стенных часов.
Афоня поглядел на солнце и в раздумье сказал:
— Должно быть, уже часа два — самое подходящее время для обеда...
— Да, пора бы поесть, — согласился Дима. — Только давайте перед обедом искупаемся.
Он быстро разделся и осторожно полез в воду. Плавающие невдалеке от берега утки и гуси поднялись и перелетели на середину озера.
Дима думал, что у всякого озера илистое и топкое дно, но тут он неожиданно почувствовал под ногами гладкий и плотный песок. Вода была теплой и необыкновенно прозрачной.
Дима отошел от берега довольно далеко, а все было по пояс. Он подумал: «Наверное, тут много рыбы», — и вернулся за спиннингом.
Не прошло и десяти минут, как Дима поймал двух порядочных щук.
— Вот это здорово! Ох и вкусную же сварим уху! — обрадовалась Таня.
В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ
Порывистый ветер утих, и волны улеглись. По озеру играла мелкая рябь. Красное вечернее солнце отражалось в дрожащей воде зыбким пылающим факелом.
Ребятам очень хотелось отыскать избушку деда Афанасия, и они пошли вдоль берега.
Дима заметил посреди озера черное пятно, которое медленно двигалось в их сторону.
— Может быть, это лодка, перевернувшаяся вверх дном? — высказала свою догадку Таня.
— Откуда быть лодке, когда здесь нет людей? — возразил Дима.
— Тогда это огромная дохлая рыба или какое-нибудь другое существо, — неопределенно пояснил Афоня. — Ведь фауна Адова озера почти не исследована.
— Ладно. Нечего гадать, — решительно проговорил Дима. — Подплывет ближе — увидим.
Все сели у берега и стали ждать, не спуская глаз с загадочного пятна. Через полчаса его прибило к берегу.
— Тьфу ты! — рассердился Дима. — Вот вам и существо! Зря только время потеряли.
Ребята еще раз разочарованно посмотрели на качавшийся на волнах широкий пласт торфа, видно оторвавшийся от противоположного берега, и пошли дальше.
Охотничью избушку деда Афанасия ребята нашли только к вечеру, когда солнце уже скрылось за лесом и его последние лучи окрасили в розовый цвет два кудрявых облачка, висевших высоко над озером.
Приземистая, покосившаяся избушка была ветхая и низкая, она, казалось, наполовину вросла в землю. Почти вплотную к ней стояли две ели. Их разлапистые, тяжелые ветви с заботливой лаской касались почерневшей от времени, обросшей лишайниками пологой крыши.
Дима погладил выступавший на углу неровный, обрубленный топором конец бревна.
— Видать, у деда не было пилы. Все рублено топором.
Ребята робко переступили порог. Через маленький квадратик окна, прорезанного в черной, закопченной стене, свет проникал в избушку и освещал серый земляной пол, две лавки у стен, кучку золы и давно потухшие угли посредине. Пахло гнилью и сыростью.
— Наверное, страшно тут было жить деду Афанасию, — тихо проговорила Таня.
— В первое время, конечно, страшно, — также тихо ответил Дима, — а потом привык.
— А ты бы небось даже день побоялся прожить здесь.
— То я, а то он. Старики вообще меньше боятся...
Ребята разожгли на старом кострище огонек. В избушке сразу стало светлей и веселей. Чтобы ночью не залетали комары, Афоня заткнул окно пучком травы, сорванной тут же у порога. Таня поставила на огонь котелок.
Утром первым проснулся Афоня. Костер уже почти потух, и последние угольки еле тлели под дымчато-серым, как пыль, пеплом. Афоня подгреб угли и положил на них несколько сухих щепок. Через минуту по ним побежал тонкий язычок пламени.
Афоня открыл дверь. Потянуло прохладой. В предрассветных сумерках, как в тумане, смутно виднелись силуэты деревьев и кустарников.
«Интересно, как выглядит озеро в такой ранний час, — подумал Афоня. — Пойду посмотрю».
Выйдя на берег, он вдруг увидел движущиеся по воде какие-то расплывчатые белые пятна. Афоня попятился назад, ему сразу вспомнились рассказы Ильи Кузьмича о русалках и дочери Лесного царя, от страха замерло сердце. Афоня повернулся и со всех ног побежал в избушку.
Он хотел было разбудить друзей, но передумал: «Не поверят. Скажут: померещилось от страха».
Когда Дима и Таня проснулись, Афоня как бы невзначай предложил:
— Пошли умываться на озеро.
Дима взял ружье, Афоня — фотоаппарат, и они пошли.
Ребята вышли на берег. На волнах покачивались белые фигуры, но сейчас было совсем светло, и их можно было легко рассмотреть.
— Вот это, я понимаю, красавцы, — восторженно проговорила Таня. — А какие белые! Как будто слеплены из снега.
— Лебеди-кликуны, — смущенно сказал Афоня.
Заметив ребят, лебеди вытянули свои длинные тонкие шеи, взмахнули крыльями и, поднявшись, скрылись в белом тумане, низким облаком висевшим над водой. И долго еще были слышны в утренней тишине негромкие крики: «Кли-клу! Кли-кли-клу!»
Ребята умылись и пошли назад в избушку, разговаривая на ходу. Впереди послышался треск ломаемых сучьев. Дима поднял голову и ахнул: через кусты к избушке брел большой бурый медведь. Мальчик окаменел, потом схватился за ружье. В голове быстро пронеслась мысль: «Не убью с одного выстрела — обязательно бросится на нас».
Таня уцепилась за Димину руку и потащила его за куст. Ребята притаились.
— Бе-бежать надо бы-быстрее отсюда, — запинаясь, прошептала Таня.
— Бежать поздно, — также шепотом ответил Дима. — Если пойдет на нас, выстрелю в голову.
— Подожди стрелять, — остановил его Афоня, открывая футляр фотоаппарата. — Знаешь, какой снимок получится!
— Замолчи ты со своим снимком и не дыши, — зашипел Дима. — Вот услышит твою возню, и мокрого места не останется от тебя и от твоего аппарата.
Зверь подошел к двери и толкнул ее носом. Тут из-за угла выкатился маленький пухлый медвежонок и тоже полез на крыльцо. Медведица, открыв дверь, почуяла запах дыма и, видимо, не решилась переступить порог. Она заворчала и сильным ударом лапы толкнула медвежонка. Он кубарем скатился с крыльца и бросился прочь от избушки. За ним ушла и медведица.
Ребята облегченно вздохнули. 
ВЕРТОЛЕТ
Ребята уже совсем собрались в обратный путь, когда услышали вдали глухой шум мотора и увидели над лесом черную точку, быстро приближавшуюся к озеру.
— Вертолет! — крикнул Дима.
— Наверное, пожарный патруль, — сказал Афоня.
Вертолет подлетел к самому озеру.
— Надо спрятаться, а то увидят нас и подумают, что мы заблудились, — сказал Дима. — Ложись в траву!
Все легли. Но тут Афоня увидел на цветке большую черную бабочку, поднялся и накрыл ее фуражкой:
— Траурница! Очень редкая! Как раз в моей коллекции такой нет.
— Ложись, — потянул его Дима.
Вертолет спустился совсем низко и сделал над озером круг.
— Должно быть, все-таки будет садиться, — сконфуженно пробормотал Афоня.
— Заметили, как ты скачешь. — Таня с упреком посмотрела на Афоню.
— Совсем не потому, что меня заметили, — возразил тот, — а должно быть, Илья Кузьмич сказал, что мы пошли на Адово озеро, и вот за нами послали вертолет.
— «Должно быть»... — передразнил Дима. — Не надо было прыгать...
Вертолет спустился еще ниже и повис над озером.
— Место для посадки высматривает, а сесть некуда — кругом лес и трясина, — с сожалением проговорила Таня.
— Как некуда? — почти крикнул Дима. — Есть место. На воду можно сесть. Там, где я купался, неглубоко и дно твердое как камень.
Дима быстро разделся и, размахивая над головой рубашкой, залез в воду. Летчик понял Димины знаки, и вертолет пошел на посадку.
Раскрылась дверца, из вертолета прямо в воду спустилась лесенка, и по ней сошли двое мужчин в высоких охотничьих сапогах и с рюкзаками за спиной. Один держал в руках ружье, у другого был топор.
— Отец... — вырвалось у Димы. — Нас ищет... Вот нам теперь будет...
Федор Кузьмич и его спутник — начальник планового отдела леспромхоза Семен Иванович Сильнов — подошли к ребятам.
— Вот это да! — удивленно всплеснул руками Семен Иванович. — Мы летели осваивать неизвестные места, а тут — на тебе! — уже люди. Дела-а...
— Как вы сюда попали? — строго спросил Федор Кузьмич. — Ведь вы поехали в Серебрянку.
— Мы были в Серебрянке. А сюда пришли посмотреть на озеро, — несмело ответил Дима.
— Ничего себе прогулочка — тридцать километров по тайге, — нахмурился Федор Кузьмич. — Путешествия, конечно, вещь хорошая, только незачем вам было одним заходить в такую глушь. Как только вас тут не задрали медведи!
— Медведи — животные безобидные, — сказал Афоня. — Не беспокой его, и он тебя не тронет. Сегодня к нам приходила медведица с медвежонком, заглянула в избушку и ушла.
— Ну вот что, путешественники, — сказал Федор Кузьмич, — садитесь в вертолет — и домой.
— Повезло вам, ребятки, — подмигнул Семен Иванович. — Домой на вертолете — милое дело.
— Дядя Федор, а вы зачем сюда прилетели? Нас искать? — спросила Таня.
— Нет, не вас, — ответил Федор Кузьмич. — Нам нужен лес для авиафанеры, и, по нашим предположениям, здесь можно отыскать подходящий. Найдем, поставим новый поселок...
— А в озере можно развести зеркального карпа, — вступил в разговор Афоня.
— А на озере — уток и гусей, пусть живут вместе с дикими, — добавила Таня.
— И карпы, и гуси, и утки — все будет в свое время, — улыбнулся Федор Кузьмич. — А сейчас садитесь. Машину нельзя задерживать. Потом, дома поговорим.
Дима достал из кармана компас и протянул отцу:
— Возьми, папа. Пригодится.
— Конечно, пригодится, — взял отец компас.
— А вот еще карта, — сказал Дима.
— Какая карта?
— Ее Дима срисовал с дядиной, — объяснила Таня. — Мы сюда добрались по ней и по компасу.
Федор Кузьмич развернул карту и, показывая на обведенный красным ягодным соком кружок, спросил:
— А тут что отмечено?
— Здесь сосновый бор, который нужен леспромхозу, — ответил Дима. — Мы слышали, как ты говорил с дядей Ильей, и решили помочь леспромхозу.
— Ну и дела! — покачал головой Семен Иванович. — А как туда пройти?
— Мы вас проводим. Ладно? — проговорила Таня.
Федор Кузьмич рассмеялся:
— Ну ладно. Показывайте свои владения...
ЗДЕСЬ БУДЕТ КОРЧАГИНСК
Вертолет улетел, а ребята повели Федора Кузьмича и Семена Ивановича мимо избушки деда Афанасия к большому лесу.
— Не зря вы нас сюда привели, — сказал Семен Иванович. — Лес большой, хороший. Как раз такой, какой нам нужен.
— Да, лес что надо, — подтвердил Федор Кузьмич. — А поселок все-таки лучше поставить здесь: место высокое, сухое и недалеко речка.
— Место подходящее, — согласился Семен Иванович и, взяв в руку топор, подошел к высокой толстой осине. — Вот здесь сделаем затесик, чтобы заметить место.
Федор Кузьмич и Семен Иванович сели отдыхать.
— Дядя Федор, а когда здесь начнут строить поселок? — спросила Таня.
— Этой осенью начнем.
— А как он будет называться?
Федор Кузьмич задумался, медленно огляделся вокруг и увидел, что Дима что-то вырезает перочинным ножичком на отмеченной осине. На сером стволе издали были видны белые буквы: «Корчагинск».
— А называться он будет Корчагинск.
— Что ж, очень хорошо, — согласился Семен Иванович.
Он достал из полевой сумки карту, нарисовал на ней яркий и ровный красный кружок и над ним написал: «Поселок Корчагинск».
* * *
К вечеру путешественники вернулись на озеро. Прилетел вертолет и сел на прежнее место.
— Всем вместе нам не улететь, не влезем. Так что вы, ребята, летите первыми, — распорядился Федор Кузьмич. — А нам тут еще хватит забот с медведицей.
Вертолет набрал высоту.
— Как жаль, что наше путешествие кончилось, — с грустью проговорила Таня.
— А здорово нам повезло, — рассуждал Афоня. — На моторке плыли, по тайге путешествовали, лес для леспромхоза нашли, а теперь домой летим на вертолете.
Ребята, прижавшись к окошечку, смотрели вниз.
Озеро уходило все дальше и становилось все меньше и меньше. Вот оно стало совсем маленьким голубым кружочком, почти таким же, каким они увидели его на карте у дяди Ильи Кузьмича. Только теперь этот кружок больше не был для них неизвестной и страшной глушью: новый уголок родного края раскрыл перед ребятами свои богатства и свою красоту.
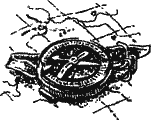

ДОРОГАМИ ИСПЫТАНИЙ

В. Климов
КАРАВАННЫЙ БУНТ
Рассказ

Перевел В. Муравьев
Четырнадцатого марта 1861 года в село Ёгву съехалось столько народу, сколько не бывает и на Алексея, во время самой большой годовой ярмарки.
Накануне этого дня земские гонцы объезжали окрестные деревни и починки, стучали в окна изб и громко выкрикивали:
— Завтра в посаде мирской сход! Всем мужикам велено идти на сход!
И если кто спрашивал:
— О чем будет сход-то?
Гонцы объясняли:
— Волю из Питера привезли, объявлять народу будут.
Воля, долгожданная воля!
Что за воля, никто не знал. Но, по-мужицкому рассуждению, выходило, что, ежели воля, значит, не надо больше будет платить барину оброков: ни сенного, ни хлебного, ни денежного. А главное, свобода от караванной повинности, потому что нет ничего хуже, как попасть в соляной караван. Нет, наверное, нигде более тяжелой и изнурительной работы. Уже при самом начале, пока в Усолье погрузишь на барки рогожные кули с солью, всю одежонку спустишь, все тело соль изъест, даже в уши соль проникает, от чего люди глохнут. Отсюда и поговорка пошла: «Пермяк — солены уши».
А погрузив барку, ее надо вести до устья Камы, затем тянуть на бечеве вверх по Волге, куда прикажут. Тут уж лямкой плечи до мослов сотрешь, ноги по камням до крови собьешь. А на месте ведь еще разгрузить барку надо, перетаскать тяжелые скользкие кули на береговые склады. И беда, если соль дождем подмочит или захлестнет барку волной! Тогда хозяин ничего не заплатит, да еще выдерут плетьми. А дома-то десять голодных ртов ждут. Иной мужик за год два раза сходит с караваном и вернется хворым, а то и вовсе сгинет — или утонет, или помрет от лихорадки. Так и множились на Иньве от этого проклятого каравана немощные, да калеки, да осиротевшие семьи.
Логвин Вилесов, двадцативосьмилетний мужик, вышел из деревни, когда зазвонили к вечерне. На большаке было людно, шли пешком, ехали в розвальнях, в кошевнях, в дровнях. За мужиками увязались бабы, хотя их на сход не звали.
По пути Логвин думал, как хорошо он будет теперь жить на воле — не будет оброк платить барыне Наталье Павловне Строгановой и в караван больше не поедет. От каравана один разор: в прошлое лето посылали мужиков, говорили, что только до устья Камы, а там отпустят, да обманули — пришлось до самого Нижнего идти. В Нижнем выгрузили соль, поставили барку в затон, приказчик дал мужикам по рублю и сказал:
— Теперь, ребята, отправляйтесь-ка домой. Остальное на месте получите.
Добирались до дому без малого месяц. Логвин три пары лаптей стоптал по дороге. Три месяца работал, а и трех копеек в семью не принес. Все тридцать рублей, что, говорят, следовали Логвину, пошли на оброк барыне. Еще и шапку на еду променял да на переправе отдал перевозчику огниво.
Мужики, конечно, радовались известию о воле, но на душе у них все же было тревожно: каково-то господа с этой волей повернут? Ведь они с мужиками что хотят творят. Вон мельник из Веселухи рассказывал, что тамошний барин своему гостю заморскому, какому-то австрияку, подарил ковер, а в придачу — мастерицу-золотошвейку Настасью Радостеву. Ежели, мол, нравится тебе, друг заморский, эта пермячка, так бери с богом, у нас такого добра — пруд пруди, мы их и не считаем! И то правда — много пермяков, по Иньве-реке мужиков, сказывают, семнадцать тыщ, а баб, верно, вдвое больше.
В Ёгве у земской избы собралась толпа. Логвин протолкался вперед. Посреди толпы, одетый по-праздничному в хороший тулуп, в бараньей шапке на голове, в белых пимах на ногах, мужик из посада Тимофей Петров истово говорил:
— Обманут они нас! Вот увидите, обманут!
Этого старика знала вся волость.
Живет Тимофей Петров с двумя сыновьями. Жена у него померла, оставив ему пятерых сыновей. Но одного приказчик сдал в рекруты, и тот погиб где-то на Кавказе, другой умер в караване, третьего вместе с семьей барин перевел в рудничный поселок углежогом, так что при отце остались только двое. Тимофей мог бы жениться во второй раз, да не женился. Живет он справно, не курит, не бражничает, много работает по плотницкой части.
Беднота Тимофея Петрова уважала, а начальство, приказчик и те, кто побогаче, не любили за то, что резал им всем правду в глаза. Однажды Тимофей увел из куреня* артель, рубившую дрова для завода. Приказчик Яков Кириллович крепко было за него взялся, да ничего у него не вышло...
_______________
* К у р е н ь — делянка в лесу, предназначенная под вырубку.
— Получим землю, будем свой хлеб есть, — сказал какой-то мужик.
— Ты сначала получи ее, тогда и радуйся. — Тимофей понизил голос: — Вот что я вам, мужики, скажу. Нам не настоящую волю привезли. Один знакомый сегодня из Кудымкара приехал, там уже волю объявили. Да только это не царский манифест, а грамота, барами написанная, и сказано в ней, что надо по-старому на помещиков работать. Мужики, не поддавайся на обман, будем стоять, чтобы настоящий манифест объявили. Так и скажем: хотим быть под царем! Царским-то крестьянам хорошо, у них и подать небольшая, и с караваном их не гоняют.
Зазвонили колокола. Праздничный перезвон их возвещал о важном событии. Все, кто был на площади, плотнее придвинулись к церковной паперти.
На паперти, кроме попа, стояли незнакомые чиновники и офицер в эполетах. В толпе говорили, что офицер прислан от самого царя, следить, чтобы местное начальство чего не напутало.
Самый важный приезжий чиновник достал бумагу, держа, словно икону, показал народу и передал священнику. Звон кончился, и священник громко стал читать.
Народ слушал молча. Слушал и Логвин, но мало что понимал.
«Где уж нашим умом, — подумал он. — Слова-то все какие мудреные. Надо будет у Тимофея спросить, он объяснит».
У церковной ограды темнели надгробные плиты и кресты. На одном кресте был высечен из серого камня распятый Христос. Сделал его местный мастер Игнашка Логачев. Мужики считали, что сделал плохо: Христос его походил на лешака — лохматый, бородатый, — но барам понравилось, и Игнашку отправили в Питер. Теперь, говорят, он в барских хоромах узоры на потолки лепит, крылечки и стены украшает.
Из всего манифеста Логвин понял одно: что волю дадут не сейчас, а через два года. В толпе поднялся глухой ропот. Чиновник и офицер нахмурились, уездный исправник выступил вперед, громко крикнул:
— Тихо, мужики!
Но мужики зашумели еще громче.
«Обманули, обманули, — вертелось в голове Логвина. — Как же так, ведь сам государь обещал волю!»
Исправник с урядником кое-как уняли толпу.
Приказчик объявил, что караваны не отменили и те, кто пойдут с караваном, должны подписать ряд*. — Не пойдем ноне! Пусть приказчик идет! С нас хватит! — крикнул из толпы Евсей-солдат. Его сдали в солдаты вместо сына горного мастера, но он там покалечился и был отпущен по чистой.
— Не пойдем! Пускай других дураков ищут, а мы учены! — шумели мужики.
Приказчик что-то говорил, но его уже не слушали, чиновник, переговариваясь с попом, стал поспешно прятать бумаги, исправник грозил толпе кулаком.
Шум в толпе нарастал. Еще вчера мужики боялись и барина, и чиновника, и приказчика, сегодня же осмелели. Осмелели не оттого, что ждали скорой воли, а оттого, что не получили ее.
Начальство поняло, что делать ему тут больше нечего, и ушло в церковь. Началась служба. Бабы и несколько мужиков пошли в церковь, остальные разошлись по домам.
Мало-помалу площадь опустела. Она казалась сиротливой и грязной, как изба после покойника. Снег истоптан не только посредине, но и у изгороди, где еще утром стояли высокие сугробы, чернеет конский навоз, валяется солома, клоки сена. Дьяконова пегая коза бродит по истоптанному снегу, подбирая сухие травинки.
_______________
* Р я д — договор, соглашение.
Но окраины посада — Катыт, Кывтыт, Дзабин — продолжали шуметь, мужики не могли угомониться. Логвин подумал и пошел на Нижнюю улицу, где жил Тимофей.
Тяжело жилось барским мужикам. Логвин старался вести хозяйство бережливо, не расходовать зря соль и хлеб, лыко и мочало, дрова и веники. Чтобы не жечь лишнюю лучину, вставал со светом и ложился спать, как только темнело. Но сегодня поднялся ни свет ни заря, сон ушел. Логвин слез с полатей, засветил лучину и сел плести лапоть. Лаптей не напасешься — до куреня пять верст, а по утрам и вечерам теперь наст, по нему лыко быстро протаптывается.
— Поспал бы еще, — сказала жена.
— Спи, коли спится, — отозвался Логвин. — А я не хочу...
Плетет Логвин лапоть, постукивает кочедыком, а думы у него в голове тяжелые, безысходные.
Уже три недели прошло, как объявили волю, но в жизни мужиков ничего не переменилось, все осталось по-старому. Вчера староста опять требовал с Логвина казенных податей, и оброчные работы, говорил, надо выполнять. Да разве Логвин не работает? Всю зиму не выходит из лесу, и непонятно, почему всегда в долгах. Наверное, прав Тимофей: писарь записывает не все, что заработано. Тут еще жена больная еле управляется по дому, неизвестно, когда поправится, когда сможет помогать ему. И в караван могут угнать. Ничего не поделаешь — Логвин недоимщик.
Однажды какой-то человек, которого Логвин возил в Усолье, сказал ему, что человек, мол, создан для счастья. А у Логвина в избе счастье и не ночевало. Счастье — это земля, лошадь, телега, хлеб. Ничего этого у Логвина нет: земля барская, лошадь чужая и хлеб не свой. Рожь еще не поспеет, а ему уже напоминают: не забудь отдать за семена, за лошадь, за землю. Из четырех суслонов три приходится отдавать, поп не может без хлеба жить, приказчик не может, графья и подавно. А Логвин и без хлеба обойдется, он лебедой, пиканом, осиновой корой, как заяц, будет сыт.
В окно постучали.
— Чего там?
— Сход собирают Тимофей Петров и другие посадские, — сказал сосед.
Логвин надел зипун и вышел из избы. Всю дорогу молчали, каждый думал о своем.
На краю села стояла старая изба с маленьким, в одно бревно, оконцем. Изба казалась хмурой и зловещей, как нищая кривая старуха Малюш. В этой избе жил дед Ондру. В юности Логвин часто бывал у него, вечерами любил слушать песни Ондру о богатыре Кудым-Оше, который добыл для своего народа хлеб и железо, или рассказы про атамана Пугача, который разогнал бар и дал крестьянам волю и землю. Давно это было. Но добро и зло всегда вместе ходят, как два лаптя, как день и ночь. Снова наступили тяжелые времена, и снова лишились пермяки воли, своих земель и лесов.
Возле земской избы уже толпился народ. Сторож в тулупе стоял у ворот и говорил:
— Не велено мне, добрые люди, никого пускать. Если пущу, меня самого засекут.
— Зови приказчика! — требовали мужики.
— Сейчас он придет, за ним уже послали.
Прибежал молодой писарь, объявил:
— Сию минуту будут.
Из-за угла появился приказчик. Он был в черной шубе, в белых с красными узорами пимах, в меховой шапке. Приказчик подошел к воротам, повернулся к народу, спросил:
— Это ты, Тимошка, опять народ мутишь? Спина у тебя зачесалась?
— Спина — нет, — ответил Тимофей, — а руки чешутся.
— Вы обманули мир! — крикнул какой-то мужик. — Не государеву волю объявили, а свою. Давайте нам государеву грамоту!
— Вам читали царский манифест. Никакой другой бумаги нет и не было, — сказал приказчик.
— Где это видано, землю крестьянам продать, а леса оставить господскими. Что же нам теперь, ни за грибами, ни за ягодами не ходить?
— Почему не ходить? По билету — пожалуйста.
— То-то и оно! Ступил на господскую землю, так плати. А скотину где держать? Где дрова, лыко, осиновую кору брать?
— А вы как же хотели? Все задарма? Добро-то ведь господское!
— Лес — божий дар. Его никто не сажал, и он должен быть для всех. Так я говорю, мужики? — повернулся Тимофей к народу.
— Так, батюшка, так! — послышалось отовсюду.
— Довольно нас обманывать!
— Мы теперь вольные! В караван больше не пойдем! — кричали в толпе. — Пусть приказчик ряд порвет! Открывай ворота!
— Стойте, мужики, стойте! — приказчик, пытаясь сдержать толпу, выставил вперед руки, но толпа уже тронулась вперед, и его никто не слушал.
Тогда приказчик выхватил у сторожа ружье и выстрелил в воздух.
Толпа отпрянула назад, растерялась на некоторое время.
— Вот лешак! — выругался здоровенный мужик и наотмашь ударил приказчика. Тот упал, мужики накинулись на него.
— Не трожь! Не бери греха на душу! — крикнул кто-то за спиной Логвина.
Растолкав мужиков, к приказчику подошел человек в шубе, крытой полусукном. Он помог приказчику подняться. Сторож открыл ворота, приказчик поспешно скрылся в избе, народ с гвалтом повалил во двор. На рундук поднялось человек пять мужиков, среди них были Тимофей, Митрий Сыстеров и Устин Гусельников, тот самый, что остановил драку.
— Мужики! — громко сказал Гусельников, — сейчас будем решать, что делать с караванным рядом.
Он сходил в избу, привел приказчика и писаря. У писаря под мышкой была папка с бумагами. Гусельников взял у него папку, вынул оттуда листы. Приказчик стал уговаривать:
— Одумайтесь, мужики! Для вас же плохо кончится, в железо закуют.
— Всех не закуют, железа не хватит, — ответил Гусельников. — Вон нас сколько.
— В каторгу пойдете!
— Хуже, чем теперь, не будет! Давай, Устин, решай дело!
Гусельников поднял над головой бумаги:
— Здесь записано, кто должен идти в караван. Что с этой бумагой делать?
— Изрубить ее! Да помельче, как начинку пельменную!
Прикатили чурбан, поставили его на край крыльца, принесли топор. Устин подозвал Логвина, бросил бумаги на чурбан и сказал:
— Руби!
 Логвин привычно взялся за топор, глянул на бумаги, исписанные убористым почерком лишь наполовину, и осторожно предложил:
Логвин привычно взялся за топор, глянул на бумаги, исписанные убористым почерком лишь наполовину, и осторожно предложил:
— Может, чистое-то оставить, что добро портить?
— Еще чего! — крикнул Сыстеров. — Знай мельчи!
Логвин начал рубить бумаги. Сыстеров радостно следил за топором, Тимофей хмурился, Гусельников ногой сгребал в кучу обрезки.
Когда с бумагами было покончено, Гусельников поднял руку и заговорил:
— Мужики! Приказчик нас обманывает. И в колесной мастерской обманывают. И за вачеги* вдвое дерут. Что будем делать с приказчиком?
— Выгнать его!
— Прежде выпороть!
— И мельника! И лесную стражу! И писаря! Вместе плутуют.
— Погодите, миряне, дайте слово сказать, — послышался басовитый голос. Это говорил Сампоев, самый богатый мужик в волости, он всегда платил подати вперед и не бывал ни в курени, ни в караване. Всего пять лет назад Сампоев ходил в лохмотьях, потом снюхался с конокрадами и разбогател. Теперь он держит батраков, завел пилу. Мужики говорят: «Пошли дрова рубить», а он: «Вы рубить, а я пилить».
— Говори, Прокопий, — разрешил Гусельников.
Сампоев снял свою островерхую шапку из куньего меха и сказал:
— Мы должны платить оброк, должны идти в караван. Этот порядок не нами заведен, и не нам его рушить. А кто порушит, тот враг царю и отечеству и сам себе враг! — Сампоев громко высморкался. — Вон Тимошка да Кузька бунтовали однажды, а ничего, кроме розог, не заработали. Так?
— Так, так! — поддакнул торговец Викул.
— Врешь, Прокоп, — сказал Тимофей. — И ты, Викул, врешь. Кто дорогу к счастью пробивает, тот не враг себе. Не будем мы больше ни тебе, ни графу кланяться!
— Да что с ними говорить! — зашумели мужики. — Они приказчиковы заединщики. Бей их!
_______________
* В а ч е г и — рабочие рукавицы.
Викул и Сампоев поспешно выскочили за ограду.
Гусельников подождал, когда стихнет шум, и сказал:
— Будет, как вы решили, мужики. Сход выберет нового приказчика, и нового мельника, и писаря, и лесную стражу.
Весна набирала силу. Снег уже почти сошел. На пригретых солнцем проталинах показалась молодая травка, которую щипали тощие козы и овцы, дожившие до весны. Бурлила Ёгва-река, вода в ней поднялась, угрожая затопить низину. Прилетели и начали вить гнезда птицы.
Земля ждала пахаря, а пахарям нынче не до нее. Не только по вечерам, но и днем они собираются вместе и говорят. Бабы бегают из дома в дом, хлопают себя по бокам и испуганно шепчут: «Что-то будет, что-то будет...»
Шестого апреля был опять созван сход, выбирали мирское волостное начальство. Выбрали самых справедливых и бойких посадских и деревенских мужиков: Архипа Кетова, Андрея Гуляева, Ивана Ершова, Устина Гусельникова, Тимофея Петрова.
Логвин позавидовал: свой брат мужик, а такая им честь. Но теперь он был спокоен: новое начальство знает крестьянские нужды. Вон уж долги списали, разрешили в господском лесу собирать грибы и ягоды, ломать веники.
Два дня действовал новый староста Архип Кетов и новое начальство. На третий день в Ёгву прислали солдат с тремя офицерами во главе. С ними приехали чиновники из губернии и советник Лукин из строгановского управления. Тут же собрали сход, объявили о посылке каравана. Уездный исправник немец Пейкер кричал на мужиков, требовал, чтобы они повиновались графской воле. Советник Лукин тоже ругался, что, мол, через две недели вскроются реки, надо начинать сплавлять соль и железо, а ничего не готово.
Когда Логвин пришел в Ёгву, народу уже собралось не меньше полтыщи. Шум толпы смешивался с грачиным граем.
Солдаты стояли стеной, держа ружья наперевес. Штыки и дула винтовок, направленные на толпу, поблескивали на солнце.
Логвину показалось, что два черных дула, похожие на глаза сатаны на иконе, нацелены прямо ему в грудь.
«Неужто будут стрелять?» — подумал Логвин. Ему стало страшно, сразу вспомнилась мать, больная жена, дети. Да еще таратайка, которую дал ему вчера новый приказчик.
— Приказываю подписать договор о караване! — закричал Пейкер.
Но толпа его перебила:
— Мы вольные! Вы нам не хозяева теперь!
Логвин стал искать глазами Архипа, Устина, Тимофея. Они могли бы посоветовать, что делать Логвину и его соседям, но их не было видно.
Шум и ругань все нарастали:
— Бей их! Нечего смотреть!
— Беритесь за вилы и топоры!
Затрещали колья и жерди, выламываемые из изгородей.
Тут Логвин увидел Тимофея, он, отделившись от толпы, бежал вперед, к солдатам, размахивая руками.
Офицер что-то скомандовал, словно тявкнул по-собачьи, и сразу раздался залп. Испуганные грачи и галки стаей поднялись над селом.
Тимофей остановился. Логвин рванулся было к нему. В это время прогремел второй залп, Тимофей схватился за лицо, шагнул еще шаг к солдатам и рухнул на землю.
У Логвина перехватило дыхание, закружилась голова. Жгучая боль в ребрах затуманила сознание. А в ушах, словно набат, гудело: «Обманули, обманули...»
В. Климов
Я УЖЕ БОЛЬШАЯ
Рассказ

Перевел В. Муравьев
1
Раскаленное, пышущее огнем солнце словно остановилось посреди белесого неба и струит на землю изнуряющий жар. Все живое — и люди, и скотина, и птица попрятались, кто куда смог, от его жгучих лучей. Даже оводы и шмели в этом зное летают словно бы нехотя и жужжат лениво.
Стоит конец июня — самый разгар сенокоса. Но в лугах не видно ни косарей, ни баб с граблями. Сегодня петров день, престольный праздник в Сугоне. А работать в праздник грех. Не всем, конечно, грех. Бедным — тем можно работать и в праздник. Мать так Овде и сказала: «Срошным* работать не грех». А Овдя — срошная, она нанялась на лето пасти Амоновых коров.
_______________
* С р о ш н ы й (искаж. срочный) — работник, нанятый на определенный срок.
Грешно работать в праздник волостному старшине Мокею, батюшке и уряднику, да еще братьям Бачуковым — Гавре и Амону.
Амон — первый богач в Сугоне. Он не то что в большие праздники, он и по воскресеньям не работает, не гневит бога. Может быть, поэтому бог и посылает ему всякие милости: лошадей, коров, овец. У Амона на гумне стоит молотильная машина. Да и брат его, Гавра, не обделен богом, всего у него в достатке.
Да и как тут Овде с матерью праздновать, когда в хозяйстве работников всего двое — мать да она. Отца-то уж три года как забрали в солдаты и угнали на войну с германцем, и с тех пор никаких вестей от него. Так что самим надо управляться. Пока сенокос, надо для козы и овцы запасти сена на зиму.
Своего покоса у них нет, поэтому Овдя вышла наГаврин луг. Его давно выкосили работники и сено увезли, но там и сям, где коса не достала, зеленеет трава. По этим-то местечкам и лазит Овдя с серпом.
Работает она споро, проворно, не впервой ей это дело. Лоб, щеки и шея под волосами взмокли от пота. Зато босым ногам хорошо: легко и прохладно.
Срезав последнюю горсть пырея с вьюнком, Овдя связала большую вязанку и, взвалив ее на плечи, пошагала домой. Она чувствовала, что сильно проголодалась. Сейчас бы холодной сметанки... Да где там!.. Это у Амона сметаны много, хоть собак корми.
Сегодня утром, загоняя коров во двор Амона, Овдя услыхала какую-то возню в погребе. Заглянув в приоткрытую дверь, увидела, что в погреб забрались две хозяйские собаки. Сойка лакала сметану из большого горшка, а Буско схватил и волочил по земле кусок мяса.
В это время из амбара вышла старуха Мотра — сестра Амона. Заглянув в погреб, она шуганула собак, но даже не накричала на них, видно, не жалко ей добра. Да что им, богатым! Говорят, Амон, когда не случится под рукой дегтя, тележные колеса топленым маслом смазывает.
Из центра посада, оттуда, где среди кудрявых берез и тополей сверкают золоченые кресты над зелеными куполами, поплыл перезвон колоколов: ляпичи-нюричи-шоричи-сугон-н-н! Ляпичи-нюричи-шоричи-сугон-н-н! Маленькие колокола тренькают часто и коротко, а большой выговаривает медленно, гулко. Это они, словно дьячок по поминальнику, перечисляют окрестные малые деревушки, особенно выделяя посад Сугон. Как-никак сугонские богатеи пожертвовали деньги на большой колокол.
Люди в одиночку и группами поднимались на пригорок, заходили в церковную ограду.
Овдя, облизнув пересохшие губы, подумала о том, что на паперти стоит кадка с холодным квасом, — пей сколько хочешь.
«Не зайти ли?» — подумала Овдя.
Ей живо представился батюшка с его густым басовитым голосом.
Когда отец надумал отдать ее в школу, он понес батюшке гостинец — пуд ржи.
Отдать дочь в школу надоумил отца дядя Серга. Девчушка, мол, смышленая, пусть учится.
Серга появился в их доме три года тому назад.
Однажды волостной писарь привел к ним по-городскому одетого человека и сказал отцу:
— Принимай, хозяин, на постой. Изба у тебя просторная, дите одно, место найдется.
Отец оглядел незнакомца и сказал:
— Пусть живет, чай, не на год...
Писарь отозвался со смешком:
— Угадал, хозяин! Не на год, а на три! Политический ссыльный он, понял?
Отец пожал плечами:
— Ну что ж, пусть живет.
Когда писарь ушел, отец разговорился с постояльцем. Тот сказал, что зовут его Сергей, фамилия Кончаков. Работал он на заводе в Перми, да хозяин стал очень прижимать рабочих, вот они и взбунтовались. За это их выслали из города в разные дальние деревни.
Серга оказался добрым и веселым, Овдя к нему скоро привыкла. До сих пор помнит она, как Серга напутствовал ее в школу.
«Ежели не станешь лениться, — сказал он тогда, — может, далеко пойдешь, как крестьянский сын Михайло Ломоносов. Большого ума был человек Михайло Ломоносов. Говорят, сквозь землю видел. Как-то раз приехал он в наши Пермские земли, поглядел вокруг и говорит: «Вот в этом месте лежит золото, а вот в этом — железо».
И еще много интересного рассказывал он Овде.
Поговорить с Сергой любили и сугонские мужики. Он выписывал из города какие-то книги, газеты, часто читал их соседям вслух, старался растолковать то, что было им непонятно. Хоть и молод был, а даже старики относились к нему с уважением.
Всего с полгода пожил Серга в Сугоне. Однажды ночью его арестовали. Когда его увозили, он сказал сбежавшимся соседям: «Не горюйте, мужики. Скоро придет наше время, я вернусь сюда вольным человеком, тогда договорим обо всем, о чем сейчас не успели. Я обязательно вернусь».
Вскоре сапожник Андрей, который больше других дружил с Сергой, разузнал, что Кончакова сослали в Сибирь.
Нынешней зимой, как сказывал учитель Мирон Власыч, царя с трона скинули. Все говорили про свободу, и Овдя все время ждала, что теперь-то Серга вернется, как обещал, в Сугон. Но он пока не возвращался, и вообще в посаде мало что изменилось. Начали было мужики, решив, что наступила свобода, самовольную рубку леса, да только и на рубку пришел запрет, и лес отобрали обратно в казну.
Дойдя с тяжелой вязанкой на плече до полевых ворот, Овдя присела в тени вербы, отдохнула немного, потом не спеша двинулась узкой зеленой улочкой.
Дома Овдя разбросала на межнике траву для просушки, поела и побежала на Нагорную улицу играть с ребятами в чижа и в бабки.
На улице во всем чувствовался праздник. На крылечках, на лавочках возле домов, на бревнах у изгородей, просто на зеленой травке сидели нарядно одетые мужики и бабы с красными от выпитого пива и браги лицами. Женщины все, как одна, были в ярких кофтах и дубасах*, в новых лаптях, под которые были подвернуты портянки из тонкого выбеленного холста, перевитые плетенными из красной шерсти оборами. У многих на головах красовались вышитые бисером кокошники. Мужики в пестрядинных рубахах с гарусными поясками, в холщовых штанах. Несколько мужиков побогаче были в котах, а кое-кто даже в сапогах. Под кедрами возле колодца кто-то играл на сигудэке — волосяной скрипке.
Проходя Подгорной улицей, Овдя удивилась, что не слышно пьяных песен, ругани и драки. Обычно в праздники подгорные мужики начинали драку с раннего утра. На другой день вчерашние враги мирились, пили из одного туеска сюромку — подновленную брагу, пили до тех пор, покуда снова не вспыхивала потасовка. Но в Подгорной так и говорили: «Что за праздник, если ты без синяков остался!»
Овдя еще не дошла до земских амбаров, где обычно играли ребята, как вдруг услыхала крики и ругань.
«Ну, начинается!» — подумала она и остановилась.
_______________
* Д у б а с — платье сарафанного покроя.
Навстречу ей двигалась большая толпа. В середине толпы ее хозяин Амон, высоко поднимая можжевеловую палку, что есть силы кого-то бил, громко и злобно крича:
— Вот тебе, ворюга! Вот! Вот! Будешь знать, как воровать! Бейте его, соседи, бейте, чтоб другим было неповадно на чужое добро зариться!
Потом Овдя разглядела, что бьют деда Микиту, однорукого калеку. Руку он потерял на японской войне.
Дед Микита был добрый старик, ребятишки любили слушать его сказки и складные прибаутки.
«Неужели он что-то украл? — подумала Овдя. — Быть того не может!»
Рядом с Овдей стояли два старика и переговаривались между собой.
— Ишь чего пузачи творят! — сказал один, седой и тощий, опиравшийся на палку.
— Да-а... — протянул другой. — Амон Микиту кругом обобрал, так он не вор, а Микита вор. Где она, правда-то?
— Они ее, правду, за пояс заткнули.
— Эх, верно говорят: плетью обуха не перешибешь...
Дед Микита пытался закрыться от ударов единственной рукой и жалобно повторял:
— Не брал я ничего! Ей богу, не брал!
— А-а, не брал? — закричал Амон. — А кто горшок сметаны у меня из погреба стащил? — Он поднял над головой, так, чтобы всем было видно, горшок.
Овдя узнала горшок: из него утром лакала сметану Сойка.
Амон с силой ударил Микиту по голове, а Гавра несколько раз хлестнул старика плеткой.
Овдя метнулась к медленно двигавшейся толпе и закричала:
— Дядя Амон, не бейте Микиту! Не бейте! Это не он! Это Сойка съела сметану!
Амон удивленно оглянулся на ее голос, зыкнул:
— Тебя тут не хватало!
Но Овдя продолжала упрямо протискиваться сквозь толпу. Вдруг ее обожгла боль в плече, это Гавра огрел ее плеткой.
Овдя схватилась за горящее плечо. Не помня себя от обиды и злости, она подняла с дороги камень и замахнулась на обидчика.
Но тут кто-то перехватил ее руку, легонько подтолкнул к изгороди:
— Отойди-ка в сторонку, простынь, не то беды не оберешься, — услышала она над собой негромкий голос, который тут же властно крикнул: — Не троньте старика!
Толпа замерла. Все уставились на высокого рослого мужчину в синей косоворотке, суконных черных брюках и яловых сапогах.
Первым опомнился Гавра.
— Да это же Серга-каторжник! — крикнул он. — Защитник нашелся! — И он с такой силой двинул Микиту кулачищем в бок, что тот кубарем покатился с крутого берега.
Серга спрыгнул следом за Микитой и, зачерпнув пригоршней воды из реки, обмыл кровь с лица старика.
— Бей его, каторжника! — завопил Амон и первым кинул вниз увесистый камень. — Бей!
Град камней полетел с крутого берега вниз.
— Скорее! На тот берег! — приказал Серга и подтолкнул Микиту в воду. — Опомнитесь, мужики! — обратился он к толпе.
В это время камень, пущенный меткой рукой, угодил Серге в голову. Он зашатался, как пьяный.
— Хватай его, вяжи руки! — кричал Амон.
Несколько мужиков, спрыгнув с обрыва, накинулись на Сергу, повалили на землю и связали ему руки гарусным кушаком.
Амон, утирая пот с лица подолом рубахи, ехидно посмеивался:
— Попался! Небось с каторги сбежал!
— От нас не сбежит! — Гавра с довольным видом теребил свою жидкую бороденку. — Сейчас сдадим старшине, он его, смутьяна, в уезд отправит. А уж там с ним, по военному времени, возжаться не будут.
— Зачем нам Мокея Иваныча в праздник беспокоить? — возразил Амон. — Я его покуда у себя в амбаре запру. Ведите его, мужики, ко мне во двор.
Сергу поставили на ноги и, подталкивая в спину, повели к дому Амона.
Овдя пошла следом. Заметив ее, Серга улыбнулся разбитыми губами, сказал бодро:
— Не горюй, Овдюшка! Кончается власть Амона и Гавры, вот они и лютуют. Не горюй, скоро взойдет наше солнце!
Гавра злобно ткнул Сергу в спину кнутовищем:
— Ну ты, каторжный, не агитируй тут! Иди быстрее!
Но Серга шел серединой улицы, не прибавляя шага, гордо вскинув голову.
Тут Овдя вспомнила о Миките. Что-то не видно его на том берегу, уж не утонул ли старик, перебираясь через реку?
Овдя обшарила глазами заречную сторону и на полевой дороге увидела одинокую сгорбленную фигуру Микиты. Он еле-еле передвигал ноги, но все же шел и шел — подальше от людей, которые так несправедливо и жестоко обошлись с ним. Вдруг он упал. Овдя подождала, не поднимется ли он, но старик лежал неподвижно.
Со всех ног бросилась Овдя домой.
— Мама! — закричала она с порога. — Сергу Амон к себе во двор повел, грозится в амбаре запереть.
— Какого еще Сергу? — не поняла мать.
— Ну, квартиранта нашего! Ссыльного! Забыла, что ли?
Мать всполошилась:
— Господи! Как забыть? Да откуда же он взялся? Сказывали, в Сибирь его угнали...
— Не знаю, откуда взялся, только он сейчас Микиту у Бачуковых отнял. Ох и били же его!
— Сергу?
— Да нет, Микиту. Все лицо в крови...
— За что же его?
— Будто украл сметану у Амона. Брехня это! Сойка сметану вылакала. Микита за рекой на дороге свалился. Сбегаю отнесу ему квасу.
— Вот горе-то, вот горе-то, — приговаривала мать. — Сходи отнеси, только чтобы никто не видел тебя. Возьми-ка пузыречек, тут травная настойка, первое средство от всего.
— Не бойся, мама, я хоботом*, по ивняку пройду, никто не заметит...
_______________
* Х о б о т — сухое русло, старица.
2
Микита лежал посреди дороги, распластавшись на животе. От мокрой одежды — залатанного шабура*, серых штанов и портянок поднимался легкий парок.
По сторонам дороги стояла высокая рожь, опустив в скорбном молчании еще зеленые колосья.
Подойдя к старику, Овдя окликнула его, но тот не пошевелился. Вокруг него вились оводы, большие черные мухи облепили кровавую рану на затылке.
«Неужто помер?» — со страхом подумала Овдя. Ей захотелось убежать без оглядки, но она пересилила себя, наклонилась над стариком и тронула его за плечо:
— Дедушка Микита, а дедушка Микита!
Старик застонал, повернул голову и посмотрел на девочку тусклым, невидящим взглядом.
— Дедушка Микита, я тебе кваску холодного принесла. На-ко, испей!
Микита, кряхтя и охая, сел, провел рукой по глазам.
— Пей... — Овдя открыла туесок, подула на образовавшуюся сверху пену и поднесла туесок к губам старика.
Тот стал жадно пить — гульк-гульк-гульк. Опорожнил туесок до самого дна, на лбу его выступили крупные капли пота, потекли по щекам грязными струйками.
Овдя осторожно отерла лицо Микиты ладонью.
— Спасибо, — сиплым голосом проговорил он. — Ты чья ж такая будешь?
— Анны Опошиной дочка. Овдя.
— А-а, как же это я тебя сразу не признал? Ох-хо-хо, все тело ломит, затылок огнем горит.
_______________
* Ш а б у р — кафтан.
— Там кожа содрана. Кровь течет.
— Сорви подорожник, приложи.
Овдя сорвала широкий лист подорожника с крепкими продольными прожилками, обтерла его от дорожной пыли рукавом кофты, прилепила к ране.
— Мама настой травный прислала, — вспомнила Овдя и достала пузырек.
— Это хорошо. Налей-ка мне в рот, а то ненароком расплескаю зелье, — попросил Микита.
Откупорив пузырек, Овдя вылила ему в рот тягучую, мутноватую жидкость. Микита глотнул и зажмурился.
— Матери скажи спасибо. Пособи-ка мне подняться да перебраться в тенек.
Ведя старика к черемухе, Овдя сказала:
— Мне подумалось, что ты помер. Чуть было не убежала, испугалась.
— Мертвых чего бояться! — возразил он. — Ты живых, вроде Амона, бойся. Все у него батрачишь?
— У него. Коров пасу. А мать у Гавры на поденщине сено косит.
— Ох-хо-хо, все кости болят, — снова застонал старик, опускаясь на траву.
— За что они тебя? — спросила Овдя. — Ведь ты не украл? Амон-то давеча кричал...
— Напраслину он на меня возвел. Зол Амон на меня за то, что я с ним тяжбу затеял. Он, покуда я был на войне, у моей старухи последний клин земли отнял. Вот я и решил свою землю вернуть.
— Так, значит, Амон хотел убить тебя, чтобы землю не отдавать?
— Убить бы до смерти не убил, а решил попугать, чтобы неповадно было с ним тягаться. И подсунул же черт мне тот горшок!
— Какой горшок?
— Да со сметаной! Мотра выбросить его хотела, говорит, собака из него жрала, осквернила. А тут я, как на грех, подвернулся. Вижу, в горшке еще сметана осталась. Зачем, говорю, добро выкидывать. Взял у нее тот горшок. Тут Амон на меня и налетел, горшок из рук вырвал, стал людей скликать, из погреба, кричит, утащил. Мотра, старая дура, нет бы сказать, как дело было, скорее шасть в дом — и ни гу-гу.
— А дядю Сергу Амон во двор к себе увел.
— Так это Кончаков был? Я и то поглядел, вроде бы он. Да недосуг было его долго разглядывать. Спасибо, отбил меня от этих живодеров. Ты вот что, дочка, сходи разузнай, что там творится. Я покуда тут в холодочке полежу, отдышусь чуток, а ты приди поближе к вечеру.
3
Овдя заглянула в Амонов двор. Никого нет, одна Мотра сидит на лавочке возле дома.
— Чего тебе? — спросила Мотра, увидев девочку. — Шла бы играть, чай, сегодня праздник... — По ее раскрасневшемуся, добродушно улыбающемуся лицу Овдя поняла, что старуха вдоволь хватила свежей бражки.
— Может, коней надо напоить, а то Ерош небось в гости ушел, — сказала Овдя.
— Ушел, ушел, — согласно покивала Мотра. — А коней напоил-накормил. Ну, уж коли пожаловала, заходи в избу, я тебя пирожком угощу, мать-то небось не стряпала?
— Спасибо, тетушка, только я в избу не пойду, ноги грязные.
— Ну ладно, посиди тут, сейчас вынесу. — Она грузно поднялась и, заметив туесок в руках у Овди, спросила: — Куда это ты с туеском-то?
Овдя было растерялась, но тут же нашлась:
— По землянику собралась на шутьмы*.
Как только старуха скрылась в темных сенях, Овдя метнулась к амбару, приникла к отверстию, проделанному в стене для кошки, негромко позвала:
— Дядя Серга, ты здесь?
Тихо в амбаре, только мышь где-то под полом скребется: гырс-гырс, гырс-гырс.
— Дядя Серга! — громче позвала Овдя.
Мышь испуганно притихла, но никто не отозвался.
В это время в сенях заскрипели половицы, и она бегом вернулась к лавочке.
В дверях появилась Мотра. В одной руке она держала глиняную кружку с пивом, в другой — большой пирог.
_______________
* Ш у т ь м а — вырубка, горелые места в лесу.
— Угощайся, касатка.
Овдя ела пирог, прихлебывала из кружки, а сама все косила глазом на амбар — не подаст ли Серга какого-нибудь знака?
Вдруг она заметила, что дверь амбара на крючке.
«Был бы там арестант, повесили бы замок, — решила Овдя. — Так где же он?»
— Спасибо, — сказала она, возвращая пустую кружку Мотре. — Где хозяин-то?
— В гости с хозяйкой ушли. Никак, к Мокею отправились.
В это время отворилась калитка, и во двор вошла попадья — толстая, как суслон, с маленькими маслеными глазками. На ней поверх синего праздничного сарафана был накинут красивый кашемировый платок.
Завидев попадью, Мотра заулыбалась, вскочила с лавки и потрусила навстречу гостье.
— С праздником тебя, голубушка, — певуче поздоровалась попадья. — Как живется-можется?
— Бог милостив, матушка, жива-здорова. Проходи в дом. А ты, — она махнула рукой на Овдю, — иди с богом.
Овдя пошла было к воротам, но Мотра окликнула ее:
— Ты вот что: приходи-ка вечером, погонишь лошадь в ночное. Ерош-то небось пьяный вернется, спать завалится.
— Приду, — пообещала Овдя.
4
Когда Овдя пригнала лошадей в ночное, два ее закадычных друга — Васек и Мишка — были уже на лугу. Они сидели в стороне от других ребят и обсуждали сегодняшние события: избиение Микиты и неожиданное появление ссыльного Серги.
— Ох и сильный же он, этот Серга! — говорил Васек. — Шестеро мужиков насилу связали его.
— Да и то сначала камнем в голову попали, — добавил Мишка. — Не то бы им ни за что с ним не справиться.
— Скрутили и увели во двор к Амону. Говорят, в амбаре заперли.
— Нету его в амбаре, — сказала Овдя. — Где-то в другом месте держат. Только вот где, узнать бы!
— Я знаю где, — сказал Мишка.
— Врешь? — Овдя схватила его за рукав сестриной кофты, в которую он был одет вместо рубахи.
— Чего мне врать? Сам видел! В картофельной яме он сидит на огороде у Амона. Они с Гаврой его туда столкнули и сверху закрыли железной решеткой.
«Надо его освободить!» — чуть было не крикнула Овдя, но прикусила язык, решив сначала взять с приятелей клятву, что они не проболтаются.
— Васек, Мишка, вы умеете держать язык за зубами?
— А что? — спросил Мишка, переглянувшись с другом.
— Нет, вы сначала скажите, сможете ли вы хранить тайну? — Овдя перешла на шепот: — Это большая тайна, самая секретная. Если кто разболтает, то меня в тюрьму посадят, а может, и убьют. Чтобы знали только я, ты и ты, — она ткнула пальцем в грудь каждому. — И больше никто на свете! Ясно?
— Ясно, — разом кивнули мальчишки. — Говори.
— А если проболтаетесь?
— Крапивой меня голого ожгешь или в зубы дашь, — сказал Мишка.
— Пусть в ящерицу превращусь, если скажу кому хоть слово! — горячо воскликнул Васек.
— Ну ладно, слушайте. Надо дядю Сергу из ямы выпустить. Я пойду и лаз открою. А вы постережете моих лошадей?
— Не забоишься? Ведь, если попадешься, Амон тебя убьет, — сказал Мишка.
— Я тихо, не увидит. Посмотрите за лошадьми?
— Лошадей побережем, не сомневайся.
Овдя побежала сначала за реку, чтобы деда Микиту до дому довести. Но старик был очень слаб, не держался на ногах.
— Ладно, полежу под черемухой до утра, — сказал он. — Ночь теплая... К утру, глядишь, опомнюсь.
Овдя рассказала старику о том, что Серга сидит в яме у Амона.
— Выручать парня надо, — сказал дед Микита. — Отправят его в уезд, наговорят на него, чего было и не было, да и засудят. Беги, дочка, к сапожнику Андрею, он придумает, как замок с решетки своротить, самой тебе не справиться.
Овдя побежал в посад.
Подойдя к дому Андрея, она увидела, что калитка заложена палкой, — значит, хозяев нету дома. «Наверное, у дочери в Нюричах загостились», — подумала Овдя и пошла дальше.
Солнце уже давно закатилось, на небе показались неяркие звезды, подернутые тонкой пеленой облаков. Из-за леса выглянул краешек луны.
На Нагорной, возле родника, девки пели нестройно и тоскливо:
Чудный месяц плывет над рекою...
В центре посада было тихо и темно. Люди, устав от шумного праздника, спали беспробудным сном.
В доме Амона тоже не было видно ни огонька.
«Спят», — решила Овдя и черезодной ей известную лазейку в заборе пробралась во двор. Посвистела тихонько, и к ней, виляя хвостом, подбежала Сойка.
Буско — Овдя это знала — сидел на цепи, ночью его никогда не отвязывали.
Крадучись Овдя прошла на огород. Из-под черемухи, гремя цепью, навстречу ей кинулся Буско.
«Ага, его возле ямы привязали, значит, Мишка верно сказал, что Серга тут!»
— Буско, Буско! — негромко позвала Овдя.
Буско приветливо заворчал и улегся под черемухой.
Овдя подошла к яме. Она была закрыта решеткой из полосового железа. При свете поднявшегося месяца был хорошо виден замок с толстой дужкой.
— Дядя Серга! — позвала девочка. — Ты тут?
— Тут! — отозвался из ямы Сергей. — Это ты, Овдя?
— Я, я. Хочу тебя выпустить.
— Ключ принесла? — обрадовался Серга.
— Ключа нету. Замок сломать надо.
— Как его сломаешь? Мне отсюда не достать, у тебя сил не хватит. Сбегай за Андреем.
— Его дома нет. У дочери гостит.
— Может, скоро вернется. Иди посторожи у его ворот.
Так же, крадучись, как шла сюда, Овдя пошла обратно. Проходя мимо хозяйского дома, она невольно оглянулась, не следит ли кто за ней из окон, и вдруг заметила неплотно прикрытое окошко. Ей вспомнилось, что как раз в простенке у этого окна вбит крюк, на котором всегда висят ключи.
«Утащю ключ», — решила Овдя.
Сердце заколотилось от волнения и страха.
Овдя встала на завалинку, заглянула в комнату. Там громко храпел Амон, было темно и душно.
Овдя ухватилась руками за подоконник, подтянулась и уселась на подоконник верхом. Просунула руку в комнату, нащупала крюк.
На крюке висели три ключа. Сверху — короткий, с маленьким колечком; под ним — большой, как молоток, ключ от амбара; последний — небольшой плоский ключик. Значит, верхний.
Неслышно, не звякнув, Овдя сняла ключ с крюка.
В это время под Амоном заскрипела деревянная кровать.
Амон закряхтел, перевернулся на другой бок и снова захрапел.
Через несколько минут Овдя была уже у ямы.
— Дядя Серга, принесла ключ!
— Молодец! Открывай скорее!
Овдя отперла замок, Сергей изнутри поднял тяжелую решетку и вылез наружу.
— Тут они где-то собаку привязали, — вспомнил он.
— Собака меня знает.
Серга опустил решетку и снова запер ее на замок.
Овдя вывела Сергу на улицу.
— Ключ положи на место, чтобы не подумали ни на тебя, ни на работника, — сказал Серга.
Когда перебрались на другой берег реки, он сказал:
— Спасибо тебе, Овдюшка! Ты, я вижу, совсем большая стала.
Микита обрадовался, увидев Сергу.
— Ну, слава богу, а то я уж так боялся за тебя, парень. Ух, кровопийцы, душегубы! — погрозил он костлявым кулаком в сторону Амонова дома.
— Ничего, дедушка, недолго осталось терпеть, скоро мы, большевики, возьмем власть в свои руки. Тогда наступит новая, справедливая жизнь.
— И дедушке Миките вернут его землю? — спросила Овдя.
— Вернут, непременно вернут. Ну, давай прощаться, Овдюшка. Беги домой, да никому, кроме Андрея, ни слова. Поняла?
— Поняла.
Овдя пошла, но не домой, а в луга, где ее ждали Васек и Мишка.
5
Рано утром, когда взошло солнце. Мишка первым увидел, что из посада к ним идет Ерош.
— Овдя, гляди-ка, Ерош! — сказал Мишка. — Чего он вскочил чуть свет?
Испугалась Овдя, подумала: «Может, догадались, что я Сергу выпустила?» — и кинулась в кусты, притаилась.
«Если что, убегу к дедушке на хутор», — решила она.
Ерош подошел поближе, спросил, улыбаясь:
— Не спите, ребятки? Гоните коней по домам.
— Чего в такую рань? — недовольным голосом спросил Мишка. — Пусть еще попасутся.
— Пусть, — миролюбиво ответил Ерош. — Ваши пусть пасутся, я за хозяйскими пришел, надо рестанта в уезд везти.
Овдя облегченно вздохнула, вышла из-за куста, спросила:
— Всех погоним или только Буланка?
— Давай всех, солнышко-то вон уж где, не так и рано...
Вдвоем они погнали коней к посаду.
Неподалеку от половых ворот Ерош остановился и, оглядевшись по сторонам, нет ли кого поблизости, достал из-за пазухи смятую газету, сказал:
— Ну-ка, девка, ты грамотная, сказывай, про что тут написано. Да побыстрей, покуда нас не увидел кто.
Овдя, развернув газетный лист, прочла:
— «Солдатская правда». Газета так называется, — пояснила она и стала читать: — «Если сами крестьяне и батраки не объединятся, если не возьмут собственную судьбу в свои руки, то никто не освободит их от кабалы помещиков и кулаков-мироедов».
— Так и написано? — спросил Ерош.
— Так и написано.
— Ну-ну, читай дальше!
— Дальше вот что: «Солдаты! Вы — крестьяне, одетые в солдатские шинели. Помогите объединению и вооружению своих братьев — рабочих и крестьян...» — Овдя пробежала статью глазами. — Еще тут написано, что скоро народ получит всю землю и что кто был ничем, тот станет всем.
— Выходит, мне землю Амона отдадут, а сам он станет на меня батрачить? — недоверчиво проговорил Ерош.
Вдруг он выхватил газету из рук девочки, сунул за пазуху.
По большой дороге в тучах пыли мчалась упряжка. Под высокой расписной дугой сытый конь вороной масти. Шерсть на коне блестит, словно масленая сковорода. В плетушке, развалясь, сидит урядник в белом мундире.
— Иди, девка, домой, — сказал Ерош, — я коней сам отведу.
На свой двор Овдя прошла огородами.
Уже совсем рассвело. В домах топились печи. Над Мишкиным домом, словно пар, стоял легкий дым, их изба топилась по-черному, дым выходил через дыру в потолке и через щели в крыше. У Амона большая печь, кирпичный дымоход, дым поднимается в небо густыми клубами. Над Овдиной избой труба не дымилась, мать, как всегда, встала еще по темну и уже истопила печь.
Огород у них с матерью небольшой и весь распахан, лишь узкая межа оставлена — в баню ходить.
Проходя по меже, Овдя выдернула с картофельной грядки кустик жабрея, оборвала цветки, высосала из них сладкий сок-нектар. Потом выгнала из огорода кур, поправила сушившиеся холсты. Хотела свернуть к грядке с луком, но тут услышала, что кто-то вошел во двор с улицы. Шаги были тяжелые, четкие — не в лаптях шел человек.
«Кто ж такой? Вдруг отец с войны вернулся?» — подумала Овдя, и сердце у нее радостно забилось.
Она отряхнула пыльный подол дубаса, заправила под платок выбившуюся прядь волос и поднялась на крыльцо. В сенях остановилась. Из дома доносился голос Амона.
Овдя притаилась у неплотно прикрытой двери.
— Где твоя девка? — кричал Амон. — Где, я тебя спрашиваю!
Мать ответила робко:
— Как где? В ночном твоих же лошадей стережет. Да что случилось-то?
— То случилось, что твоя холера бандита из-под замка выпустила! — Амон со злостью плюнул под ноги.
— Господи милостивый! — мать всплеснула руками. — Какого еще бандита?
— Такого, что с Микитой по амбарам и погребам шарит, а теперь, того гляди, дом подожжет! Ох и дурак же я! Что бы его вчера хряснуть по башке — и поминай как звали!
— Да о ком ты говоришь, Амонушко? — испуганно спросила мать. — Я что-то ничего в толк не возьму.
— О ком? — заревел Амон. — О квартиранте твоем, вот о ком! Кончаков Сергей в посаде объявился, не слыхала, что ль?
— Как не слыхать! Бабы сказывали. Только он теперь не мой квартирант, говорят, ты его к себе взял.
— Так ты еще и зубы скалить! Уж не ты ли подослала свою девку каторжника выпустить? Ну-ка айда в волостное правление, отведаешь розог, будешь у меня знать!
— В чем же моя вина?
— Урядник разберется. Пошли, пошли, нечего мне тут с тобой долго разговаривать.
— Амон, отвяжись ты от меня, ради бога, — жалобно проговорила мать. — Вспомни, ведь мы с тобой хоть и дальняя, а все-таки родня.
— Водяной тебе родня! — взревел Амон с такой злобой, что Овдя в страхе выскочила из сеней и спряталась за дверью сарая.
Вскоре из дому вышла мать, отряхивая выпачканный в муке передник. За нею шел Амон, нечесаный, в рубахе навыпуск, по всему видать, что с похмелья.
Овдя, крадучись, пошла было за ними, но у проулка остановилась и решительно свернула к дому сапожника Андрея.
6
У волостного правления толпился народ.
Андрей быстрыми шагами подошел к толпе и стал протискиваться вперед. Овдя, не отставая, лезла за ним.
Ворота во двор волосного управления были заперты, в заборе ни щелочки, никак не увидать, что делается во дворе, лишь слышны оттуда размеренные удары и надсадный крик:
— Не я, ей богу, не я!
— Кого это? — спросил Андрей.
Несколько голосов ответило:
— Амон батрака своего учит.
— Ероша секут.
— Вроде бы за то, что каторжника беглого из ямы выпустил, а он, вишь, кричит: «Не я!»
Но вот во дворе все стихло, на крыльцо вышел писарь. Он погладил усы, переплел пальцы рук на животе и заговорил:
— Вы чего тут, почтенные, собрались? Чего дожидаетесь?
Мужики смущенно переминались с ноги на ногу, молчали.
Вперед выступил Андрей:
— Серафим Изотыч, позови-ка сюда старшину.
— Зачем он тебе? — нахмурился писарь. — Если чего надо, скажи мне.
— Мне старшину надо, — твердо проговорил Андрей. — Зови!
Писарь не торопился звать старшину, но народ недовольно зашумел, и он наконец скрылся в дверях правления.
Подходили все новые и новые люди — мужики, бабы, ребятишки.
Старшина вышел на крыльцо злой и какой-то помятый, видно, не дали ему сегодня выспаться как следует.
— Ну, чего тебе? — лениво растягивая слова, спросил он Андрея и заткнул за пестрый кушак толстые пальцы.
Андрей шагнул к самому крыльцу и заговорил:
— Хочу спросить тебя, Мокей Иваныч, что же это такое делается? Царь был — пороли. Керенский, защитник крестьян, стал правителем — опять дерут. Скажи, когда же такому порядку конец будет?
— И скажу, — ответил старшина. — Не будет никогда такого порядка, чтобы позволять воровать да разбойничать. Укради я у тебя сапоги, так ты небось накладешь мне в загривок. Так или не так? Вот я вас, мужики, спрашиваю, можно ли хоть при какой власти воровать да разбойничать? — обратился он к толпе.
Мужики, не ожидавшие такого вопроса, растерянно молчали, некоторые озадаченно скребли в затылках.
Но сбить с толку Андрея оказалось не так-то легко.
— Что украл Ерош? У кого? — наступал он на старшину.
— Об этом у его хозяина спроси.
— А зачем притащили в правление солдатку Анну Опошину? — не унимался Андрей. — В чем ее вина?
— Амон знает... — неопределенно ответил старшина.
Чья-то сильная рука отодвинула Овдю в сторону, и рядом с Андреем встал мужик в солдатской шинели, недавно отпущенный домой по ранению.
— Нет, Мокей Иваныч, ты за Амона не прячься, — сказал он. — Ты старшина волостной, и за все, что в волостном правлении делается, ты в ответе.
Его поддержал другой солдат, безногий Трофим:
— Мы на фронте кровь проливаем, а они тут наших отцов да матерей мордуют. У-у, аспиды!
Толпа возмущенно зашумела.
Старшина забормотал:
— Что вы, что вы, мужики! Да кто ж кого мордует? Подумаешь, велика важность: пару раз вицей* ударили, кость от этого не переломится, а ума прибавится.
_______________
* В и ц а — прут.
И другим неповадно будет безобразничать... Я тут ни при чем. Это господин урядник приказал. Вот хоть у него самого спросите.
Как раз в это время из дверей вышел урядник. Он был в белом мундире, в начищенных до зеркального блеска сапогах.
Овде он был хорошо виден — низкорослый, широкоплечий, с маленькими колючими глазками. Девочка сразу узнала его: это он делал обыск в их избе, когда арестовывал Сергу три года назад.
«Говорили, он удрал, когда царя скинули, — вспомнила она, — да, видать, зря болтали».
Урядник долгим взглядом оглядел толпу, спросил нестрого:
— В чем дело, мужики? Что за шум?
В наступившей тишине отчетливо прозвучал голос Андрея:
— Народ требует, чтобы вы отпустили Ероша и Анну.
Отовсюду послышались возгласы:
— Хватит изматываться над нами!
— Кровопийцы!
— И на вас найдется управа!
— Не выпустишь, по-другому заговорим!
Урядник прочесал толпу глазами, ответил как бы недоуменно пожав плечами:
— Господи, да кто же их держит? Поверьте, мужики, ни я, ни старшина здесь совершенно ни при чем. Это Амону в голову взбрело. — Он повернулся к дверям, приказал: — Эй, писарь, пусть женщина и работник выйдут. А вы, мужики, ступайте по домам. Вон и заутреня началась.
И верно, над посадом поплыл перезвон колоколов: Ляпичи-нюричи-шоричи-сугон-н! Ляпичи-нюричи-шоричи-сугон-н!
Женщины, крестясь, стали расходиться. Сняв шляпы, крестили лбы старики. А мужики помоложе галдели по-прежнему, будто и не слыша колокольного звона.
Выпущенного из правления Ероша окружили плотной толпой, слышались сочувствующие голоса, раздавались проклятия Амону.
Ерош, бледный, всклокоченный, поднял над головой тяжелые кулаки:
— Погоди, Амон, ты меня еще попомнишь!
Когда с крыльца правления сошла Анна, Овдя кинулась к ней, прижалась к ее груди:
— Мама!
Мать погладила ее по волосам, сказала:
— Пойдем, доченька, домой, пойдем скорей.
До дому шли молча. Войдя в избу, мать тяжело опустилась на лавку, спросила напрямик:
— Ты Сергу выпустила?
— Я.
— Да как же ты не побоялась? И зачем тебе в эти дела лезть? — с укором спросила мать.
— А зачем дядя Серга за Микиту заступился? — возразила Овдя. — И Андрей тебя сегодня выручил, — напомнила она.
Мать вздохнула:
— Так-то оно так, да только ведь ты еще дите...
Овдя засмеялась:
— Нет, мама, я уже большая. Так и дядя Серга сказал!
Мать покачала головой и ничего не ответила.
Неожиданно в небе загрохотало. Еще недавно не было ни облачка, а теперь над посадом повисла черная туча, на улице потемнело.
Овдя с матерью кинулись закрывать двери, окна, трубу и волоковое оконце в закуте, чтобы в дом не залетела молния.
Снова раздался тройной раскат грома и, утихая, уплыл куда-то за речку. Из-за реки плотной серой стеной надвигался вал дождя.
И вот уже первые крупные капли упали на дорогу, поднимая фонтанчики пыли.
Овдя вспомнила про холсты, расстеленные в огороде, и побежала через двор. Кое-как сгребла холсты в охапку, бросила под навес.
Вдруг, словно сухой горох рассыпали, по крыше ударил град.
Мать выбежала на крыльцо с помелом в руках.
— Овдя! — крикнула она. — Помело вынеси!
Овдя и раньше слышала от матери, что град останавливают помелом. Она схватила помело, выставила его за ворота и вбежала к матери на крыльцо.
Перекрывая стук градин, громко ударил на церкви самый большой колокол: Сугон-н, сугон-н, сугон-н. Колокольный звон должен был отогнать грозовую тучу.
Град кончился так же внезапно, как и начался.
Мать сказала:
— Коли побило посевы, вешай суму на плечо да ступай по деревням, как Манёнь.
Манёнь была известной в округе старухой-побирушкой.
— Над полями не было тучи, — стала успокаивать Овдя мать. — Да и тут град был совсем недолго. Ничего посевам не сделалось.
— Ох, сердце не на месте. Надо бы сходить посмотреть.
— Я сбегаю, — предложила Овдя.
После небольшого раздумья мать сказала:
— Вместе пойдем. Занеси помело в избу да оденься в чистое: к деду на хутор пойдешь. Нельзя тебе сейчас хозяину твоему на глаза показываться. Ведь он так в волостном правлении уряднику и сказал: «Или батрак мой арестанта выпустил, или девчонка-работница, больше некому». Так что собирайся, поживешь у деда день-другой, авось у Амона злость пройдет.
Овдя быстро собралась, они заперли дом и вышли на дорогу.
После дождя стало прохладно, идти было легко, и Овдя с матерью не заметили, как отшагали четыре версты от посада до своего надела.
Обошли озимый клин, и мать с облегчением вздохнула: град, как видно, прошел стороной, только дождем и ветром помяло и прибило к земле всходы, но это не беда, серп поднимет, а сноп выпрямит.
Взглянули на яровые. Овес нынче уродился редок, да и в хороший год много ли возьмешь с такой узкой, как лыко, полоски?
Немного отдохнув, пошли по тракту дальше.
Вскоре нагнали нищенку Манёнь. Она шла как раз на мельницу, неподалеку от которой на хуторе жили Овдины дедушка с бабушкой.
— Вот тебе, дочка, и попутчица, — сказала мать. — Иди дальше с Манёнь, а я домой вернусь. Завтра утречком навещу тебя.
Высохшая и сгорбленная старушка шла так быстро, что Овдя едва за нею поспевала. Да и то сказать: нищего ноги кормят.
— Три деревни обошла, угощать угощают, а подают мало, — пожаловалась Манёнь.
— Чем же угощают, бабушка?
— Где молоком да рыбкой, а то все больше лукасом*.
Так, разговаривая, дошли до больших ворот, за которыми начиналась поскотина.
Вдруг из-за поворота дороги, со стороны Сугона, вылетела парная упряжка.
Овдя с ужасом увидела, что правит упряжкой сам Амон.
«За мной погнался!» — решила она.
Ей бы нырнуть в можжевеловые кусты, что росли возле дороги, но она растерялась, стоит и смотрит, как прямо на нее несется резвый конь, как играет ушами, как красиво вскидывает ноги.
Амон сидел, опустив голову, должно быть, дремал.
_______________
* Л у к а с — толченный с солью зеленый лук, разведенный водой. Этим кушаньем угощают в праздники либо нежеланных гостей, либо уж самые скупые или вовсе бедные хозяева.
Манёнь проворно отошла в сторону и потащила за собой девочку.
Лошади резко остановились у самых ворот. Амон поднял хмельную голову, увидел Овдю.
— Эй ты, холера, открой ворота! Живо у меня, ну! — он замахнулся кнутом.
— Погоди, Амон, сейчас открою! — раздался из можжевеловых кустов мужской голос, и на дорогу выскочил Серга.
Амон с перекошенным от страха лицом стал было заворачивать лошадей, но Серга подбежал, с силой рванул вожжи — Амон не усидел на месте и вывалился на дорогу, под ноги Серге.
— Не губи... Я тебе денег дам... Много денег... — взмолился он, ползая на коленях.
— Встань, что ты, как собака, ползаешь? — брезгливо сказал Серга.
Амон поднялся на ноги, попятился, опасливо глядя на Сергу.
Серга протянул ему вожжи.
— На, будешь у меня за ямщика, довезешь до уезда.
Но Амон, пятясь, прыгнул в густой можжевельник и побежал прочь от дороги.
Серга только усмехнулся.
— Далеко ли, Овдюшка, собралась? — спросил он.
— На хутор, к дедушке.
— А-а, ну иди, иди. Да и мне пора, путь не близкий. — Он уселся в плетушку. — Открой-ка, Овдюшка, ворота.
— Лошадей в уезде продашь? — спросила Овдя.
— Нет, только доеду на них, а там отправлю обратно с попутчиками, мне чужого не нужно.
Овдя открыла засов, ворота сами отворились, поскрипывая.
Лошади резво взяли с места, вихрем промчались мимо Овди.
Закрыв ворота, она долго смотрела вслед Серге, пока упряжка не скрылась из глаз.
7
Утром пришла мать. Овдя еще спала, но, как только Анна переступила порог, сразу открыла глаза.
Вид у матери был взволнованный, она запыхалась от быстрой ходьбы.
— Что там у вас еще стряслось? — спросила бабушка.
— Ох, сейчас расскажу, дайте отдышаться. — Мать села на лавку, утерла мокрое от пота лицо передником и стала рассказывать новости: — Ночью в посаде случился пожар. Сгорело два гумна — у Амона и у Гавры. Говорят, подожгли их.
— Кто же поджег? — спросил дедушка.
— Разве узнаешь? Следов не оставлено. Писарь кричал, что это Ерош подпалил.
— Ой, теперь Амон ему задаст! — испугалась Овдя.
Мать покачала головой.
— Амон-то умом тронулся!
— Как так?
— Да уж так. У него, сказывают, на гумне-то деньги были спрятаны. Сгорели деньги, он и помешался. Горячие угли цепом в ведро сгребает и шепчет: «Мотра, заслони меня, пусть люди не видят, куда я деньги перепрячу». Ох, грехи...
Бабушка собрала на стол, сказала:
— Старик сегодня голавлей наловил, так я рыбный пирог испекла.
За столом бабушка подкладывала внучке самые лакомые куски пирога.
Дедушка сказал:
— Кушай, внученька, набирайся сил, расти большая.
Овдя, уплетая пирог за обе щеки, ответила:
— Я и так уже большая!..

Л. Нилогов
БАНЯ

Рассказ
Перевел В. Муравьев
Однажды мы с товарищем отстали от нашей экспедиции. Уже темнело, нам сказали, что невдалеке живет лесник, и мы решили заночевать у него в сторожке. Миновав старую мельницу, прошли немного сосновым бором и вскоре уже стучались в дверь.
Лесника не оказалось дома, зато его жена приняла нас как дорогих гостей, на столе появились соленые грузди и рыжики, перловый суп и яичница.
Хозяйке, тете Марфе, было уже далеко за шестьдесят, но держалась она прямо, ходила по-молодому легко, разговаривала приветливо.
Одета она была, как одевались в старину: на голове расшитый бисером кокошник, синий дубас в белые цветочки, на ногах новые лапти с красной подковыркой.
Мы поинтересовались, не знает ли тетя Марфа каких-нибудь старинных песен, мол, наша экспедиция как раз для того и послана, чтобы собирать и записывать старинные песни, сказки и легенды.
Тетя Марфа не стала отнекиваться. Она спела несколько очень хороших песен, которые мы тут же записали на магнитофон.
Потом мы спросили:
— Тетя Марфа, а вам не доводилось слышать легенду о том, как одна девушка в этих местах устроила белогвардейцам баню?
Она глянула на нас озорным взглядом и ответила:
— Как не слыхать? Только это не легенда, а самая что ни на есть быль.
— Расскажите, тетя Марфа.
— Ну, коли интересно, слушайте. А уж если что не так скажется — не обессудьте.
Она облокотилась о столешницу, некоторое время помолчала, должно быть собираясь с мыслями, и начала свой рассказ.
— Вы, сыночки, как шли сюда, видели мельницу на Черной речке. Небось приметили рядом с мельницей избу без окон и покосившуюся баньку за избой. Теперь там никто не живет, а в прежние времена жил в той избе мельник Ермолай со своей дочерью.
Дочь была отцу хорошей помощницей. Никакой работы не чуралась, ни силой, ни ловкостью бог ее не обидел, да и красотой, говорят, не обошел. Многие парни, приезжавшие на мельницу из окрестных деревень, засматривались на нее.
Но ей по сердцу был один, звали его Савелий. Он и посватался к девушке.
Да на беду, не пришелся он по сердцу ее отцу. Сам Ермолай отличался медвежьей силой: березовую ступу брал зубами и закидывал на полати, железные подковы руками разгибал.
А Савелий был невелик ростом, большой силой не отличался, к тому же любил побалагурить, попроказничать. Вот и решил Ермолай, что такой зять не будет толковым помощником, и ни за что не хотел отдать дочь за Савелия.
Савелий говорил девушке:
«Не отдаст тебя отец добром, выкраду тебя, как курицу, спрячу за пазуху и унесу далеко-далеко, туда, откуда солнце встает».
Девушка любила Савелия. Но и отца любила, не хотела ему перечить, все ждала, что дело как-нибудь устроится.
Однажды она наварила большую корчагу крепкой браги, надумала как следует отца угостить, а когда размягчится его сердце от браги, поговорить с ним о свадьбе с Савелием. Чтобы отец не узнал о заранее готовящемся угощении, она спрятала корчагу в бане.
Надо вам сказать, сыночки, что в то время шла гражданская война и места наши по нескольку раз переходили из рук в руки: то белые придут, то красные их отгонят.
В одно время нагрянула большая сила белых. Пришлось красным отступить.
Плохо было добрым людям при белых. Савельева отца, старика седого, выпороли да еще лошадь-кормилицу увели со двора. Савелий хотел заступиться за отца, да еле ноги из деревни унес. Прибежал он на мельницу, мельникова дочь спрятала его в надежном месте.
А белые, как на грех, заявились на мельницу. Офицер и с ним трое солдат.
Ермолая в ту пору дома не случилось.
С белыми приехал кулак Трофим, Савелий у него в батраках служил.
Стал этот Трофим распоряжаться на мельнице, как у себя дома:
«Эй, девка, подавай гостям самое лучшее кушанье и питье», — приказывает он мельниковой дочке.
Что тут будешь делать? Пришлось ставить на стол угощение. У девушки как раз к тому времени брага поспела. Сбегала она в баню, отлила бражки из корчаги в туес, принесла в избу.
Наелись, напились незваные гости, а Трофим опять командует:
«Истопи-ка, девка, баню! Мы хотим попариться. Да пошевеливайся!»
Девушка и тут не стала перечить, истопила баню. Когда баня была готова, пошли офицер с солдатами париться и Трофим с ними.
А девушка прокралась к Савелию, сказала:
«Белые в бане моются, бери коня, скачи в Ковалевку, туда, говорят, вчера красный отряд пришел».
Вскочил Савелий на коня, умчался по лесной дороге и вскоре вернулся с красным отрядом.
Окружили красные баню.
«Выходи по одному!» — приказывает командир.
Открывается дверь, и из бани вываливаются пьяные беляки: добрались они до корчаги с брагой. Хоть голыми руками их бери. Их и взяли.
Тут как раз мельник вернулся домой. Рассказал ему красный командир, как дочь мельникова и ее жених помогли взять в плен белого офицера с солдатами, и на прощанье посоветовал поскорее свадьбу сыграть.
«Уж больно хороша пара!» — сказал командир.
После этого случая Ермолай переменился к Савелию и вскоре дал согласие на свадьбу. А потом...
Тетя Марфа не успела закончить свой рассказ. В сенях заскрипели половицы, дверь отворилась, и в избу вошел старый лесник. Был он невысок ростом, но широк в плечах, глаза под косматыми бровями смотрели чуть насмешливо.
Он поздоровался с нами за руку, сказал, что рад гостям. Потом взглянул на взволнованную, разрумянившуюся жену и ласково-укоризненно проговорил:
— Ну, старуха, ты, я вижу, снова про баню вспомнила?
Тетя Марфа немного смутилась, с улыбкой развела руками:
— Что поделаешь, Савельюшка, люди просят, я и рассказываю. Молодым людям интересно послушать, а мне приятно вспомнить молодость.

М. Лихачев
В РАЗВЕДКЕ
Глава из повести

Перевел В. Муравьев
Рисунки А. Мошева
Утром в штабе получили тревожное сообщение: белые группируют силы в окрестных деревнях, видимо, собираются напасть на посад Сер и выбить из него красногвардейский отряд.
Командир отряда, Егорша, приказал своим бойцам быть начеку. Вокруг посада были выставлены удвоенные караулы, патронные ящики и пулеметные ленты были уложены в сани, запряженные отдохнувшими лошадьми. Ямщики ждали наготове. В село Ильвадор был послан вестовой сообщить о готовящемся наступлении белых и попросить у уездного отряда помощи.
Мироша командир послал в разведку в сторону Рогачева, где находились позиции белых. В помощь ему дали Сергу Калю и Ивана Лучева.
Все трое сели в небольшие розвальни, запряженные конфискованной у кулака сильной лошадью, и покатили по накатанной дороге.
Весь конец восемнадцатого года стояли небывалые морозы. Они начались еще в ноябре, и лишь на два-три дня, во время снегопада, холод немного отпускал, а то прямо на улицу не показывайся.
Хотя разведчики одеты тепло — на них шапки-ушанки, овчинные полушубки, меховые рукавицы и валенки, — все равно мороз достает.
Серга понукает Сивку и время от времени трет лицо рукавицей: ветер колет лицо острыми иглами.
Иван ударяет в ладоши и, посмеиваясь, спрашивает:
— Что, Серга, жмет? Ах он, леший, так и норовит ухватить Сергу за нос!
— Тебя и самого он, как видно, приголубливает, — отвечает Серга. — Мне-то еще терпимо, у меня под полушубком зипун поддет.
Вдруг Иван закричал:
— Нос! Нос, Серга, совсем побелел! Три скорее, отморозишь!
— Что ты, неужели? — испугался Серга. Он сгреб в рукавицу снега и принялся докрасна тереть нос. Тер до тех пор, пока Иван не расхохотался, довольный, что сумел-таки подшутить над парнем.
Мирош не слышит их шуток, не ввязывается в разговоры. Он неотрывно следит за дорогой. Что впереди — неизвестно, нужен глаз да глаз.
Благополучно миновали деревню Сяроп, переехали через Верву-реку, поднялись из широкой речной поймы и в деревне Баскоевой остановились у крайней избы.
Соргу оставили в дозоре у лошади.
Мирош с Иваном зашли в избу узнать, не появлялись ли в деревне белые.
Они долго не возвращались, Серга совсем озяб. Потеряв терпение, бабахнул из винтовки в воздух.
В ту же секунду Мирош с Иваном выскочили из избы.
— Что случилось? — встревоженно спросил Мирош.
Серга ответил со смешком:
— Вы там в тепле сидите, а я тут замерзай...
Мирош рассердился:
— Ты, Серга, не шути! Сейчас не время для шуток. Зачем стрелял?
— Чтобы вы скорее выходили, — виновато пробормотал Серга.
— Дурья голова! Не мог в окошко постучать? Ты, может быть, все дело испортил. Тут, оказывается, вчера белая разведка была, может, и сейчас белые где-нибудь поблизости, а ты стреляешь! Ну не дурак ли?
— Не ругайся, я ведь так, не подумавши...
— «Не подумавши, не подумавши»... Надо думать! — все еще сердито сказал Мирош. — Так вот, вы останетесь здесь и будете наблюдать за дорогой из Даньшера, я возьму лошадь и поеду в Новую Батину, узнаю обстановку.
— Только ты, Мирош, с оглядкой, в западню не угоди, — сказал Иван.
— Ладно. Ну, я поехал!
Мирош прыгнул в розвальни. Озябшая лошадь рванулась с места рысью и мигом вынесла его за деревню.
Дорога ровная, без ухабов. Сивко еще прибавил шагу, только снежная пыль завилась позади розвальней. Снежные комья так и летят из-под лошадиных копыт, откатываются к обочине.
В сосновом бору между Баскоевой и Новой Батиной Мирош попридержал коня, винтовку на всякий случай пододвинул поближе. Миновав бор с его прямыми, точно свечи, соснами-великанами, он шагом въехал в деревню.
У небольшой ложбинки, по левую руку, стояли две избы. За ними возвышался богатый дом Софроновых. Недавно прошел слух, что кое-кто из новобатинцев подался к белым и среди них Микуш Софронов. Не смог он простить красным, что изъяли у него пять возов припрятанного зерна.
Мирош остановил лошадь возле Микушевых ворот и спрыгнул с саней.
Тихо в деревне, даже собаки не лают, как будто все вымерло.
Примотав вожжи к оглобле, Мирош, осторожно оглядываясь, вошел в ограду, держа винтовку наготове.
Что ни говори, боязно, сердце так и колотится: если вчера разведка была в Баскоевой, так тут, ближе к позициям, и подавно может быть.
Поднявшись на мостки, Мирош вошел в дом. У порога остановился, прислушался. В доме ни звука.
«Может, притаились?» — подумал Мирош, кашлянул и громко спросил:
— Есть кто живой?
— Есть, есть, — отозвался женский голос.
Мирош вошел в избу.
Посреди избы стояла невысокого роста полная молодая бабенка — жена Микуша. Была она в дубленой шубе, в теплой шали. Видно, собиралась куда-то, да Мирош ей помешал.
— Где хозяин? — строго спросил Мирош.
Женщина поправила шаль на голове и молча, не спеша, словно издеваясь, стала застегивать шубу. Наконец она нехотя проговорила:
— Утром ушел куда-то на деревню.
Мирош нахмурился:
— Ты кого пытаешься обмануть, а? Говори правду, нам все известно. Ведь к белым ушел, да?
Она ответила, спокойно глядя в его покрасневшее от гнева лицо:
— Не знаю, кто это вам набрехал. Сегодня был дома.
— Не ври! Говори: когда ушел, с кем? Не приходил ли домой в последние дни? Ну! — он стукнул прикладом об пол.
— Пошто зря громишь? — нисколько не испугавшись, спросила Микушиха. — Я же тебе сказала, к соседям ушел. Небось скоро вернется. А из дому он отродясь не бегал.
«Дай-ка я с другого боку попробую», — решил Мирош и попросил:
— Принеси-ка мне хлеба, есть сильно хочется.
— Нету хлеба, — ответила она, стоя по-прежнему посреди избы, как будто боялась сойти с места.
— Нету, говоришь? Вот я сейчас сам слажу в подпол, погляжу, какие там у тебя запасы, и заодно посмотрю, не прячешь ли ты там кого.
Женщина промолчала. Мирошу показалось, что она смутилась, это подогрело его решение.
«Может, там сам Микуш сидит? — подумал он. — Вот бы языка командиру доставить!»
Он рванул дверцу подпола и, держа винтовку наготове, стал спускаться по лесенке.
И тут, как только он ступил ногой на землю, над его головой — хлоп! — закрылась дверца. Он ринулся было обратно, но женщина наверху успела припереть дверцу, а сама отбежала за печку.
Мирош выстрелил. Пуля, пробив пол, застряла в потолке.
— Открой, стерва, сейчас же! — закричал Мирош. — Не откроешь, я тебе весь дом разнесу. Слышишь?
Микушиха молчала, будто в воду окунулась.
В это время с улицы послышался говор, потом шаги нескольких человек.
«Беляки идут! — как колом оглушила Мироша мысль. — Ну, попал я в западню! Но живым я им не дамся!»
Он достал из кармана капсюли, зарядил обе бывшие при нем гранаты и, держа их наготове, стал ждать, что будет дальше.
— У меня в подполе красный сидит, — донесся до него голос хозяйки.
— Кто такой? — спросил мужской голос.
Мирош по голосу узнал Микуша.
— Мирошка посадский, Окулин сын, — ответила Микушиха.
Микуш злорадно засмеялся:
— Ага, попался, свиное рыло!
Мирош из подпола смело ответил:
— Ну и попался! Дальше что?
И сразу белые в несколько голосов обрушили на него угрозы.
— Прощайся с жизнью!
— На штыки посадим!
— Кишки выпустим!
— Башку свернем!
Мирош им ответил:
— Двум смертям не бывать, а одной не миновать! — Он решил подзадорить врагов: — Чего же вы ждете — стреляйте! А то давайте я выйду, вы меня на улице застрелите. Думаете, я боюсь смерти? Нет, большевикам она не страшна. Меня убьете, другие останутся. Они продолжат то, чего не успели мы, довершат начатое нами дело!
— Ты там не агитируй! — оборвал его Микуш. — Без тебя про ваши дела знаем. — Он подошел к лазу в подпол, сказал: — Только посмей выстрелить, тогда тебе тут же конец! Понял? Сейчас мы тебя оттуда вытащим.
— Откройте, я сам выйду, — отозвался Мирош, поднимаясь на две ступеньки.
— А ну, братцы, встаньте возле двери и берите его на мушку, — обратился Микуш к своим, потом рывком открыл лаз, направил дуло своей винтовки в подпол: — Выходи, лешачий сын! Теперь ты от нас не уйдешь, красная кикимора!
Не слушая больше его ругательств, Мирош одну за другой швырнул вверх обе гранаты. Он слышал, как, стукнувшись о полати, они упали на пол. Мирош отбежал от лаза в дальний угол подпола.
— Гранаты! Беги! — завопил Микуш и бросился к двери.
Оба взрыва ухнули почти одновременно. Зазвенело оконное стекло, с грохотом попадали на пол доски полатей, рухнула полка с горшками и прочей посудой, божница с образами.
Крик, стон...
Не успел Мирош и подумать о том, что нужно поскорее выбираться из западни, как ноги сами вынесли его наружу. Прыгая через распростертые на полу тела, он выскочил во двор, оттуда за ворота. 
Глянул туда-сюда — от дома по санной дороге убегали двое. Один уже выбежал за деревню, другой, более грузный, немного поотстал.
Мирош вскинул винтовку, взял грузного на мушку, спустил курок.
Выстрел резанул морозный воздух, гулкое эхо покатилось по лесу.
Бежавший остановился, будто споткнулся, и, как подкошенный колос, свалился на обочину дороги.
Второй, в котором Мирош, приглядевшись, узнал Микуша, напуганным зайцем припустил за пригорок.
— Стой! Стой! Пристрелю! — кричал Мирош.
Куда там! Микуш скакал, будто шальной конь, не оглядываясь. За пригорком дорога сворачивала в заросшее ивняком болото, и Микуш скрылся из глаз.
«Эх, ушел! — досадовал Мирош. — Ну, ничего, в другой раз попадешься. Видно, это была разведка. Ну, беги-беги, расскажи белякам, как их красные встречают». 
Он перезарядил винтовку и вернулся в дом.
На полу валялось четверо убитых. Ни одного из них Мирош не знал — или из дальних деревень, или из колчаковских частей.
Мирош прошел на кухню. На полу, сунув голову под лавку, лежала Микушиха. Лежала она неподвижно, даже дыхания не было слышно. Мирош, чтобы убедиться, жива ли она, дернул ее за ногу.
Женщина подняла голову и завопила:
— Ой, убивают! Ой, убивают!
— А-а, теперь вопишь, предательница! Хотела меня погубить, да сама теперь попалась. Поднимайся, жыво!
Микушиха, воя, выбралась из-под лавки.
— Говори, когда до этого приходил Микуш, — приказал Мирош.
— Позавчера был.
— С кем?
— Вот с этими же.
— О чем он говорил?
— Ни о чем не говорил... Чего ему со мной говорить?
— Признавайся, что он рассказывал о белых? Много ли их? Когда собираются наступать?
— Ничего не знаю...
— Врешь! Пристрелю!
— Ой, не убивай! Ой, Мирошенька!
— Ну вот, теперь слезы потекли. Небось как запирала меня в подполе, так не плакала? Будешь отвечать или нет? Что тебе муж про белых говорил?
— Говорил чего-то, да я забыла.
— Придется доставить тебя в штаб, там вспомнишь. Собирайся!
— Зачем?
— Собирайся, тебе сказано!
Она стала застегивать шубу, но пальцы не слушались ее, руки дрожали, и она никак не могла попасть петлей на пуговицу.
— Поторапливайся!
— Да куда ж ты меня? — спросила она сквозь слезы.
— Поедешь со мной в посад.
— Ой, убьешь ты меня по дороге! — завыла Микушиха.
— Вот еще, стану я о тебя руки марать. Говорю, в штаб сдам, там тебя допросят. Советую не запираться, тебе же лучше будет.
Она не стала больше перечить.
— Иди! — скомандовал Мирош, пропустил ее вперед и вывел на улицу. Посадив Микушиху в розвальни, Мирош сел рядом и тронул вожжами. Сивко под горку поскакал галопом.
На околице Баскоевой его поджидали Иван с Сергой.
— Ну, что там? — спросил Иван.
— А у вас что? Кого-нибудь видели?
— Не было тут никого, — ответил Иван.
Серга, глянув в розвальни, с удивлением спросил:
— Кто это у тебя?
— «Язык»! Ладно, садитесь скорей, сейчас не до разговоров. По пути расскажу. На, Серга, вожжи, гони!
Серга схватил вожжи, зыкнул на коня, и они понеслись во весь опор к посаду Сер.
На рассвете следующего дня завязался бой. Подразделения белых подошли чуть ли не вплотную к посаду. Они дали сначала несколько винтовочных залпов, потом застрочили пулеметы. Пули со свистом и щелком врезались в заборы, деревья, в стены и крыши домов.
Потом белые пошли в атаку, но она тут же захлебнулась, и вслед за тем красные пошли в контратаку и отогнали белых далеко от посада. Враги отступали с большими потерями.
Дело в том, что от «языка», добытого накануне Мирошем, красным стали известны час и место готовящегося наступления белых. И красные сосредоточили в это время и на этом участке все свои силы.
Этот бой красные выиграли. Но впереди их ждало еще много жестоких боев. Прикамская земля была охвачена огнем, и погасить этот огонь предстояло Мирошу, Ивану, Серге и их товарищам, хозяевам этой земли.

Н. Попов
КОЛЫШКИ
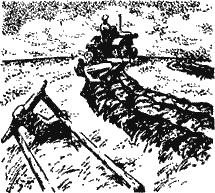
Рассказ
Перевел В. Муравьев
I
Полоски Семена Петровича и Андрея Исаковича расположены по соседству, на одном поле. Бывало, по весне, когда оба соседа выедут проводить «посевную кампанию», скрипят, вздыхают, словно старушки, их сохи сабаны. Подымут они свои поля в две с половиной сажени шириной, потом приступают к севу. Насыплют зерно в лукошки, привяжут повод лошади к поясу — вот и вся техника готова. Затем перекрестятся на восход солнышка и пойдут, разбрасывая семена горстью, а за ними лошади тянут деревянные бороны, прыгающие с комка на комок.
И так из года в год.
Хотя наделы у них были одинаковой величины, жили они не одинаково. Андрей жил хуже Семена, потому что у него была полна изба детей. Свой хлеб ели только до рождества, после рождества хозяин шел просить взаймы у кулаков. Те давали, но зато уж потом Андрей целое лето гнул спину на их полях.
У Семена же семья маленькая — сам, жена да сын. Поэтому у них своего хлеба хватало до пасхи, а в урожайный год даже до новины. Семен работал на кулаков не каждый год, и лошадь у него была получше, и тяга у сохи железная. А у Андрея кляча — кожа да кости, до вечера работать никогда не выдюживала. Сбруя рваная, тяга мочальная. Надо бы завести получше, да не на что.

Бывало, попашут Семен с Андреем каждый свою полоску, присядут на меже и беседуют.
— Как же, Семен, дальше-то будем жить? Ведь ни с которой стороны просветления не видать. День и ночь спину гну, работаю, а зима пришла — есть нечего.
— Что тут поделаешь! Как бог положил, так и живем. Деды ведь тоже так жили.
— Эх, обрыдла мне эта дедовская жизнь!..
Посидят, поговорят и снова берутся за рукоятки сохи.
Однажды, было это в январе 1930 года, приятели поспорили.
Вернувшись с собрания, на котором говорили об организации в деревне колхоза, Андрей сказал:
— Ну, Семен, я нашел свою дорогу в жизни. Пойду в колхоз, хватит зря силы на кулаков изводить. А ты как думаешь?
— Я от колхоза не отказываюсь, — не спеша, подумавши, отозвался Семен. — Только хочу маленько обождать, присмотреться.
— Чего тут ждать! Давай и ты иди в колхоз. Не зря же сказано: общая каша всегда гуще. Вместе-то мы, глядишь, машины укупим, а там, как приезжий из города товарищ говорил, трактор придет на наши поля.
— Нечего трактору делать по нашим ямам и оврагам. Нет, в трактор я не верю. Брехня это, про трактор.
— Не веришь? Вот увидишь — будет у нас трактор. Давай биться об заклад: не придет трактор — отдаю тебе свою корову, придет — ты мне своего Гнедка отдашь. Ну, спорим?
— Не придет, — упрямо повторил Семен и хлопнул мозолистой рукой по ладони Андрея.
— Не хочешь в колхоз, силком не потащут, — сказал Андрей. — Только полоску тебе придется отвести в другом месте, эти поля пойдут колхозу.
— Где отведут, там и буду пахать, а в колхоз пока не пойду.
II
Следующей весной Семен и Андрей уже не работали на соседних полосках. Распахали колхозники межи. Но как у человека после операции остаются швы на теле, так и на колхозном поле все межи обозначились пластами дерна.
Несколько раз приходил Семен на свое прежнее поле, подолгу стоял, смотрел, думал.
Однажды вечером, когда на поле никого не было, он вытесал из жердины колышки и вбил их топором на границе своей полосы.
«Кто знает, куда жизнь повернет? — думал он. — Сколько колхоз просуществует? Вдруг опять дело вспять повернется и общее поле на полоски разделят. Межи к тому времени затеряются, забудутся, моя полоса может достаться другому, а земля удобрена».
Вбил он колышки так, что они были чуть-чуть видны из земли, кто не знает, тот и не заметит.
Нельзя сказать, чтобы у колхозников все шло гладко, дело новое, незнакомое, но все же осенью получили они столько хлеба, сколько никогда со своих полосок не собирали. Андрей Исакович с женой и старшим сыном выработали хлеба на целый год. Теперь не надо идти кланяться кулаку.
— Видишь, Семен, — говорил Андрей приятелю, — как мы начинаем жить. А когда тракторы придут на наши поля, совсем хорошо будет.
Но Семен Петрович упорствовал на своем:
— Не пошлют тракторов на такие буерачные поля.
А сам время от времени ходил тайком на свою прежнюю полоску, проверял, целы ли колышки, не выдернул ли кто.
Два года спустя неподалеку от деревни организовалась МТС в тридцать тракторов системы «Интер».
Весной отряд из четырех тракторов пришел в колхоз.
Друг за другом с могучим победным рокотом двинулись железные богатыри по полю, врезались в землю четырехлемешные плуги.
Много народу, почитай вся деревня — и колхозники и единоличники — вышли посмотреть на работу тракторов.
Семен Петрович тоже очень интересовался. Он то шел рядом с трактором, то забегал вперед, смотрел, как лемехи опрокидывают пласт, и мерил, глубоко ли берет.
В этот день Семен впервые забыл про свои колышки, и, только уходя с поля, заметил, что один колышек расколот трактором, а другой выворотило лемехом.
«Вбить снова или не вбивать?» — раздумывал он. Потом, оглянувшись по сторонам, не видит ли кто, сунул колышек в старую дырку и прикрыл пластом дерна.
«Пусть покуда постоит», — решил Семен.
Этой весной Семен стал плохо спать ночами. Ляжет с вечера и не спит, думает. О чем только не передумал! И детство, и женитьбу, и всю свою жизнь вспомнил.
Но чаще всего он думал о том, что ведь правду сказал Андрей, нашел он свою дорогу в жизни. Все чаще посещала Семена мысль: а не вступить ли и ему в колхоз?
В одну из таких бессонных ночей подтолкнул он в бок спящую жену:
— Слушай, жена...
— Чего тебе? — недовольно пробормотала она.
— Слушай, а не записаться ли нам в колхоз?
Жена проснулась окончательно.
— Я ж тебе когда еще говорила: давай куда люди, туда и мы.
В тот же день Семен Петрович подал заявление и два дня спустя привел своего Гнедка на колхозный двор.
— Не попусту мы об заклад бились, — смеясь, встретил Семена на колхозном дворе Андрей. — И трактора пришли на наши поля, и Гнедка отдаешь в мои руки.
— Конь-то молодой у меня, он на колхоз еще десяток лет поработает, — смущенно ответил Семен.
III
Минуло три года. За это время Семен Петрович преодолел единоличные привычки и стал настоящим коллективистом. За колхозное добро стоял, как за свое. И про колышки забыл начисто. Не раз его премировали за хорошую работу.
Вслед за тракторами появились в колхозах автомашины, сложные молотилки. В округ прилетел самолет и катал над Кудымкаром ударников. Семен Петрович тоже летал на самолете.
А тут, осенью, к страде пришли в колхоз комбайны. Вот уж до чего умная и хитрая машина!
Бригадир послал Семена и Андрея возить от комбайна зерно в амбар.
Запрягли они лошадей, поставили на телеги ящики для зерна и поехали в поле, где работал комбайн.
На работу комбайна смотрели, стоя на краю поля, колхозники: где он прошел, рожь будто бритвой срезало.
— Да-а, вот это машина! — восхищенно проговорил Семен.
— Жаль, я с тобой про комбайн не поспорил, — усмехнулся Андрей.
— Теперь я с тобой бы и спорить не стал, — лукаво глядя на приятеля, ответил Семен. — Я теперь умный. А ты смотри, как широко берет! Больше четырех метров будет!
— Почти угадал, — сказал один из колхозников. — Четыре и шесть десятых метра.
Семен поворошил отработанную солому.
— Чисто молотит, ни зернышка не оставляет.
В это время Андрей сказал ему:
— Семен, у тебя ящик неровно стоит, подложи-ка что-нибудь. Вон какие-то колышки валяются.
«Колышки», — вспомнил Семен и, отойдя в сторону, стал разгребать землю.
— Что ты тут копаешься? — удивленно спросил Андрей.
— Здесь они. Нашел ведь, — ответил Семен. — Вот они, мои колышки.
— Какие колышки?
И тут Семен рассказал, как он пометил свою землю на всякий случай.
— Вот ведь какие глупые думы у меня были тогда, — сказал он и засмеялся.
Долго смеялись и подшучивали над Семеном колхозники.
Семен промерил шагами ширину своей прежней полоски от колышка до колышка.
— Полоски-то наши с тобой, Андрей, как раз такой ширины были, на какую комбайн берет.
— Это точно. Настоящие огородные грядки.
Комбайн остановился.
— Эй, возчики! — крикнул комбайнер. — Ставьте ящики под зерно!
Семен подъехал к комбайну, подставил ящик прямо под трубу. Широкой струей полилось зерно.
Семен взял пригоршню, просыпал сквозь пальцы, сказал одобрительно:
— Чисто веет.
Когда ехали с поля, Андрей проговорил задумчиво:
— Пять лет всего прошло с тех пор, как мы забросили наши сохи, а то ли еще будет впереди. Я думаю, через пятилетку всю колхозную работу машины выполнять станут.
— Да-а, нашли мы правильную дорогу в жизни, — согласился Семен.

Т. Фадеев
РУКИ МАТЕРИ
Рассказ

Перевел В. Муравьев
Утреннее солнце неторопливо, словно нехотя, поднялось из-за зубчатой стены дальнего леса. Его красные, еще нежаркие лучи коснулись верхушек темных, мрачноватых елей и пихт. Длинные тени упали на мокрый, серебристый от росы луг. Сизоватый, невесомо-легкий туман, низко стлавшийся над остывшей за ночь землей между раскидистыми кустами густого тальника, медленно и зыбко заколыхался.
Митя переехал вброд неширокий, с топкими берегами ручей, выбрался на проселочную дорогу, избитую копытами скота, изрезанную тележными колесами.
Голоса и свист мальчишек, гонявших лошадей в ночное вместе с ним, раздавались далеко впереди. Но Митя не спешил их нагонять. Опустив поводья, он ехал шагом, мерно покачиваясь худеньким телом в такт лошадиному шагу. Изредка он взмахивал веткой, отгоняя от босых ног надоедливых комаров.
Мите хотелось спать. Солнце приятно пригревало спину. В безучастной полудреме он не замечал прелести пробуждающегося утра: ни мокрых и блестящих от росы листьев деревьев, ни самой росы, хотя ее капельки, мелкие, словно бисер, то и дело вспыхивали под лучами солнца и, подобно причудливо нанизанным алмазам, сияли внутренним голубоватым светом.
Когда он подъехал к своему дому, солнце уже ярко освещало всю деревенскую улицу из конца в конец.
Митя слез с лошади, закинул поводья за кол деревянной изгороди. Бесшумно ступая босыми ногами, поднялся по прогнившим ступеням крыльца.
С тех пор как отец ушел на фронт, крыльцо заметно осело да и весь дом принял какой-то сиротливый вид.
Младшая сестренка Катька еще спала, разметав по измятой подушке свои длинные волосы цвета спелой овсяной соломы. Не без зависти посмотрел Митя на спокойно спящую сестренку и чуть грустно улыбнулся.
В переднем углу, на столе, покрытом домотканой скатертью, дожидаясь Митю, дымилась легким парком горячая похлебка в алюминиевой миске. Рядом лежали два ломтя ржаного хлеба и выщербленная деревянная ложка. Тут же стояла зеленая эмалированная кружка с уже процеженным молоком утреннего надоя.
Не дожидаясь особого приглашения, Митя сел за стол и принялся торопливо есть завтрак, приготовленный для него матерью.
В это время мать — еще молодая, но изможденная, с выражением постоянной озабоченности на лице женщина, — хлопотала у окна, собирая себе и сыну обед в поле.
Внебольшой берестяной пестерь она положила четыре испеченные картофелины, пару луковиц, яйцо и бутылку молока. Краюшку ржаного хлеба она завернула в свой старенький, но чисто выстиранный головной платок и сунула сверток в пестерь: еда для Мити на весь день.
Себе в старую холщовую сумку она положила хлеб, картошку и лук, вместо молока налила в берестяной туесок жидкого квасу, а яйцо, подержав его в задумчивости на ладони и бросив быстрый и какой-то смущенный взгляд на спящую дочку, отнесла на кухню и там положила на низенькую, под стать Катькиному росту, лавку, рядом с кружкой молока и ломтем хлеба, оставленными дочери на обед.
После этого мать принялась торопливо одеваться. С деревянного колышка, прибитого в ряд с другими к стене возле двери, она сняла шабур из домотканого полотна. Когда-то крашенный черничным соком в синий цвет, он теперь совсем вылинял и потерся во многих местах. Надев шабур, мать подпоясалась.
В это самое время на деревне дважды ударили в подвешенный к дереву старый отвал конного плуга, заменявший собою колокол. Это бригадир оповещал колхозников о том, что пришло время выходить на работу.
— Ой, Митя, не опоздать бы! — с тревогой в голосе проговорила мать. — Ты нынче последний день работаешь, завтра в школу. — Она вздохнула. — Нынче вам и одного дня роздыху не дали, о-хо-хо... Ну да что поделаешь — война!
Она накинула на плечо тускло и холодно поблескивающий серп и, прихватив котомку и туесок, пошла к двери, но у порога остановилась и вернулась к окошку.
На низеньком некрашеном подоконнике кучкой лежали сшитые ею с вечера маленькие полотняные мешочки. Наклонившись над подоконником, мать принялась торопливо натягивать мешочки на пальцы.
— Митя, помоги-ка мне, — скороговоркой попросила она. Митя уже поел и, встав из-за стола, собирался уйти. Он нехотя вернулся, но взглянул на руки матери — и его душу обдало леденящим холодом.
Кожа на руках матери была покрыта множеством больших и маленьких трещин. Так в засушливую погоду трескается намытый половодьем прибрежный ил. Но особенно страшными были пальцы, на каждом сгибе которых зияла кровоточащая рана.
Митя знал, что вода, солнце и ветер превращают даже гранит в пыль, а железо — в ржавую труху. Руки матери не были ни гранитными, ни железными. Одно только знали эти руки — работу. В зимнюю стужу и в летний зной, под проливным дождем и пронизывающим ветром, изо дня в день с раннего утра и до позднего вечера руки матери трудились: жали хлеб, косили траву, рубили дрова, разгребали снег.
Вечером, после долгого трудового дня, управившись еще и со всеми домашними делами, прежде чем лечь спать, мать смазывала свои натруженные, огрубевшие, потрескавшиеся пальцы маслом. Но за ночь руки не заживали, кровоточащие трещины лишь затягивались тонкой пленкой, которая лопалась от малейшего движения, и вновь открывались раны, из которых выступала сукровица.
Но надо было работать. В осеннем уныло-прозрачном, словно навсегда выцветшем воздухе время от времени уже начинали кружиться белые мухи, возвещая о скором наступлении холодов, а конца страды еще не было видно...
Завязывая нитки вокруг пальцев матери, Митя как-то неловко дотронулся до больного места. Мать вскрикнула и отдернула руку, словно ее ударили током. На глазах у нее выступили слезы. Втянув в себя воздух сквозь стиснутые зубы, она умоляюще проговорила:
— Осторожней, сынок!
— Я нечаянно, — виновато и испуганно отозвался Митя.
Из дому вышли вместе. Митя подошел к лошади, мать смотрела на него с крыльца, спросила:
— Подсадить тебя, сынок?
— Не надо, я сам.
Митя взобрался на изгородь, оттуда, перекинув ногу, сел на лошадь и поехал вдоль улицы.
Мать пошла на поле через огороды — так ей было ближе.
То и дело Митя обгонял спешивших на работу односельчан. Среди них не было ни одного мужчины, лишь старухи, женщины, девчонки-школьницы. Некоторые торопливо дожевывали на ходу кусок хлеба. Работа не ждет.
Миновав околицу, Митя заметил свежие следы лошадей, понял, что товарищи опередили его, и разок-другой пришпорил лошадь голыми пятками. Лошадь перешла на рысь, но, пробежав немного, снова пошла шагом.
Проезжая по плотине над прудом, Митя залюбовался по-утреннему тихой, спокойной водой, в которой осеннее, но еще яркое солнце отражалось до рези в глазах. То тут, то там плескалась плотва, и еле заметные круги медленно расходились в разные стороны.
«Вот бы порыбачить!» — промелькнуло в уме. Мите представились его удилища, так любовно и старательно выструганные им из гибких рябиновых прутьев, которые вот уже два лета впустую провисели в сенном сарае. Но Митя знал, что о рыбалке ему сейчас нельзя и думать, и заторопился дальше.
Вскоре он добрался до леса и двинулся вдоль опушки.
Вот и поле.
Три Митиных сверстника, приехавшие на поле раньше него, уже начали боронить, задорно покрикивая на еще резвых по утреннему времени лошадей.
Пристроив пестерь с обедом на сук березы, Митя подъехал к оставленной с вечера бороне, спрыгнул с лошади и принялся торопливо запрягать, поднял чересседельник, натянул супонь, пристегнул вожжи, привычно тронул лошадь:
— Но-о!
Лошадь нехотя двинулась вперед, потащила за собой борону. Ее стальные зубья, вспарывая землю, зашуршали мягким шорохом. Митя шел сбоку. Влажная от росы земля приятно холодила ступни босых ног.
Поравнявшись с краем загона, Митя повернул было к ребятам, но тут старший из них, долговязый и сутулый Иван, по прозвищу Махорка, закричал:
— Куда лезешь? Проваливай отсюда!
Митя нерешительно остановился, а Иван — Махорка — не унимался:
— Ну, чего встал? Говорят тебе, проваливай! Мы уж вон сколько без тебя проборонили! Меньше спать надо было! Ишь хитрый какой! Нечего к нам примазываться, правда, ребята?
Гришка с Ленькой лишь молча переглянулись между собой и разом дернули вожжами.
Митя резко развернул лошадь и погнал ее на другой край поля, благо вспаханную землю глазом не окинешь, места всем хватит.
Он начал боронить, но скоро понял, что место ему досталось не слишком удачное. В пахотную землю тут клином вдавалась небольшая ложбинка. По дну ее сочился ручеек, поэтому из года в год ложбинка оставалась невспаханной. И лишь в этом засушливом году ее подняли целиной. Но земля здесь оказалась глинистой, перевернутые пласты окаменели настолько, что зубья бороны не разбивали их, а лишь слегка царапали. Но выбирать не приходилось, и Митя продолжал боронить, где начал.
Между тем солнце поднялось над лесом довольно высоко, стало заметно припекать. Земля, нагреваясь, закурилась еле видимыми струйками пара. Лес, дремавший в угрюмо-сумрачном забытьи, ожил, задумчиво зашуршали ветвями елки, игриво зашелестела листва осин, уже тронутая первыми осенними заморозками. Послышались тоненькие голоса мелких пичуг и заливистое стрекотанье вездесущих сорок.
Неторопливо вышагивая за лошадью, Митя думал о том, что завтра начинается новый учебный год.
Мысль о школе и радовала и пугала Митю.
Радовался он не столько тому, что вновь после долгого летнего перерыва сядет за парту, хотя он всегда учился с интересом и удовольствием, — больше всего его радовала мысль, что с завтрашнего дня он будет свободен от работы в поле.
Нелегкая это была работа. Ежедневная, однообразная, непосильная для мальчишки. Завтра уже не надо будет от зари до зари заплетающимися от усталости ногами плестись по пашне за такой же уставшей, с трудом ковыляющей и оттого безразлично-непослушной лошадью.
Пугало же Митю то, что, с тех пор как началась война, наступление осени неизбежно было связано с голодом и холодом, от которых, казалось, не было спасения.
Впрочем, на октябрь нельзя было пожаловаться. Хотя в октябре случались затяжные дожди, все-таки обычно выдавался денек-другой, когда показывалось нежаркое солнце. Но и тогда порывистый ветер, безжалостно трепавший порыжелую листву и разносивший по воздуху серебристую паутину, напоминал о том, что холода не за горами.
В такие ясные дни Митя, придя из школы и наспех перекусив, выходил с лопатой на огород копать картошку.
Вместе с ним выходила Катька. Все время, пока Митя был в школе, она скучала в избе одна-одинешенька. Копать землю было ей не под силу, но она довольно ловко выбирала из-под Митиной лопаты свежие розоватые клубни и складывала их в ведро.
Проходил октябрь, и наступала унылая, беспросветная пора поздней осени. Солнце больше не взглядывало на опустевшую землю. Бесшумно опадала последняя припозднившаяся листва. Стаи журавлей тянулись к югу, тоскливо перекликаясь под свинцово-серыми облаками. Мелкий, надоедливый дождь лил и лил, не переставая.
Наконец прекращался и он. Наступали заморозки. По утрам крыши домов были покрыты белесоватым инеем, подмерзала земля.
В первую военную зиму Митя еще не научился плести лапти, а никакой другой обувки у него не было. Поэтому по утрам, собравшись в школу, он выжидал, когда гомон школьников смолкнет на улице, и лишь после этого выбегал из дому.
Леденящий холод сжимал, словно клещами, его босые ступни, пронизывающий ветер забирался под холщовую рубаху. Что есть духу Митя бежал вдоль деревни, не останавливаясь до тех пор, пока не оказывался на высоком школьном крыльце.
Раздавался звонок, ребята рассаживались по местам, в класс входила Мария Сергеевна, начинался урок. А Митя почти ничего не видел и не слышал. Закоченевшие ноги начинали отходить в тепле, и это было так больно, так кололо и щипало покрасневшие пальцы, как будто бы тысячи острых иголок вонзались в них. Кусая губы, чтобы подавить стон, Митя изо всех сил старался не заплакать, но это ему не всегда удавалось, и тогда крупные слезы, словно раскаленные горошины, обжигали ему щеки, падали на раскрытую книгу.
В ту осень Митя с нетерпением ждал первого снега. Он знал: выпадет снег — кончатся все полевые работы, и тогда Митин сосед дедушка Евсей будет сидеть дома.
И вот выпал снег. В тот же день Митя как бы по-соседски пришел к дедушке Евсею и молча уселся на лавку у самого порога.
Дед Евсей стамеской выдалбливал в санном полозе пазы для копыльев.
Митя не решался подать голос до тех пор, покуда сам хозяин не спросил:
— Ну, чего молчишь? Аль забыл, зачем пожаловал?
И тогда Митя, смущаясь, запинаясь на каждом слове, ответил чуть слышно:
— Я... Мне... Мне бы лапти сплести... Основу то есть... Начать бы... Я-то не умею...
Дед Евсей сказал с хитрым прищуром:
— Ну и жених! Кто же за тебя замуж пойдет, коли ты лаптя себе сплести не умеешь?
Окончательно сконфуженный словами старика, Митя молча потупился, но в душе он ликовал: раз дедушка шутит, значит, не откажется помочь.
И в самом деле дедушка Евсей отложил в сторону стамеску, спросил:
— Ну, где там у тебя лыко?
Митя опрометью кинулся в сени и тут же вернулся с пучком заранее приготовленного лыка.
Спустя немного времени он вышел из избы деда Евсея со связанной основой лаптей и, не помня себя от радости, помчался домой.
Дома он, не откладывая, сел плести лапти. По готовой основе плести было нетрудно, и к вечеру пара лаптей была готова. Мать пришила к ним суконные опушни.
Наутро Митя обул лапти, надел свой видавший виды старенький зипун из серого домотканого сукна, нахлобучил на голову изрядно вытертую заячью шапку и, теперь уже не боясь мороза, степенно пошагал в школу.
Но с наступлением зимы приближалось новое испытание — голодное время.
Задолго до Нового года переставала доиться корова. Семья садилась на хлеб с картошкой. Ближе к весне подходили к концу скудные запасы муки.
Чтобы как-то отодвинуть наступающий голод, мать загодя начинала подмешивать в квашню сначала тертую сырую картошку, а когда и картошки оставалось совсем немного, в дело шел зеленый капустный лист. Хлеб с капустным листом мало напоминал настоящий хлеб, он был темный, тяжелый, склизкий, и дух от него шел такой тяжелый, что его не выносила даже кошка.
Катька такой хлеб никак не признавала за хлеб и, размазывая по лицу слезы, упрямо тянула:
— Ма-ма-а! Хочу хлеба-а-а! Хле-е-ба-а!
Мать в ответ заливалась слезами горше самой Катьки.
А Митя ел. Он был уже большой и понимал, что никакими слезами не выпросишь того, чего нет в доме. Он ел, хотя от такой еды его тошнило, кружилась голова и не было ни сил, ни желания что-то делать, даже просто двигаться. Он часто пропускал занятия в школе, целыми днями неподвижно лежал на полатях.
Но наступал день, когда кончался и капустный лист. Тогда мать начинала подмешивать в лепешки древесные опилки.
В это самое время, когда положение казалось совершенно безвыходным, семью выручала Белянка. В начале марта, ночью, когда Митя и Катька еще спали, мать вносила в избу только что появившегося на свет, беспомощного, длинноногого, головастого теленка. То-то был праздник! Ведь теперь у Белянки появится молоко!
Им больше не грозила голодная смерть. Митя снова ходил в школу, изо всех сил стараясь наверстать упущенное. И все равно без хлеба — не жизнь... Поэтому он с нетерпением ожидал конца учебного года, когда можно будет работать в колхозе и в конце каждого рабочего дня получать свои двести граммов муки.
За лето Митя немного отъедался, и к осени его снова начинало тянуть в школу.
Занятый своими мыслями, Митя и не заметил, как проборонил довольно большой участок. А главное — глинистая ложбинка осталась позади.
Когда подошло время обеда, Митя выпряг лошадь, стреножил ее и пустил пастись на меже, а сам пошел к березе, на которой оставил свой пестерь.
Усевшись под березой, он принялся за обед. Быстро, даже как-то незаметно, исчезла картошка, лук и яйцо. Опорожнив бутылку молока, Митя взял оставшийся кусок хлеба и пошел к лошади. Заметив приближавшегося хозяина, лошадь подняла голову от травы, тихонько заржала и медленно двинулась ему навстречу. Отламывая по небольшому кусочку, Митя скормил ей хлеб и снова пустил пастись, а сам свернул в лес.
В лесу было хорошо. Пробравшись между разлапистым ельником, Митя очутился в густом черничнике. Невысокие кустики черники были усыпаны уже переспевшими сизовато-черными ягодами. Вскоре Митины руки, губы и язык сделались лиловыми, зато он всласть наелся вкусных ягод.
После обеда работа пошла спорее. Но всякий раз, когда Митя начинал новый загон, ему в глаза бросалась злополучная ложбинка, пробороненная кое-как: брошенные семена не перемешались как следует с комковатой глинистой землей.
Мысль о плохо сделанной работе засела в Мите, как заноза, и он, не выдержав, повернул лошадь обратно к ложбинке.
 И тут случилось несчастье. Лошадь, тащившая борону поперек перевернутых пластов земли, споткнулась. Вздыбившуюся от рывка борону кинуло в сторону, ее острый зуб ударил Митю по щиколотке. Митя взвыл от боли и повалился на землю.
И тут случилось несчастье. Лошадь, тащившая борону поперек перевернутых пластов земли, споткнулась. Вздыбившуюся от рывка борону кинуло в сторону, ее острый зуб ударил Митю по щиколотке. Митя взвыл от боли и повалился на землю.
Лошадь остановилась. Покосившись на корчившегося у ее ног мальчика, она глубоко вздохнула, как будто сожалея о случившемся.
Митя попытался встать, но тут же, застонав, снова опрокинулся на землю. Его бросило в жар, на лбу выступил липкий пот. Он лежал, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить ушибленную ногу. Она заметно опухла и стала какого-то зловещего грязно-фиолетового цвета.
Вскоре прибежали Гришка с Ленькой.
— Что тут у тебя?
Митя молча показал ушибленную ногу.
— Ух ты-ы! — воскликнул Гришка. — Чем это тебя так садануло? Бороной? Мы глядим, лошадь на месте стоит, а тебя не видно. Я говорю Леньке: «Айда, мол, сходим, посмотрим, не случилось ли чего...»
— Надо домой ехать, Митька, — посоветовал Ленька. — Гляди, как нога посинела. Вдруг перелом?
— Нет, не похоже, — отозвался Митя. — Как я уйду домой? А норма?
— «Норма»! — передразнил его Гришка. — Не умирать же тут из-за этой нормы. Езжай домой!
— Погожу еще немного, может, пройдет, — нерешительно сказал Митя.
— Ну, как знаешь. Айда, Ленька!
Ребята убежали, Митя остался один.
Между тем солнце стало клониться к западу. От леса на пашню легли длинные тени.
Митя подумал, что и вправду надо выпрячь лошадь да ехать домой, уж очень болела нога.
Но тут ему вспомнились руки его матери.
Усилием воли он заставил себя подняться и заковылял к меже. Из пестеря он достал материнский платок, в который она сегодня утром завернула ему хлеб. Присев под березой, он туго перевязал щиколотку платком. В первое время ему даже показалось, что боль в ноге немного утихла. Но, вернувшись к лошади, он понял, что идти за бороной он не сможет.
И тогда он решился на крайнее средство: он стал боронить сидя на лошади верхом, что строго-настрого запрещал мальчишкам-боронильщикам дядя Федот, колхозный бригадир.
Бригадир появился на поле незадолго до захода солнца. Заметив его издали, Митя поспешно слез с лошади.
С саженью в руках бригадир замерял пробороненные участки. Приблизившись к Мите, он напустился на мальчика:
— Ты что же, сукин сын, за целый день и полнормы не выполнил? Отец на фронте кровь проливает, а сынок баклуши бьет! Ты бы хоть матери своей постыдился! Видал ее руки?
Митя молчал, низко опустив голову.
— Твоя мать сегодня вручную, — тут бригадир наклонился и своей единственной правой рукой как бы сделал несколько ударов серпом, — вручную выжала две нормы! А ты?
— Он ногу сильно зашиб, — вступился за Митю прибежавший Гришка.
Бригадир взглянул на Митину ногу.
— Что ж ты не сказал? — сразу подобревшим голосом спросил он.
Митя поднял голову, сказал решительно:
— Дядя Федот, отмеряйте, сколько там осталось до нормы.
Бригадир махнул рукой:
— Зачем? Завтра вам в школу идти...
— То завтра, а сегодня день еще не кончен, — возразил Митя.
Бригадир хотел что-то сказать, но Митя уже тронул вожжи и, сильно припадая на ушибленную ногу, пошел краем загона.

И. Минин
СТО ВЕРСТ ДО ГОРОДА
Главы из повести
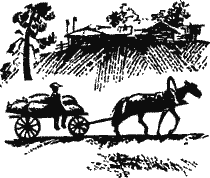
Перевел автор
Рисунки А. Мошева
РАЗВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ
С неделю назад в Лобане закончился весенний сев. Более месяца он длился нынче, немало всяких тревог и волнений было, но отсеялись все-таки благополучно.
Позавчера завершили посадку картофеля, кое-каких овощей, и председатель Сидор Антонович, хитроватый мужичок с большим горбом на спине, на радостях разрешил людям трехдневный отдых. Плечи расправили лобановцы, повеселели: теперь живем!
Да не все ладно получилось. Разрешил председатель отдых уставшим людям, а выдать хоть немного хлебушка не распорядился. Долго сидел он в правлении, на счетах щелкал, пересчитал так и этак каждый грамм и под конец, крепко потирая лысину, устало буркнул счетоводу:
— Запасов муки совсем чуть. Если выдадим сейчас, на сенокос не хватит.
— А я что говорил?
— Придется, это самое... Как бы точнее выразиться, а? — поморщился председатель.
— Придется, того, маленько, — помог ему счетовод.
— Перебьемся как-нито в эти дни, а на сенокос и муки выдадим. Пшеничную, без всякой примеси!
На том и порешили.
Пригорюнились было лобановцы, поворчали, как это водится в таких случаях, но, закаленные и веселые от природы, духом не пали:
— Поживем и без муки. Тоже нам!
— Сейчас не зима. Эвон зелени сколько.
Сидор Антонович тут как тут.
— Верно, не зима — июнь на дворе. Иду я это вчера по лужку, вижу — пикан подрос. Нарвал сколько надо, сварил дома в горшке. Беда как хорошо получилось. Но прежде как ложкой вооружиться, я на эту самую божью травку сквозь лупу посмотрел. Ахнул, братцы!
— Чего там узрел?
— Витамины! Тьма-тьмущая. Да все такие бойкие, такие развеселые — чисто жеребцы бегают. Один шельмец чуть из горшка не сиганул. Ну, я его, отчаянного, понятное дело, сцапал. Сейчас три дня сыт буду. В общем, смерть Гитлеру — и больше ничего!
Похохотали люди, подзакусили председательской шуткой, да делать нечего — разбрелись кто куда. Одни в лес подались, другие на болото, а остальные на луга — витамины ловить.
Вот так и получилось, что почти во всех домах селения Лобан в эти дни появились тяжелые ступы, когда-то выдолбленные еще прадедами из корявых пермяцких берез. Сейчас, когда идешь по улице, так только и слышишь со всех концов: гырк-йирк, гырк-йирк! Бут-бут-йорк! Гырк-йирк, гырк-йырк!
Почти во всех домах играла эта музыка. Играла и в Степанкиной избе. Вчера вместе с братом Сашком сбегали на Кукушкино болото, что за Журавкиной горой, нарвали по мешку пикану. Сегодня старательно делали муку. Пикан за ночь хорошо высох на печи, был ломкий. Наложишь его в ступу до краев, начнешь тюкать пестом — только пыль идет, будто на всамделишной мельнице. Сашок, Степанкин братишка, еще мал, во второй класс бегал зимой, громыхать тяжелым пестом у него не хватает терпения. А про Симку и говорить не стоит: три годика ей всего-навсего. Понятно, и в ее ручонки пест не сунешь. Так что работать приходилось одному Степанку. Слава богу, силенок вроде бы не занимать, как-никак четырнадцатый год на свете живет мужик.
Вчера вечером он внес существенное усовершенствование в дедовский пест. Известно, давние лесные жители, то есть наши предки, в большинстве своем были люди могучие, кряжистые. И что бы они ни делали для своего хозяйства, делали все под стать себе — прочно и добротно. Прочные они мастерили и песты — из мореных березовых рубцов. Но концы их были все-таки тупые, плохо измельчали пикан. И Степанко усовершенствовал старый пест: вбил в его рабочую часть граненую гайку на болту. Замечательно получилось. Тюкнешь разок, и треск идет, любая трава моментально в пыль превращается.
— Ну и башка у тебя, Степанко! — завистливо сказал Сашок. — Ловко придумал!
— Это что! Могу и похлеще. Ну-ка сбегай в чулан, тащи мою находку!
— Пружину, что ли?
— Ее. Сейчас второй фронт откроем.
Сашок моментально притащил из чулана пружину, заложив руки за спину, стал наблюдать за братом. Степанко глядел в потолок. На потолке с давних времен висело толстое железное кольцо. Возможно, это дед вбил его в матицу в пору своей молодости, чтобы продевать в него длинный березовый очеп — гибкий шест для зыбки.
— Хорошее кольцо, в самый раз, — заключил Степанко.
Примерился он, прикинул что-то в уме и полез на полати. С полатей дотянулся до кольца и — Сашко даже рот не успел разинуть — примотал толстой проволокой пружину к дедовскому приспособлению. К другому концу привязал здоровенный гладкий пест. И любуйся!
— Чудеса! — не выдержал Сашок.
— Мозгами шевелить надо!
Ухватился Степанко за пест, тюкнул по пикану. Отлично получилось, замечательно. Поднимать самому пест не пришлось, пружина его так и подбросила до потолка.
— Машина! — крикнул опять Сашок. — Ура!
— Гитлер капут!
Пошумели братья, полюбовались механизацией — и снова за дело.
Дзурки-вирк, дзурки-вирк — скрипела ржавая стальная пружина.
Гырк-йорк, гырк-йорк — громыхал пест.
Чтобы работать было еще интересней, Степанко задумал считать, сколько раз тюкнет пестом. Раз, два, три... десять... сто...
— Идет дело! Уже тысячу разов хрястнул после полудня, — бросил он брату, утирая со лба обильный пот.
— Ты сильный, Степанко, — опять похвалил брата Сашок. — Ты и не устанешь. Руки-то не отнялись?
— Как не отнялись! Каждая жилка ноет. Может, потюкаешь маленько?
Сашок охотно взялся за пест, громыхнул два-три разочка, вздохнул тяжело:
— Не могу. В животе колет.
НЕ ДО РЫБАЛКИ
Днем было жарко, июньское солнце до одури пекло, а вчера укатилось куда-то за Журавкину гору, сразу посвежело. Степанко с остервенением долбанул последний раз по ненавистному вороху, выскреб до щепотки пыль из ступы и унес лукошко на залавку, поближе к печи. Шабаш! Хватит на сегодня. Сейчас можно и отдохнуть.
— Завтра сходим, попробуем? — спросил Сашок.
— Надо сходить, — ответил Степанко.
Вчера, возвращаясь с болота, братья завернули к Круглому озеру. Хотелось узнать, гнездятся ли там утки. Побродили маленько по топкому берегу и наткнулись на чей-то бредень, спрятанный от лишних глаз в густом подлеске.
— Степанко, эва! — сверкнув глазенками, воскликнул Сашок. — Кто-то рыбу ловит, а мы и не знали!
— Будет и у нас рыба!
Вернулась с работы мать. Она сняла латаный-перелатаный халат, повесила у дверей на гвоздь. Взгляд у матери печальный, неживой какой-то, щеки подернуты землистым загаром. Но это не июньский загар. Степанко знает — это от усталости.
— Буренка вернулась ли? — спросила она, ни к кому не обращаясь. Потом заметила Степанкино приспособление, головой покачала: — Лихо мне. Пест к потолку привязали.
— Так легче, мам, — сказал Степанко. — Механизация.
— Вижу. Мука, стало быть, в избытке?
Симка уцепилась было за ее подол, запросилась на руки, но мать легонько отстранила свою ненаглядную и по головке не погладила. Она подозрительно посмотрела на Степанка, огорошила:
— Председатель тобой интересуется чтой-то. Встретился у фермы, спрашивает: «Чем твой сынок занят, дома ли?»
— Сидор Антонович? А чего он?
— Вот я и гадаю: чего? Велел никуда не уходить, разговор-де серьезный будет. Может, натворил что?
Повел плечами Степанко, лоб наморщил. Долго ворошил в памяти все свои делишки за последние дни — нет, ничего будто бы, все правильно. А на лице у матери тревога, Сашок глазенками так и зыркает.
— Лихо мне с вами, лихо, — устало сказала мать, направляясь к шестку.
У Сидора Антоновича была страшная фамилия: Ошкоков. А ошкок, как известно, медвежья нога. Но слыл он человеком добрым, людей зря не наказывал, а Степанка даже не раз хвалил при всех лобановцах за хорошую работу. И все-таки заныло в груди после маминых слов, затрепетало сердчишко. Чего там еще?
Не успела мать выйти к Буренке, не успела и подойник взять, а Сашок, стоявший у окна, уже сообщил:
— Идет!
— Ошкок?
— Он.
Шумно и деловито, как и положено большому начальству, Сидор Антонович зашел в избу. Нарочито весело улыбнулся всем — дескать, вот он я, — по-отцовски погладил Симкину головку, а Степанку даже руку пожал. Все перевели дух — кажется, ничего.
— Ну, как она, жизня-то? Оклемался маленько после сева? — спросил Ошкоков Степанка.
Тот пожал плечами.
Сидор Антонович устало шлепнулся на лавку, плешивую голову втянул в плечи. Было видно, зашел не с простым делом, приготовился к длинному разговору. От напряжения у Степанка колени задергались. Да не тянул бы он душу, говорил бы, что ли.
И председатель заговорил:
— Вот, значит, Степанко, дела-то какие. Дела, брат, хоть волком реви. Не успеешь с одним управиться — глянь, за другое браться надо. А там и третье на пятки наступает.
Все опять перевели дух. Раз Ошкоков заговорил о работе — значит, направит Степанка куда-нибудь, это уж ясно как день. Ну и пусть, лишь бы не худая весть с войны...
Председатель втянул голову еще глубже в плечи, поморщился, точно щелкнули ему по больному зубу.
— Пары пахать надо, навоз возить надо. Надо не сегодня-завтра выходить на луга. Все надо, надо. Везде требуется народ, а тут еще сейчас только принесли из района приказание: завтра же отправить в ямщину пару подвод. В Кудымкар, мол, горох везти надо. Что бы там ни случилось — надо. Иначе... сами понимаете... Война — ничего не поделаешь...
Мать так и встрепенулась, в отчаянии хлопнула по бокам.
— Господи, да куда же он поедет? Парень в чужой деревне еще не бывал, сгинет в трудной дороге. Да лошадка вконец заморена, позавчера едва последний круг сделала. Того и гляди, с ног свалится. Как на ней до Кудымкара доедешь? Ведь сто верст...
— Не надо этак, Мариш, — остановил ее председатель. — Парень уже в годах, жених, можно сказать, ничего с ним не случится. Лошаденка, конечно, того, заморилась мало-мало. Четырнадцать гектаров вспахал Степанко — это не шутка. Но Сырчик еще сильный, сходит до города. Да и не одного Степанка посылаю, а с надежным человеком. Митюбаран вчера обратно вернулся, не взяли его, малого, в армию. Вот с ним и направим Степанка. Лошадь у Митьки справная, в случае чего — поможет.
Едва председатель вышел, Сашко так и налетел на брата.
— Дурак ты, какой все-таки дурак! Сразу согласился. А рыба?!
— Что рыба?
— Так договорились же!
— Было дело, — вздохнул Степанко.
ХЛЕБ ТЫ НАШ, БАТЮШКА
Но вот и склады заготзерна. У забора подводы, ямщики на телегах сидят. Размахивая руками, бабы о чем-то беседуют — наверно, домашние дола обсуждают.
— Глянь, сколь народу. Грузиться подъехали, — знающе заключил Митюбаран.
Остановив лошадь, он бойко спрыгнул с телеги и покатился к старику с огромной пегой бородой.
Старикан одиноко сидел на крылечке конторы и, повесив голову, кажется, дремал.
— Здорово, земляк! — приветствовал его Митюбаран. — Опять в ямщину?
— В Гайны направляют. Овес приказали в леспромхоз везти, — уныло сказал тот. — Лошади падают, а все надо ехать.
— Так, так, батя. Вот и нас в Кудымкар вытурили.
Степанко бросил Сырчику клок свежего клевера. Кто-то не очень больно ткнул парнишке в спину кнутовищем, зафыркал. Оглянулся Степанко, а тут Колька Чугайнов зубы скалит. Степанко поздоровался с другом за руку.
С Колькой они целый год учились в одной школе. Вместе жили в интернате. Колька был тогда низкорослый, толстый, щеки огнем пылали. Он любил поозорничать, иногда куражился перед учителями, в общем, был видный ученик. За последние годы сильно вытянулся, подрос и наполовину стал тоньше.
— Куда едете? Тоже в Гайны? — спросил Колька.
— Нет, в Кудымкар.
— Это хорошо. Хоть город увидишь. Как ты думаешь, хлебушка на дорогу дадут?
— Кто их знает. Председатель сказал: обещали-де. Хорошо бы...
Сели два друга на телегу, поговорили о том о сем, своих школьных дружков вспомнили. Оказывается, некоторые успели стать героями. Пашка Пешоркин — подумать только! — тихий и тщедушный был, а выкинул штуку: без согласия родителей на фронт удул — это после того, как не взяли добровольцем. Анька Закина, оказывается, окончила школу ФЗО и сейчас где-то на заводе чудеса творит: ее портрет напечатан в областной газете. Дела!
— А меня недавно в райком вызывали. В райком комсомола, — сообщил Колька.
— Чего так?
— Поговорили насчет того, мол, пора о комсомоле думать. Тебя не вызывали?
— Нет, не вызывали, — сказал Степанко. — Девушка из райкома сама у нас была. Тоже со мной беседовала: дескать, пора в комсомол.
Митюбаран заходил в контору и, выйдя, весело крикнул Степану:
— Дуй на склад! Горох грузить приказали.
На складе поленницами лежали наполненные горохом мешки. Степанко так и ахнул: богатства-то, богатства сколь! Весовщик показал на штабель, велел класть мешки на весы. Митюбаран медвежьей хваткой взвалил на плечи тяжелый мешок, потащил кряхтя. Степанко тоже осторожно взялся было за мешок, но не смог его и с места сдвинуть.
— Маловато, брат, каши ел, — попытался пошутить кладовщик. — В мешке-то семьдесят пять кило. Стандарт.
— Если бы кашу, — огрызнулся Степанко.
Митюбаран уложил на свою телегу четыре мешка — три центнера. Степанко вместе с кладовщиком положил тоже четыре и сразу накрыл их брезентом, крепко-накрепко перевязал веревкой.
— Вам как, одну накладную выписать? — спросил весовщик.
— Выпиши, пожалуй, отдельно, — сказал Митюбаран. — В дороге всякое случается.
Весовщик спорить не стал, выдал каждому по накладной, и подводы выехали на улицу. И только успел Степанко приблизиться к гомонящей толпе ямщиков, как среди них заметил очень уж знакомую фигуру. Спиной к нему стоял белобрысый паренек, худой и лохматый, одетый в темную пестрядинную рубашку и в некрашеные холщовые штанишки. Чтобы штанишки ненароком не сползли и не опозорили на людях хозяина, он предусмотрительно наладил крепкую лямку из сыромятного ремня и накинул через плечо. Такую лямку, наверное, на всем свете носил только один человек — это, конечно, Сашок.
Степанко щелкнул брата в темя. Тот сразу затараторил:
— Во, ножик забыл. А без ножика разве можно? Я сразу смекнул: никак нельзя. И вот прыг-прыг-прыг — и здесь. Я шибко бежал...
Сашок был несказанно рад, что застал брата, говорил громко.
Не из-за ножика прыгал сюда лукавый Сашок. Не успел встретиться с братом, спросил тихо:
— Степанко, а хлебушка выдали уже? Много?
Степанко улыбнулся:
— Нет, Сашок, не выдали пока. Вот выдадут, тогда...
Хлеб сначала выдавали кокоринским ямщикам, целым обозом отправлявшимся в далекие Гайны. Степанко и Сашок стояли у ларька, наблюдали, сколько кому дают. Подходяще! Вот тот бородатый старик уже держит в руках полторы буханки черного хлеба, столько же дали Кольке Чугайнову. Подходяще! Старичок получая хлеб, широко и важно осенил лоб, прошептал, точно молитву: «Хлеб ты наш, батюшка...» А Колька Чугайнов сразу уселся на завалинку, отломил от неполной буханки большой кусок и начал молоть.
Настала очередь получать Степанку. Хорошо! И ему отвесили полторы буханки. Парнишка первым делом побежал к своей телеге. Здесь он долго — и так и сяк — вертел буханку в руках, не раз понюхал. Хлеб был мягкий, только из пекарни, еще не успел до конца остыть. И запах был такой приятный, одурманивающий — голова закружилась. Сашко, не отрываясь и не мигая, смотрел на братишкины руки, державшие хлеб, от нетерпения переминался с ноги на ногу, глотал слюну.
— Во, Сашок, хлеб! — широко улыбаясь, сказал Степанко. — Давай ножик.
Сашко протянул ножик.
— Хлеб! — сказал он. Не утерпел — ткнул пальчиком в буханку.
Степанко отрезал ему большой ломоть, отрезал и себе. Затем достал из-под полога мешочек с солью, круто насолил свой кусок, начал осторожно кусать одними губами. А Сашок действовал совсем иначе. Он напихал в рот сколько влезло и — раз-раз! — проглотил все сразу.
Степанко сначала хотел свою буханку спрятать под полог, но потом подумал хорошенько, прикинул так и сяк и решительно затолкал в Сашкину сумку всю нетронутую буханку. Оставшийся кусочек положил себе в карман.
— Вот, тащи домой, — сказал он брату. — Да смотри не трогай в пути, отдай все матери. Она и разделит. А если тронешь, то берегись. Когда вернусь, всю шкуру спущу. Понял?
— Как это можно — трогать? — удивился Сашок. — Ты давай, Степанко, завяжи сумку своими руками, чтобы я и во сне развязать не смог.
Сашко был рад-радешенек.
Хлеб!
КАК КОНЧАЕТСЯ ДЕТСТВО
Нынче зимой Степанко два месяца потрудился в тайге. Тяжелая там работа. Но выдюжил парнишка, справился с заданием. На своем Сырчике выволок по лесовозной делянке немало лесин. И сейчас, когда они с Митюбараном вышли на многоводную таежную Косу да увидели, что по ней беспрерывным потоком идет молевая древесина, Степанко первым делом подумал: «Тут где-то и мои бревна плывут...»
— Плывет! Хороший лес плывет, — глядя на воду, задумчиво сказал он.
— Да, ничего лесок. Построить бы себе домишко вон из тех бревен — тысячу лет простоит, — согласился Митюбаран.
На крутом берегу они распрягли лошадей. Митюбаран сразу же натаскал откуда-то сухие палки, вывороченные половодьем пни-раскоряки и запалил большой костер. Степанко сбегал к реке, зачерпнул в котелок воды, поставил на огонь вскипятить.
— Сейчас мы, Степанко, так налопаемся, — болтал неутомимый Митюбаран, — что больше три дня не захочешь есть. Вот погоди...
Рядом плескалась река, и в ней в тихих заводях, надо полагать, водилось немало всякой рыбы. Почему-то думалось, что Митюбаран, этот бывалый и дошлый человек, достанет из-под брезента какую-нибудь хитроумную снасть, запросто наловит лещей и щук и сварганит небывалую уху. Но Митюбаран никакие снасти доставать не собирался.
— Дела-а! Повезло нам, — сказал он. — У тебя кумпол-то не с дырками? Тогда слушай. В прошлом годе с Кона Олешем в Гайны съездили. Дело, брат, было тоже в горах. Смекаешь? Лесозаготовителям везли его. Ну и вот, значит, так. Есть до смерти хочется, а какую такую баранину? Тогда я и говорю: «Олеш, давай-ка сварим горошницу». — «Так ведь горох-то того... убавится», — отвечает мне Олеш. Человек он, сам знаешь, маленько тронутый, голова у него вовсе без всякой выдумки. Ну, да ладно. Я, Степанко, возьми да и открой ему один секрет.
— Высыпал горох и в мешок добавил песку?
— Эка ты! Тоже — песку! Воды налил! Бухнул сколь надо, и дело с концом. Горох любит воду, набухает. Сколь ни лей, все сожрет. И никакого изъяну. Вот сейчас...
Едал Степанко когда-то горошницу, едал. И говорить нечего — вкусна штуковина. Известно ему и то, что горох уважает влагу, набухает. И если взять из мешка с котелок, то вряд ли кто заметит. Наверняка никто не заметит. Догадливый Митюбаран сообразил.
Слюнки потекли у Степана, перед глазами круги пошли. И видения разные начались. Всплыла из воздуха плутовая рожица брата: «Везет тебе, Степанко, беда как везет! Почему меня с собой не взял? Вот бы налопались горошницы!» — «Но ведь горох казенный...» — замялся Степанко. «Чепуха! Чепуха! Нынче все мы казенные!»
Это верно, все мы казенные нынче. И горох, и лошадь. И даже сам себе не свой... Так как же?
— Сегодня для хорошего почину сварим горох с моего воза. На всякое дело рука у меня легкая. А завтра... коли захочется... сварим с твоего воза. Горошница получится дай боже, — говорил Митюбаран.
— В прошлом году, говоришь, все гладко было?
— Шито-крыто.
— Так-то неплохо бы, — задумчиво сказал Степанко.
Опять Сашкина рожа выплыла, улыбнулась ободряюще: «Везет тебе, Степанко! И не трусь. Помнишь, как в прошлом году на бабкином огороде паслись? Брюкву слямзили, огурцов перепробовали. Думаешь, догадалась бабка Анисья? Черта с два! Ничего она не заметила. Сойдет и сейчас. Подумаешь, с полкотелка гороху взяли. Капля в море. Даже меньше капли».
Но вот в тумане какая-то новая фигура неожиданно замаячила. Все ближе, ближе к Степанку подходит. Мужичок вроде. Кто такой? Худой он, бледный, впалые щеки обросли щетиной. Господи, да это же Кадуля Терень! «Сгинь, сгинь, нечистый дух! Тьфу!» — прошептал Степанко.
 Вот лешачье наваждение! Откуда взялся? Кадулю Тереня, квелого мужичка, придавленного всякими болезнями, нынче судили в Лобане. Украл семенной пшеницы на севе, и увели его милиционеры куда-то, говорят, дали немалый срок. И вот, пожалуйста, из тумана маячит. Можно подумать, убежал из тюрьмы.
Вот лешачье наваждение! Откуда взялся? Кадулю Тереня, квелого мужичка, придавленного всякими болезнями, нынче судили в Лобане. Украл семенной пшеницы на севе, и увели его милиционеры куда-то, говорят, дали немалый срок. И вот, пожалуйста, из тумана маячит. Можно подумать, убежал из тюрьмы.
На лбу испарина выступила, ноги подкосились. Чтобы избавиться от наваждения, Степанко быстро провел ладонью по лицу, глаза продрал. Нет никого в тумане — ни брата, ни Тереня. Один Митюбаран возится у телеги, какую-то песенку мурлычет.
— Сейчас мы соорудим. Хо!
— Не надо, Митя! Не надо горошницы.
— Ты сыт?
— Сыт я, Митя. Не хочу есть.
ССОРА
Не соврал Степанко, правду сказал. Есть и в самом деле расхотелось. С перепугу, наверное. Спасибо Кадуле Тереню, образумил, не дал сгинуть. И легко стало, будто стопудовую глыбу с плеч сбросил. «Казенный горох — это не брюква из чужого огорода. Понимать надо, дурак!» — пристыдил себя паренек.
Нехорошими словами обругал он себя за минутную слабость, червяком обозвал, скотиной. И когда окончательно избавился от наваждения, твердо решил: что бы там ни случилось, а казенный горох трогать не будет.
Ни в коем случае. Ну его!
— Струсил? Вроде не из того десятка? — усмехнулся Митюбаран.
— Не струсил я, Митя. Просто есть не хочу. И еще... сцапают...
— Черт нас поймает! Не впервой.
Степанко еле стоял на ногах. А Митюбаран уже курочил воз, поднимал мешок. Он поставил его на попа, точно подушку. Он был сильный, этот человек. И ловкий. Не прошло и секунды, как мешок был развязан и перед Степанкиными глазами матово блеснули в темноте крупные белые горошины. Митюбаран зачерпнул из мешка полный котелок. И он, конечно, сварил бы. И вылил бы в мешок сколько надо воды. Но Степанко вдруг дернул его за рукав, показал в сторону леса.
— Идет кто-то. Сплавщик, поди, — сказал тихо.
— Где? Кто?
— Вон, за кустами.
Митюбаран быстро высыпал горох обратно, завязал мешок, свалил его и проворно накрыл брезентом. Спрыгнув с телеги, прислушался. Вокруг тихо. Только лошади звучно мурскают сочную травку да где-то не совсем в урочный час тревожно прокрякала утка.
— Где ты увидел сплавщика? Померещилось?
— Мне, Митя, отец вспомнился. Он ведь на войне, солдат. Что, если нальют отцу горошницу, а она, горошница-то, из гнили? Что он обо мне подумает?
— Кто подумает?
— Да отец, кто же еще!
— Болван ты.
Митюбарана точно подменили. Он в течение минуты буравил Степанка острыми злыми глазами. При этом как-то странно, быстро-быстро перебирал ногами, вертел головой. Ни дать ни взять баран.
Степанко струсил. «Сейчас забодает!»
— Вот что, дружок, — растягивая каждое слово, внушительно начал Митюбаран. — Человек ты еще сопливый, только вылупился, и умишка в твоей дырявой башке нет ни грамма. Ты думаешь, со мной можно шутить?
— Какие шутки? — оборвал его Степанко. — Мне еще Кадуля Терень вспомнился. Хорош я буду солдатский сын, если за воровство, как этого Тереня, в тюрьму посадят.
— Дурак он был, этот Терень. Ты думаешь...
— Ничего я не думаю.
— Расскажешь? Значит, донесешь?
— Зачем доносить? Мы просто не возьмем горох, вот и все.
Митюбаран был страшный. Степану показалось, что тот обязательно полезет драться. И он приготовился к отпору. «Ударю в живот — и свалится». Но Митюбаран драться не стал, ворча себе что-то под нос, пошел прочь. Он как-то сразу сник и бормотал глухо:
— Дурак ты. И более ничего. Давай спать.
— Давай спать, — согласился Степанко.
ВОТ ТЕБЕ И КУДЫМКАР
Когда он проснулся, над широкой рекой уже низко летали утки, а в небе, на стороне Лобана, во весь свой позолоченный лик сияло ярко-красное солнышко. Со стороны реки тянуло приятной, мягкой сыростью, там в осоке квакали лягушки, плескались шустрые рыбки. Туман уже растаял, но на стебельках трав еще блестели бусинки росы.
Степанко не сразу заметил, что на реке он один. Глянул туда, глянул сюда, а Митюбарана и след простыл. На том месте, где вчера стояла телега, была только измусоленная трава да чернел свежий конский навоз, сплошь покрытый мухами. «Оставил! Неужели оставил?» — испугался Степанко и не помня себя бросился к лошади.
Он быстро и ловко запряг Сырчика, выехал на дорогу. По всем приметам, Митюбаран уехал только-только: примятая колесами трава не успела еще распрямиться, следы не покрылись росой. И Степанко решил во что бы то ни стало догнать подлеца. Что ни говори, а лошадка у Митюбарана справная, куда сильнее Сырчика, и, в случае, если понадобится подниматься на крутую гору, Лысанко поможет потянуть тяжелый воз.
Надо догнать! Но как?
Степанко щелкнул хлыстом, и отдохнувший за ночь Сырчик запрядал ушами, заметно прибавил шагу. Несколько километров шел бойко. Кажется, и ему хотелось быстрей догнать товарища, — одному скучно...
Позади осталась какая-то худенькая деревенька, точно вымершая, — без собачьего лая и петушиного пения. Подвода взобралась на холм. Окрест виднелись небольшие рощицы, перелески, поля. Впереди по холмам и полям бесконечной лентой вилась серая пыльная дорога. До боли напрягая зрение, Степанко силился увидеть на ней одинокую подводу, надеялся заметить Митюбарана. Но дорога, насколько хватало глаз, была безлюдна. Митюбаран, видимо, катил уже где-то за холмами.
Нет, кажется, не догнать.
Оставил Митюбаран Степанка. А председатель Ошкоков говорил, что Митюбаран — человек надежный, в случае чего, поможет. Вот тебе и помог!
Сырчик! Сырчик! Ты не останавливайся, шагай бодрее, Сырчик!
Солнышко, уймись! Хоть на часок спрячься за облака — без тебя жарко!
Степанко одиноко постоял на холме, в тоске долго смотрел в сторону Кудымкара. Затем оглянулся назад. За рекой Косой в утренней дымке чернела одна тайга. Родной Лобан был уже далеко.
Чем быстрее хотелось ехать, тем медленнее шагал Сырчик. И денек выдался куда жарче вчерашнего, до невозможности душный и знойный. На небе ни единого облачка. Там беспрестанно пылает солнце, ошалело кидает на землю невыносимую жару.
Эх, хоть бы небольшой дождичек брызнул!
Выбьется из сил Сырчик, станет.
Вот впереди опять виднеется деревня. Рядом с ней большой холм, круглый, точно каравай. Сумеют ли подняться? Если не хватит силенок у лошади — беда.
Еще далеконько было до холма, а коняга уже сгорбился.
— Но-но, Сырчик, давай! — крикнул Степанко, толкая телегу сзади.
Заскрипела дуга, струной зазвенели отосы-расчалки. Под тяжелыми колесами противно заскрежетала мелкая галька.
— Сырчик, давай, Сырчик!
Половину горы Сырчик осилил, поднялся не останавливаясь, затем как-то отрешенно мотнул головой и, сделав еще полшага, остановился.
Тяжелая телега тотчас потянула обессиленную лошадь обратно, пришлось пихнуть под задние колеса камни.
Ну вот и все. Вот тебе и Кудымкар!
Степанко навалился на мешки, часто задышал.
А в голове ни одной доброй мыслишки, все завертелось, закружилось, к горлу комок подступает. От обиды на Митюбарана сердце сжимается.
Растерялся Степанко.
ПИКАН РАСТЕТ ВСЮДУ
В самый полдень, когда солнце палило особенно немилосердно, Степанко завернул на обочину и у широкого извилистого лога распряг Сырчика. Бедная лошадь тяжело дышала, бока ее так и ходили ходуном, все мохнатое тело было в хлопьях пузыристой грязной пены.
Над лошадью столбами гудели кровожадные слепни и прилипчивые мухи, но Сырчик стоял не шелохнувшись. Он не мотал головой, не хлестал по бокам длинным хвостом. И это особенно встревожило Степанка.
— Бедный ты, бедный мой, — говорил он, обтирая бока Сырчика пучком травы. — Тяжело нам с тобой, шибко устали. Но ничего, все будет хорошо.
Степанко снял с лошади седелку, сбросил хомут. И тут же сокрушенно вздохнул: войлок хомута от лошадиного пота промок насквозь и задубел. А это плохо. Задубевший войлок может до крови натереть Сырчику холку — тогда пропало дело.
— Ну, Сырчик! Ты давай ешь. Глянь, какая трава-то вокруг, любо-дорого. — Он говорил все это громко, стараясь вместе с конем успокоить и себя.
Сырчик и ухом не повел. Тогда Степанко достал из-под мешков свою заветную котомочку с солью, развязал ее дрожащими руками и высыпал на ладонь несколько щепоток. Соль, это всякий знает, для уставшей лошади — слаще пряника.
Осторожно, чтоб не обронить ни крупинки, Степанко поднял ладонь к губам Сырчика. Лошадка слабо пошевелила отвисшими губами, потянула горячими ноздрями. И тогда парнишка быстро накрыл ладонью Сырчику рот, начал тереть ему губы. Лошадь резко встряхнула головой, стала облизываться. Шершавым и твердым, как подошва, языком она вылизала ладошку хозяина, покачала головой, будто сказала спасибо.
— Ну вот и хорошо, вот и хорошо, Сырчик, — обрадовался Степанко. — Сейчас я поведу тебя к самому логу. Там трава мягкая, сочная. Там должен и ручей быть. Чего еще надо?
На дне оврага действительно журчал неширокий ручей. И трава между кустами росла сочная, по пояс человеку. Но эта трава болотная, для лошадей малосытная. Надо нарвать клеверу. Клевер — это для всех животных наилучшая трава. Нынче зимой, когда Степанко работал в лесу, лошадям не давали ни грамма овса, а они знай себе возили и возили с утра до позднего вечера тяжелые лесины. А почему? Да только потому, что вдоволь давали добротного клеверного сена. И весной, во время сева, лошадей тоже подкармливали запаренным клевером. А то бы, хоть убей, не вспахали ни одного гектара.
Клеверное поле было рядом, и Степанко за малую пору нарвал порядочную ношу, приволок в овраг, бросил под ноги Сырчику. Лошадь снова мотнула головой, точно опять сказала хозяину спасибо.
Сырчику хорошо. Еда вот она, под ногами.
А что делать самому, когда хочется чего-то пожевать и нет у тебя черствой корочки? Последний кусочек хлеба Степанко умял еще вчера. Сегодня с утра во рту не было ни крошки. И конечно, в животе давно играла настоящая музыка. Там беспрерывно что-то ныло, что-то дребезжало и урчало. «Пожалуй, действительно хапну гороху. Не выдержу...» — подумал паренек.
— Не надо думать о еде, к черту! — громко сказал он.
Надо думать о хорошем, о светлом, тогда и есть расхочется.
О чем таком светлом? Что радостного было в жизни Степанка?
Оказывается, было. Вспомнились довоенные летние вечера, шумные да веселые. Бывало, выйдут за околицу парни и девчата, заведут хоровод и ну же распевать песни. На околице они поют, а в лесу, под Журавкиной горой, другие парни да девчата разливаются — эхо так и гудит волнами, откликается озорно, дразня поющих.
Незадолго до войны Степанко тоже начал выходить на гулянки. Выходил, признаться, не своей волей — девчата заманивали. Тогда мал был Степанко, худенький такой да угловатый, а на гармошке лучше его в Лобане играть мало кто умел. Еще в школе научился играть частушки, после как-то незаметно, вроде бы мимоходом, стал играть песни. И как вечер, так и бегут к нему девчата, известные в округе мастерицы попеть да поплясать. А Степанку что — приглашают, так надо идти. Выйдут за деревню с гармошкой, сначала свою любимую поиграет, «Как родная меня мать провожала», а там и за новые песни примется. И загорается за Лобаном, на зеленом пригорке, настоящий праздник.
...Вспомнилось все это Степанку, вроде бы легче стало. А есть не расхотелось. Наоборот, еще сильнее засосало под ложечкой. В голове непонятный гул, вискам больно.
Тишина вокруг. Только Сырчик, переморенный и усталый, хрумкал клевер. Он ел сначала беззвучно, будто одними губами, затем вдруг громко зафыркал, а чуть погодя стал изо всех сил обхлестывать бока хвостом. Это хорошо. Степанко любовно похлопал коня по высохшему крупу, с телеги взял котелок и спустился к ручью. Что бы там ни было, а надо зачерпнуть воды, развести костер и вскипятить хотя бы чай. «Вот нарву себе побольше клеверных куколок, запарю в котелке и слопаю. А что? Клевер — это белок. Насолю — и съем», — думал он. И еще он подумал о том, что горох тяжело везти, лучше бы камни, что ли. Или, скажем, чурки березовые...
В траве вдруг он заметил знакомые, узкие, точно луковичные перья, листочки, растопырившиеся веером на сочном стебле. Пикан! Да это же как раз то, что требуется! Пикан, конечно, трава, но не такая уж простая. Знаменитая, в общем, трава, ничего плохого не скажешь. Председатель Ошкоков на все лады хвалил ее. До того нахвалил, что девчата частушки сочиняют. Ха!
| Перед всем честным народом Разливался, как баян: — Слаще хлеба, слаще меда Знаменитый наш пикан! |
Улыбнулся Степанко, развеселился опять и сам не заметил, как запел у ручья:
| Слаще хлеба, слаще меда Знаменитый наш пикан! |
Вода есть, котелок — вот он, спички в кармане. На лужку, у старого остожья, полно бросовых гнилых жердей — эти на дрова пойдут. У лога в траве растет пикан. Нарвать, сварить — чего же еще надо? Ничего больше не надо. Хорошо, что вчера не поддался на уговоры Митюбарана. Казенный горох он не тронет. Он заставит себя думать, что в мешках вовсе не горох, а камни. Так лучше.
А солнце сияло, весело подмигивало ямщику: не трусь! Будем живы — не помрем.
«ШПИОНЫ!»
Колеса монотонно стучали по каменистой дороге. Под колесами скрежетала мелкая галька. Бренчали железные подвески на узде, скрипела дуга.
Над лесом — пармой — бледно светилась молодая луна. Куда-то плыли легкие облака, и Степанку казалось, будто луна, покачиваясь, несется ему навстречу.
Степанко был доволен собой: сообразил-таки покормить лошадку днем, в тени. На дневной жаре она после первых шагов выбилась бы из последних силенок, запыхалась, изошла потом. А сейчас шагала бодро. Видимо, и клевер помог.
Скрипела в ночной тишине дуга, стучали по твердой дороге колеса.
А Степанко думал. Он думал о матери, об отце, о братишке и сестренке и снова о матери. Худо живется ей нынче, очень даже худо. Но она все-таки дома. Дома и стены помогают. А вот как живется отцу там, на войне, где ухают снаряды и трещат пулеметы? Страшно, наверное, на войне, беда как страшно. А может, за два года уже привык и ему все нипочем? Кто знает. Отец об этом почему-то никогда не пишет.
Долго обо всем размышлял Степанко. И даже вздрогнул, когда недалеко от себя вдруг услышал человеческий голос:
— Быстрей, быстрей водите! Шнель!
Глянул Степанко и растерялся. Совсем близко, у телеграфного столба, возились люди. Три мужика занимались каким-то совершенно непонятным, даже очень странным делом: один командовал, а двое — подумать только — пилили столб! Зачем?
Вредители! Так и есть вредители! А может, даже шпионы. Никогда себя трусом не считал Степанко, но тут лоб моментально затянуло липким потом, сердце замерло. Шпионы! Подпиливают телеграфный столб, связь нарушают. И что будет, если заметят Степанка, если сцапают?
— Быстрей, говорю, быстрей! Шнель! — крикнул опять старшой. — Шнель!
Все-таки шпионы ли? Откуда им здесь взяться? Какая корысть забросит их в парму? Нет, здесь что-то не так. Эти люди наверняка просто ремонтники, заменяют подгнивший столб новым. Да, да, наверняка ремонтники.
— Но-но! — крикнул Степанко на Сырчика и щелкнул плетью.
Незнакомые люди тотчас обернулись.
— А-а, наконец-то! — обрадованно заговорил старшой. — Подъезжай, подъезжай, чего стал?
Пильщики бросили свой инструмент, выпрямились. А их командир, плотный пожилой дядька с длинными усами и давно не бритыми щеками, уже шел к Степанку навстречу.
Одет он был в военную форму, с погонами рядового, на ремне торчала кобура. А во рту какая-то загогулина, «козья ножка», что ли?
— Табак куришь? — нетерпеливо спросил он и уставился на Степанка. Странный он был, этот человек, чудной какой-то: походка неровная, ноги подкашиваются, а глаза светятся, точно шалые.
— Табак куришь? — повторил он свой вопрос.
«Кажется, бить будет», — подумал с тревогой Степанко и не смог произнести ни слова, только промычал что-то.
— Да ты что, в самом деле немой, что ли? Или язык проглотил? Спрашиваю: имеются ли у тебя спички?
Последние слова он произнес по-пермяцки, даже на том диалекте, на котором говорят в Лобане, и Степанко быстро пришел в себя.
— Нет, табак я не курю, — наконец внятно ответил он.
— И спичек нет?
— Спички — вот они...
— Так чего же ты! Давай быстрей!
Степанко торопливо вынул из кармана спички и подал в дрожащие руки незнакомца.
— Чего такой бледный? Трусишь? — насмешливо спросил тот, шумя спичками.
— Я трушу? С чего это? Гляжу, взрослые люди, а озоруют, телеграфный столб пилят... Удивился зачем?
Усатый дядька захохотал:
— Умора! Да мы, паря, огонь добывали! Сухую палку об столб терли, три пота пролили — и хоть бы хны! А ты — столб пилим!
Махнул рукой усач и торопливо, даже слишком торопливо, стал прикуривать.
— Отдьявол, вот он, горлодер! — зажмурив глаза, произнес умиротворенно усач и чмокнул от удовольствия губами. — Дерет! У-у, дерет! Сейчас живем!
После нескольких затяжек он совершенно обмяк, устало шлепнулся на бровку кювета, вытянул ноги.
— Дерет! Не табак, а малина! Эй, господа хорошие, подисюда. Шнель! — крикнул «пильщикам». — Бегите, говорю, к нам!
Два долговязых мужика в коротких шинелях энергично сдернули с голов мятые пилотки и, косясь друг на друга, нерешительно побрели к подводе. Передний был сутулый и заметно припадал на левую ногу. Второй, длинноносый и худой, прямо как жердь, был совершенно лыс. Виновато и как-то растерянно улыбаясь, они присели на обочину, ничего не выражающим взглядом прошлись по Степанку, кивнули головами.
— Кури, господа хорошие. Ничего, ничего, закуривайте, — предлагая кисет, насмешливо сказал солдат. — Битте! Уж сделайте такое одолжение.
— Данке, данке! — приподнявшись с мест, угодливо залопотали те.
— Кури, чего там!
Длинноносый взял протянутый кисет и неумело, рассыпая табак, стал завертывать цигарку. Усач снисходительно подмигнул Степанку, как бы говоря: смотри, мол, какие они, тоже ведь люди, а?
— Кто такие?
— Немцы, паря.
Степанка так и подбросило.
— Фашисты?! Наши враги!
— Внесем ясность: бывшие враги. Были зверями дикими. Сейчас-то они ручные.
Степанко в упор долго и бесцеремонно глядел на немцев.
— Немцы, фашисты... — прошептал он.
— Да, паря. И не простые, не случайные какие-нибудь, а из самого Сталинграда. Это прошу учесть. В Сталинграде, говорят, они дрались не на живот, а насмерть. И вот любуйся, какие они вояки после разгрома. Тише воды. Читал, поди, в газетах: более ста тысяч штук забрали их в Сталинграде. Вот и этих тоже.
Степанко, конечно, читал.
Сейчас, сидя у дороги, он в упор смотрел на этих немцев, стараясь понять, что у него творится в душе: или злость клокочет, или радость через край прет? Хотелось встать, подойти вплотную и спросить с ехидцей: «Ну как, получили по роже?»
— Все получается как по нотам, — заговорил между тем табакур, видимо угадав мысли молодого ямщика. — Рвались фрицы в Сталинград, а угодили прямехонько в Кайский волок. Теперь лес рубят.
— Много их там?
— Хватает, паря. И работы для всех хватает. Даром их кормить не будем. И ничего. Трудятся все, послушные. А эти двое заболели зимой, занедужили. Пришлось увезти в больницу, что в селе Заречном. Полежали маленько, и вот обратно топаем. Я при них конвоиром значусь.
Конвоир бросил окурок, растоптал его и сразу же стал завертывать новую цигарку.
— Проголодался я, паря, сегодня без курева. Смерть! Ведь надо же такому случиться... Умора! При паническом бегстве пришлось бросить свою куртку, а в кармане спички были. Вот и остался без огня. Целых пять часов не курил, удивляюсь, как не помер. Если бы не ты, возможно, и помер бы. С этими фрицами и поговорить-то как следует нельзя. В общем, без курева — гроб! Шли мы, паря, тихо да мирно по дороге, дошли до одной деревушки, что вот там, за лесочком, и попали в переплет. У самой дороги на поле бабы навоз разбрасывали. И вдруг, слышу, одна крик подняла: «Бабоньки, глите-кось! Фашисты! Ей-богу, фашисты!» Что там они еще кричали, я, брат, не разобрал. И сообразить не успел, вижу: кто с лопатой, кто с вилами, а кто с колом — прямо на нас, в атаку! Орут: «Бей! Смерть фашистам!»
Вижу, смерть нам. Укокошат злые бабы. Ну, да я тертый калач, тоже на войне был, не растерялся, дал команду: «Бегом! Шнель!»
Поняли меня немцы, побежали, да так прытко — пятки сверкают.
Известно, немец за последнее время научился бегать да еще как! Километра два драпали, меня далеко оставили. Одна бабенка, шельма длинноногая, заграбастала было меня, уж за полу сцапала, но бог не выдал: скинул я с плеч куртку и снова вперед налегке! Черт с ней, с курткой, драная уже была. А вот когда понял, что без спичек остался, чуть не заревел...
— Так, значит, не убегают из плена?
— Их, брат, теперь на фронт и калачом не заманишь. Не-ет! Ну-ка вот спроси у того, что постарше. Мужик он смышленый и по-пермяцки маленько кумекает. Вот смотри.
Конвоир, обращаясь к одному из пленных, спросил по слогам:
— Эй, Курт! Кывзы татчэ! Мунан Сталинграда?*
Немец страшно вытянул шею, замахал руками:
— Мый тэ, мый тэ? Ог, ог!**
Степанко так и взялся за живот, а солдат-конвоир от смеха сделал такую свирепую затяжку, что поперхнулся, с добрую минуту не мог откашляться.
— Умора! — наконец произнес он.
Выкурив без роздыха еще одну «козью ножку», третью по счету, добродушный конвоир поблагодарил Степанка за спички и заторопился в путь.
— Дяденька, — остановил его Степанко. — Что я хотел спросить...
— Что такое, говори.
— Значит, немца при слове «Сталинград» бросает в дрожь? Немец не думает бежать из плена? Значит...
_______________
* — Эй, Курт! Слушай сюда! Поедешь в Сталинград?
** — Что ты, что ты? Нет, нет!
— А это, друг мой, значит, что немец далеко не тот, каким был в начале войны. Это значит, что Сталинград, как пишут в газетах, сломал хребет фашистскому зверю. В остальном разберешься сам?
— Попробую.
— Ну, тогда ауфвидерзеен. Прощай, брат. Ну, вояки, давайте топать. Шнель!
КОСОГОР
Каждый коми-пермяк, будь он грамотный или совсем неграмотный, знает наизусть такие строки:
| У высоких диких гор Есть деревня Косогор... |
Знал эти строки и Степанко. Но раньше почему-то всегда казалось, что поэт сочинил это просто так, для красоты. А сегодня, когда вышел из Юрлинского волока, он лично убедился: верно, есть такая деревушка — Косогор, вон и на доске, прибитой к столбу, написано об этом. И гора у деревни высится. Глянул Степанко снизу на эту гору — сердчишко так и екнуло. Страшная косогорская гора, высокая да кривобокая, действительно дикая какая-то. Как на такую взобраться? Это не простой тягун...
Солнышко давно укатилось на покой. Но было светло, на небе покачивалась луна, висела над самой вершиной горы, и Степанку казалось, что вот-вот сорвется она и покатится вниз по кривому склону прямехонько к нему под ноги.
Недалеко от дороги, у большой разлапистой сосны, шумели девчата. Оттуда доносились звуки гармошки, и Степанко старался понять, что такое играют на гармони. Понять было невозможно. Музыкант глухой, что ли: гармошка в его руках издавала только какие-то дребезжащие звуки: пики-вики, пики-вики-на! Пики-вики, пики-вики-бум! Вот и вся мелодия. А девчата все равно смеялись и даже озорно пели песенку.
Хотя и маловато сегодня протопал Сырчик, километров двадцать и прошел всего-то, а, остановившись у Косогора, не мог никак отдышаться. По всему видно, он больше не работник. Что тут делать? Если и дальше так ехать, то в Кудымкаре будешь только через неделю, никак не раньше, потеряешь немало золотых дней, когда надо пахать пар. А не ехать нельзя: груз-то не свой.
Да, дороженька, будь ты неладна. И зачем только природа создала такие горы? И почему с тяжелым грузом надо непременно взбираться на них, когда намного легче было бы с этим грузом спускаться вниз?
Все же Степанко на этот раз нюни не распустил. Он почему-то был уверен, что преодолеет и эту гору. Подрос, что ли? А может, возмужал за дорогу? Кажется так.
Час был поздний, мимо никто не шел и не ехал. Надеяться на то, что опять догонят мобилизованные, не приходилось. Ни души. Только под старой сосной пиликает гармошка, гырскает и звенит, как тупая пила по твердому суку: пики-вики, пики-вики-на!
Перестань, не трави ты душу, дай подумать человеку!
Да тут и думать-то нечего, тут действовать надо. Надо пойти к этим веселящимся людям, поговорить хотя бы.
Вспомнилось ему, как и сам когда-то наяривал на баяне, в такие же лунные вечера веселил лобановских девчат, подолгу не давал спать старым людям. Когда это было? Давно вроде, да ничего. Вот подойдет Степанко к веселящимся девчатам, возьмет в руки их гармошку да и поиграет, как оно раньше бывало. Сегодня семик. После скучных поминок молодежь выходит на околицу. Можно будет поиграть.
Степанко перебрался за канаву, недалеко от сосны распряг Сырчика, стреножил. Хорошо, что трава под ногами, — пусть пасется. И тужить тут совсем нечего. Вот придет он к девчатам и рявкнет: «Здорово живем-можем, ягодиночки!» Так Степанко и скажет без всяких там предисловий. Правда, стеснительный он человек, не умеет в чужих людях много разговаривать. Ну, да попытаться-то можно. По лбу обухом не хватят. Заложив руки за спину, покачиваясь, как и положено беззаботному гуляке, знающему себе цену, Степанко не спеша зашагал к сосне. Народу тут было немало, кажется, вся деревня вышла. Натолстой колодине, под самой сосной, сидят парнишки-недоростки, нахохлились пожилые бабы. Сидит тут и мужичок с давно не бритыми впалыми щеками. Одна его нога обута в огромный лапоть, а на месте другой — деревяшка. На краешке колодины сидела круглолицая девушка в сарафане и вышитой кофточке, держала на коленях гармонь. Она первая заметила Степанка, сразу же оборвала игру.
— Ох, девоньки, глядите-кось: еще один кавалер!
— Чур мо-ой, мой!
Степанко чуть было не повернул назад. Кровь так и ударила в щеки. Но выдержал характер, не побежал. Конечно, не так ухарски получилось, как думал, но смог и поздороваться. Девчата, будто отродясь не видели парней, бесцеремонно оглядели его, и, как это принято у них, зашушукались. А мужичок с деревяшкой тоже смерил Степанка взглядом, отодвинулся, освобождая ему место.
— Садись, милок, садись. Откуда и куда путь держишь? — спросил он. — Как тебя звать-величать? Не свататься ли к кому?
Степанко рассказал, как он очутился здесь, сообщил под конец:
— Упрямится мерин, не идет в гору, хоть убей.
— На заморенной лошадке, пожалуй, не осилить нашу гору, не-ет, — согласился мужичок. — Насквозь уже проклята-распроклята наша гора, до каждой песчинки ругана-переругана. Перед войной, когда еще машины бегали, шоферы перевертывались, аварии случались частенько. А сейчас ямщики последние жилы у лошадок рвут. Дикая гора. Так и в стихах написано.
Мужичок, по-видимому, сегодня тоже побывал на семике, тяпнул там пивка или бражки мореной. Хотя Степанко и не спросил, он сообщил охотно:
— А я здесь председатель. Сергеем Платоновичем кличут. А раньше проще звали — Сергеем Безногим. Сегодня вот праздничек себе устроили. Всю зиму и весну без роздыху трудились: то в лесу, то на станцию хлеб возили. А тут и сев. Опять ни днем ни ночью спокою нет. Но слава богу, отсеялись с горем пополам, сегодня посадили последнюю картошку. И порешили немного отдохнуть. Выдали людям муки из старых запасов, теленочка закололи. Повеселиться тоже надо.
Степанко против ничего не имел. Он задумался о своем. Умолк и председатель. Гармошка опять начала «пилить дрова».
— Да-а, живем! — поморщился вдруг председатель. — Праздник организовали. А гармониста-то нет. Слышишь, как она играет? Недаром сказано: без гармониста и свадьба не свадьба.
— Без гармошки какое веселье, — согласился Степанко. Не без задней мысли добавил: — Я вот всю дорогу жалею, почему свой баян с собой не прихватил. Когда сидишь на телеге да играешь на баяне, тогда и перезаморенная кляча приплясывая идет.
Эти слова Степанко произнес не свои — так говаривал когда-то отец, тоже неплохой гармонист. Не свои слова произнес Степанко, а попал в самую точку. Сергей Платонович так и встрепенулся:
— Так ты гармонист?! Ах ты каналья! Так чего ж ты, в самом деле? Да ты же... Маруська, эй, Маруська, Маруська, говорю! Перестань пилить бестолковщину. Подай-ка сюда инструмент!
Низкорослая и худенькая девчонка подала гармошку председателю, улыбнулась Степанку.
— Ты умеешь играть? — спросила тихо.
Парнишка не успел ничего ответить: председатель совал уже в его руки инструмент.
— Давай, парень, играй! Играй, играй, весели девчат!
Этого-то и добивался Степанко. Сейчас надо действовать умно, не продешевить. И Степанко сказал:
— Сыграть-то можно было бы, да не до веселья мне. В беду попал. Лошадка того...
— Играй, дьявол, и никаких! — рявкнул председатель. — Ты чего еще, это самое? «Лошадка, лошадка». Чья она, лошадка-то? Колхозная. Кому хлеб везешь? Солдатам. Нешто не поможем? Поможем! Ты только играй. Шпарь так, чтобы эхо прямиком в уши самому Гитлеру летело. Пусть, сатана, знает, как мы веселимся. Он, паршивая псина, наверняка думает, что смял нас. Дудочки! Играй — и никаких! Весели девчат. Они потом злее работают. Чуешь?
— Ладно уж. Чего не чуять?!
Степанко взял гармошку. Проверил басы, склонив голову над мехом, прошелся по всем голосам. Гармонь была старая-престарая, и не было у нее, видно, постоянного хозяина: истрепана, мех исшоркан, но голоса чудом не разладились, играть можно.
Председатель, бабы, все парнишки и девчата не спускали глаз с быстрых Степанкиных пальцев, и только после того, как полилась чудесная, такая знакомая мелодия, все облегченно вздохнули. Степанку стало весело, и он заиграл шуточную песенку:
| Вы куда шагаете, Почто нас оставляете? Как мы будем жить-страдать, Дни и ночи коротать? |
И не только девчата, но и пожилые бабы вдруг непроизвольно приосанились, повели плечами, выше подняли головы и заулыбались. Они дружно подхватили песню, председатель одной рукой похлопывал Степанка по плечу, другой безжалостно бил по своему колену, при этом не забывал на все лады хвалить гармониста:
— От сатана! От дьявол! Ну играй, парень, играй!
И Степанко играл. Девчата пели, а та, Маруся, восхищенно глядела Степанку в лицо. От ее взгляда почему-то было неловко, и Степанко еще ниже склонил голову над гармонью, закрыл глаза. А пальцы прыгали все бойчее и бойчее, вся деревня наполнилась переливчатыми звуками. Где-то скрипнули ворота, у кого-то хлопнула дверь. Из домишек выходили старики и старушки, шли к сосне.
Опираясь на длинную палку, приковыляла древняя сухая старуха, с ходу раздвинула толпу, спросила торопливо:
— Кто это играет, кто? О господи, не внучек ли мой, покойный Иванушко, вернулся? Он, сердешный, только один мог так играть-то! Не он? Господи, господи... Неужто ошиблась я, старая?
— Ошиблась, бабушка, ошиблась, — растолковал ей председатель. — Это лобановский зимогор в ямщину едет. Степанком кличут.
Старушка, вот уж совсем некстати, широко осенила свой лоб, затем благословила Степанка, стала слушать музыку.
Степанко снова, наклонив голову, закрыл глаза и начал новую мелодию.
| Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой... |
И почему-то многие тяжело вздохнули, у иных блеснули на глазах слезы. Кто знает, может, при этой песне девчатам вспомнилось, как они выходили когда-то с парнями на высокий берег. Где сейчас эти парни, как им живется-можется? Живы ли?
Кто знает, о чем взгрустнулось девчатам? Кто знает, как оно все было?
А Степанко все играл да играл. Он давно не брал в руки гармошку, сильно стосковался по ней и сейчас играл без устали. Когда песня была спета до конца, Степанко, подняв голову, вдруг увидел, что Маруся смотрит на него какими-то странно светящимися глазами. Сразу же, как Степанко заметил это, девчонка смущенно опустила взгляд. Степанко так и вспыхнул, заиграл снова. И только начал, как опять почувствовал, что Маруся смотрит ему в лицо. Такими глазами на Степанка смотрели впервые, и ему стало не по себе.
До самой полуночи играл на гармошке Степанко, до самой полуночи веселились озорные косогорские девчата. Над лесом и лугами плыли песни. Волнами ходило эхо. И только когда в деревне закричали горластые петухи, председатель сказал:
— Шабаш! Повеселились — и хватит. Завтра на работу.
Девчата растерялись на минуту, а затем, перебивая друг друга, заканючили:
— Сергей Платонович! Да что же такое?
— Да мы же еще не поплясали...
Председатель задумался на минуту. Действительно, не поплясали девчата. А ведь известно, во всех пермяцких деревнях девчата вечерами сначала поют песни, а под конец пляшут. Не нарушать же установившийся обычай. И он махнул рукой:
— А, лешак с вами! Пляшите хоть до утра, мелите бесову муку. Мне до вас дела нету. Степанко, играй!
— Степанко, сыграй, — попросила и Маруська. — Что-нибудь такое, легкое.
«Ну, если ты просишь, то придется сыграть, — мысленно ответил ей Степанко. — Только что бы такое? Где взять такое легкое?»
Жил когда-то в Лобане мужик, мастер на все руки. В будни он день и ночь сапожничал, шил людям шубы, дубил овчины и выделывал кожи. Работал мужик справно, а в канун каждого праздника напивался, выходил на улицу и распевал всегда одну и ту же песенку:
| Лешачина ты, прожженный мужик, Задрав ногу, по улице бежит. |
Рассказывали, будто эту песенку самолично сочинил он сам на камаринский лад, сочинил о себе самом, выкинув из народной мелодии одно колено.
Не сыграть ли его мелодию? Как раз на плясовую походит.
Степанко до предела растянул мех. Ухнули басы, зазвенели переливчато голоса. Девчата вышли в круг и ну же молоть «бесову муку»! Они кружились, близко собирались все вместе, резко расходились, толкли пермяцкую пляску «Крупу». Лихо плясали и пели ладно:
| Мой любимый, мой хороший, дорогой, Ты вернись героем-соколом домой! |
Одна толстенная деваха до того увлеклась, что стала плясать по-мужски, вприсядку. Но конечно, из этой затеи ничего не получилось. Плясунья запуталась в своем сарафане, широко взмахнув руками, шлепнулась на бок.
— Во-о, правильно, Оксинь! — усмехнулся председатель. — Сейчас встань да еще на другой бок!
Шутки, смех. С тем и разошлись по домам плясуньи. Благодарили Степана за хорошую игру, просили заглянуть к ним на чай. Маруська, когда подошла взять гармонь, сказала восторженно:
— Как ты играешь, Степанко, ох! Заходи к нам, а?
Председатель горячо пожал удалому гармонисту руку:
— Шибко ты хорошо играешь. Перебрался бы ты к нам на постоянное жительство. Я бы тебя, милый мой, лучше всех кормить стал. По рукам?
— Нет, что вы! Как это можно? — удивился Степанко. — Это совсем нельзя.
И ему живо вспомнилась мать. Вспомнились брат с сестрой.
Как они там?
НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Спотыкаясь, брел в село Белоево Сырчик. Степанко радовался: в селе он не пропадет. Кто-то подаст совет, кто-то расскажет-покажет, как быть дальше, — глядишь, все образуется.
Степанко ожил, широко улыбнулся белому свету, озорно погрозил кулаком невидимой вороне: не каркай, дьявол, мы пока не твои!
— Сырчик, милый ты Сырчик! Вот мы и добрались наконец! — радостно крикнул он.
Подвода, гулко стуча, миновала мост и подъехала к первой избе. Сырчик опять до земли поклонился дороженьке и стал. И тотчас Степанко уловил знакомые звуки: гырк-йирк, гырк-йорк. В избушке кто-то усердно бухал пестом в ступу, превращая охвостье или траву в мучную пыль. В другой избе, захлебываясь, кричал ребенок.
Везде одинаковая житуха.
Из той избы, в которой орал ребенок, вышел сухонький старичок. Приложив ладонь ко лбу, взглянул на солнышко, не торопясь побрел к Степанку:
— В город, что ли, катишь, стрижонок? — спросил незлобливо. — Э-э, да лошаденка твоя, гли, мордой землю пашет. Обессилела, что ль?
Степанко смолчал. Старик тоже не стал больше расспрашивать, молча и озабоченно обошел вокруг лошади, похлопал по ее костлявой спине, пошевелил косматую гриву и зачем-то, как цыган или меновщик, заглянул Сырчику в рот, в глаза.
— Не работник боле, обессилел мерин. Глаза пленкой подернуты, губы обвисли. А сердце так колотит, будто молот по наковальне. Ох-хо, беда. Не дойти ему до Кудым-кара, падет, — растягивая слова, говорил старичок и жалеючи поглядывал то на Степанка, то на Сырчика.
— Что же мне делать, дедушка? Важный груз везу, казенный.
— Конечно, казенный. Нынче, парень, все казенное возят. Война, ничего тут не попишешь. А лошаденка твоя обессилела. Беда.
Подошел к подводе белобрысый парнишка, тоже обошел Сырчика и, заложив руки за спину, сказал деловито, точно пожилой:
— Ладный был мерин, широкогрудый. И корпус — ого!
— Хороший корпус, — согласился старик. — Дать коню поотдохнуть хотя бы с недельку, накормить, как оно следует быть, так поработает еще. Ты, детинка, распряги ужо, пусть попасется.
— А груз не ждет...
Старик чесал у себя в затылке, ерошил бороденку.
— Подумать надо. Ты сходил бы до нашего местного начальства. Скажи там, в правлении, как оно приключилось. Так, мол, оно и так... Ужо... Э-э, да вон и само начальство сюда жалует. Марпида Петровна! Эй, Марпида Петровна, заверни-ка к нам, матушка!
Старуха-бригадир энергично махнула рукой, точно отогнала от себя надоедливых мух и, глядя на Степанка с высоты своего огромного роста, спросила:
— Вконец исшоркалась твоя скотинка?
— Вконец. Падает.
— И не мудрено. На дворе-то эка жарища. Дорога трудная. Тут и жеребец потом изойдет, не то что твоя худобина. Кожа да кости.
Если старичок и белобрысый парнишка первым делом по-хозяйски осмотрели лошадь, то Марпида Петровна сначала со всех сторон изучила Степанкину телегу. Большими кирзовыми сапогами она несколько раз пнула в колеса, проверила их крепость, точно шофер упругость баллонов, попробовала дроги и ящик, даже под передок заглянула.
— Кто у вас кузнец? — спросила Степанка. — Неужто он сам телеги мастерил?
— Сам, конечно, — ответил Степанко. — Хороший у нас кузнец. Дедушка Миколь. Любую машину может починить, детали сам кует.
 — Гляди ты! А у нас — стыд и срам. Ни одного мастера нет. Телеги все поразвалились, колеса рассыпались — починить некому, пришлось в город увезти, в артель. А когда там починят? Одному богу известно.
— Гляди ты! А у нас — стыд и срам. Ни одного мастера нет. Телеги все поразвалились, колеса рассыпались — починить некому, пришлось в город увезти, в артель. А когда там починят? Одному богу известно.
Оторвавшись от телеги, старуха долго в упор глядела сухонькому старику в глаза, укоризненно покачала головой:
— Совесть-то где у тебя, Евсеюшко? Куда я тебя нарядила, что делать велела? Забыл? У Крутого лога изгородь развалилась, залатать, говорю, требуется. Забыл? Ведь скотина там пасется.
— Иди, иду, Марпидушка. Хоть поясницу ломит, а все равно пойду, — заторопился старичок.
— «Поясницу ломит»! Меньше бы на печи лежал. Давай шагом марш!
Евсей, не говоря ни слова, побрел было от телеги.
Но грозная старуха тотчас остановила его, приказала вернуться.
— Что такое, Марпидушка?
— Через день-два на сенокос выходить надо, а на чем выйдешь? Косилка-то и новая, да большое колесо в прошлом году еще напрочь лопнуло. Из города позавчера сообщили: новое колесо-де в артели отлили, привезти надо. А на чем привезешь? Телег-то у нас нет, на дровнях не поедешь. Ты давай-ко, Евсеюшко, распряги у этого басурманина лошадку да уведи ее с собой к Крутому логу, пусть там пасется, клеверку маленько накоси. Понял ты меня или нет? Да живее, живее! Экой ты какой. Да присматривай там за лошадью. В случае чего, с тебя полный спрос. Да изгородь-то почини.
— Есть! — бодро ответил Евсей. — Лошадей я шибко люблю и все сполню, как следует быть. Меринку я сперва дам поостыть, затем напою чуточку водой, чтобы, значит, аппетит разыгрался, да и пастись пущу. И клеверу накошу. Все сполню.
Пока Степанко и Евсей распрягали Сырчика, грозное начальство беседовало с пареньком, все еще торчащим у телеги:
— А ты, зубастый дятел, чего без дела шляешься? Почему ты днем на улице разгуливаешь, а?
— Да ты позабыла, что ли, бабушка? Я же в сельсовете целую ночь дежурил. Сама посылала.
— Ну и что из того, что продежурил? Ночью дежурил, на скамье, как на курорте, храпел, а днем и поработать не грех. Ну-ко прихвати уздечки и сбегай на поскотину, приведи своих лошадок. Четвертый день там гуляют, пора и честь знать. Съездишь в город. Нет худа без добра, сразу двух зайцев и прихлопнем: горох будет доставлен и колесо на обратном пути привезете. Да еще в потребсоюзе побывай, стребуй у председателя литовки. Пущай двадцать литовок выпишет. Да так и передай ему: бабушка Марпида-де послала, пусть не артачится. Если не выпишет, сама спикирую на его голову...
— Бабушка, я же спать хочу, целую ночь дежурил.
— Спать хочешь, на печи поваляться? Да где у тебя совесть-то? Отец на войне уже два года с супостатом воюет, кровь свою проливает, может, целыми неделями не спит, а ты что? Ты, Опонась, прихвати сейчас же уздечки и делай то, что велела. А будешь самовольничать, так прямо здесь, на улице, спущу твои дырявые штаны да и не погляжу, что тебе четырнадцатый пошел, — крапивой, крапивой!
— Ну, набрела опять на свою молитву, — буркнул Опонась и, чтобы не слышать ответа старухи, быстрее побежал домой за уздечками.
Старый Евсей убрал в свою ограду хомут, седелку и повел Сырчика куда-то на Крутой лог. Степанко тоскливо проводил его взглядом, немного постояв, закрыл глаза. Жалко было оставлять друга, да что поделаешь. Старуха в это время ходила вокруг воза, несколько раз ткнула пальцем в тугие мешки, по-хозяйски поправила брезент, сползший в одну сторону, спросила у Степанка:
— Не трогал горох-то? То-то же! Не смей никогда трогать казенный груз. Нельзя. Ужо зайдем-ко в мою хоромину, угощу хоть простоквашей, что ли. В животе небось опять волки воют? Ох-хо! Жизнь ты наша расхудалая. И когда это проклятая война кончится?
СОЛДАТЫ БУДУТ СЫТЫ
Широко раскинулась лесная пермяцкая земля. Много на ней деревень и сел, вдоль и поперек изрезали ее большие и малые дороги. Из всех сел и деревень по трактам и проселкам в тяжелую военную пору двигались длинные обозы, одинокие подводы. На всех подводах был срочный военный груз: коми-пермяки отправляли фронту продовольствие.
Все вперед и вперед двигался по своей дороге молодой лобановский хлебороб Степанко. Ехал он сегодня на паре лошадей и радовался: горох будет доставлен по назначению. Помогла Степанку белоевская бригадирша. Марпида Петровна, мудрая старуха, не оставила в беде. Что и говорить, лошадки были тоже не ахти какие бойкие, но после тяжелого весеннего сева они паслись на воле уже около недели и сейчас, чтобы размяться, шли бодро, прядали ушами и тяжелую Степанкину телегу тащили как бы шутя.
Оставались позади километровые столбы, лесочки, холмы, деревушки, поля. На некоторых полях трудились бабы и старики: разбрасывали вилами навоз, готовили пашню под озимые. «Наверное, и в Лобане уже пахать вышли, — подумал Степанко. — Вот и я скоро вернусь...» Надо полагать, председатель Сидор Антонович Ошкоков закрепит за ним другую лошадь, пока Сырчик не поправится. На изморенной кляче много ли напашешь...
«Зубастый дятел» Опонась долго сидел, сопя носом, кажется, сердился на Степанка, из-за которого так нежданно-негаданно пришлось отправляться в дорогу, затем растянулся на мешках и захрапел.
Степанко оглядывался по сторонам, любовался с горы красивыми высокими холмами, причудливыми зигзагами речушек, которые были похожи на девичьи голубые ленты, нечаянно оброненные в зелени лугов.
Желая быстрее попасть в Кудымкар, он щелкал плетью, и дружные лошади под каждую горку пускались вскачь.
Был полуденный час. На дороге стали встречаться пешеходы, которые сегодня рано утром вышли из Кудымкара. Попадались навстречу порожняком идущие подводы: ямщики уже успели сдать свой груз в заготзерно и сейчас торопились домой. Встретился какой-то важный воинский начальник в желтых погонах, поскакал на большом вороном жеребце. Ничего себе конь, очень даже упитанный и сильный. Вот бы Степанку такого, вот бы попахал пашенку...
Чем ближе был Кудымкар, тем больше попадалось навстречу разного люду. Только Митюбаран не встретился, точно сквозь землю провалился.
Когда подвода поднялась на высокую гору, Степанко увидел впереди какую-то большую башню, высокую кирпичную трубу, увидел большие каменные строения. Впереди был Кудымкар. Степанко ткнул кнутовищем Опонася в бок, разбудил его.
— Ты чего? — уставился парнишка осоловелыми глазами.
— Город. Давай держи вожжи. Я ведь впервые здесь, не знаю, где заготзерно.
Степанко думал, что Опонась будет ворчать, но тот после короткого отдыха, как ребенок, ругаться и не думал.
— Ну вот, — сказал он. — Голова сразу полегчала. А утром так и звенела, точно чугун.
— А что же старушка-то говорит — на скамейке храпел?
— Похрапишь, как же! Всю ночь председатель работал и меня всю ночь гонял по деревням. Из города четыре раза звонили, все подводы требовали до станции. Прибыл, говорят, туда целый эшелон с ранеными, всех надо в кудымкарские госпитали доставить. Да еще приказали немедленно приступать к подъему паров, сенокос начинать. Поспишь, пожалуй, в сельсовете...
Когда они въехали в город, первое, что бросилось в глаза, — это военные. На каждом шагу встречались солдаты, офицеры в красивых погонах. По главной улице двигалась большая колонна: мобилизованные шли куда-то неровным строем, каждый тащил за спиной сидор. Рядом с колонной маршировал офицер, изредка поглядывал на строй.
В городском саду играла музыка.
— Концерт показывают мобилизованным, — сообщил Опонась. — Зайдем посмотрим?
— Что ты, что ты! Надо быстрей в заготзерно, — сказал Степанко.
Но ехать быстро никак не удавалось. Только успела та колонна скрыться за углом, а на главную улицу из узкого переулка выступила новая, за колонной вышел из того же переулка длинный обоз. На телегах сидели тоже мобилизованные, сидели женщины и девчата, провожавшие мужей и женихов на войну. Ямщики кричали на лошадей, бабы плакали, стоял невообразимый шум. У моста через Иньву образовался затор: с едущими на станцию смешались встречные подводы, тут же урчали автомашины — пришлось долго ждать, пока все не наладилось и не освободилась дорога.
— Вот это силушка прет! — удивился Степанко.
— Скоро Гитлеру будет карачун, — отозвался Опонась. — Скоро война кончится.
У складов заготзерна скопились подводы с хлебом. Тут же стояла длинная колонна автомашин, груженных мешками. Хлеб, хлеб... Мешки, мешки... Сколько их! Не сосчитать... У машин курили шоферы в военном, видимо, ждали команду выезжать на станцию.
Степанку казалось, что здесь его продержат очень долго. Как бы еще заночевать не пришлось... Подвод было много, когда их все разгрузят? Но не успел он зайти в контору, как рослая и широкоплечая женщина, чем-то очень похожая на бабушку Марпиду, остановила его у порога.
— Что привез? — спросила быстро.
— Горох.
— Откуда?
— Лобановский.
Женщина почему-то укоризненно покачала головой. Затем подозвала к себе безногого инвалида, приказала строго:
— Взвесь, Павел Федорович, груз у него. Да живее! Последнюю машину горохом загружаем.
Павел Федорович, высохший горбатенький мужичок, опираясь на суковатую клюку, вышел на улицу, велел Степанку подъезжать к весам, под навес. Был мужичок усталый, видимо, не спал уже несколько суток: глаза красные, небритые щеки запали. Но работал проворно. Помог Степанку сбросить мошки на весы, быстро наклал гири, затребовал накладную.
— Добро выходит, — сказал он. — Грамм в грамм.
Степанко радовался. Вот и сделано дело! Боевое задание выполнено. Сейчас можно отправляться домой, к своим. Ох и соскучились, наверно, Сашко и Симка! Наверно, и мать беспокоится, думает день и ночь: где Степанко, все ли ладно?
Павел Федорович присел к столику писать квитанцию. Он вынул карандаш, приладил копирку, еще раз взглянул в накладную и вдруг подозрительно посмотрел молодому ямщику в глаза, затем на мешки, бросил карандаш.
— Так ты лобановский? Постой, постой... Э-э... Много украл гороху?
Степанко так и вздрогнул, лицо залилось румянцем, он не мог вымолвить ни слова.
— Так, так, голубь. Ах ты, супоней!
С этими словами весовщик выскочил из-за стола, прихрамывая, побежал куда-то. Через минуту он вернулся с девчонкой. Она держала в руке длинный щуп, которым берут из мешков зерно на пробу. Девчонка тоже подозрительно и недружелюбно глянула на Степанка и, когда весовщик поставил мешки на попа, быстро взяла горох на пробу. Лаборантка ушла к себе, а Павел Федорович пробовал горошины на зуб, ссыпал их с ладони на ладонь, даже на свет посмотрел. Степанко не знал, что и подумать.
— Я, дяденька, не взял ни одной горошины, — вымолвил наконец.
— Ладно, ладно, сейчас все узнаем. Доподлинно уточним. Если взял — тюрьма, если нет — честь и хвала тебе. Приехал вчерась вечером из вашего Лобана один мазурик, так сперва тоже бился: «Не трогал, не взял». А когда произвели анализ...
— Кто такой? Митюбаран?
— Митькой вроде бы кличут. Слямзил, супостат, с полпуда, а в мешок налил воды и думает, так оно и надо. Горох разбух — даже весу больше первоначального стало. Но меня не проведешь. Не тот воробей. Разоблачили лешака.
Степанко тяжело опустился на весы, поник. Вот оно как получается. Из-за него, глупого барана, и на честного человека подозрение. А что, если анализ получится неверный? Девушка, надо полагать, еще неопытная лаборантка, запросто может все напутать...
— Где он сейчас? — спросил весовщика.
— А сушит горох-то. Вон там, за складами.
Худо все вышло, ой как худо! Митюбарану сейчас несдобровать.
Запыхавшись, прибежала девушка, подала кладовщику бумажку.
— Хороший горох, не испорченный, — сказала она.
Со Степанкиных плеч скатилась глыба. Он проворно завязал мешки и, когда весовщик выдал квитанцию, хотел тотчас убраться прочь. Но женщина-начальница крепко пожала ему руку, сказала важно:
— Молодец, парень. Вовремя успел. Горох сегодня же будет на станции.
— Молодец! — сказал и весовщик. — Не сердись, брат. Служба моя такая: все проверять надо. А что, Анна Ивановна, не выдать ли ему немного хлеба? По глазам вижу, голодный он. А дорога до дому — ой, ой! — сто километров. Как доберется...
— Ужо пусть зайдет в контору, выдадим сколько-нибудь.
В груди у Степана все пело. От волнения он не смог даже вымолвить ни слова. Знал одно: что бы там ни случилось, а городской хлеб привезет домой, угостит брата и сестру. То-то обрадуются, сопливые!
К навесу подошла машина, грузчики — раз, раз — побросали Степанкины мешки в кузов, и машина, тяжело урча, вышла обратно на дорогу. Пройдет несколько часов, и машины будут на станции. Там мешки перегрузят в вагоны и моментально довезут до фронта. Солдаты будут сыты.
Степанко ликовал.


КРАЙ МОЙ МИЛЫЙ
В. Баталов
КРАЙ МОЙ МИЛЫЙ

Перевел В. Муравьев
МОЯ РОДНАЯ СТОРОНА
Родные и любимые с детства места!..
Идешь через волнующееся на ветру поле, через лес или вдоль извилистого берега реки — и кружит голову свежий душистый воздух, а на душе радостно и светло. Тогда лучше думается, зорче видится, острее слышится.
Бродишь, бывает, с ружьем за плечами, думаешь, смотришь, слушаешь — и все замечаешь: и поваленный белкой гриб, и рассыпанный зайцем горошек, и светящиеся на солнце струйки паутинок, и кругами оседающий на дно прозрачной лесной речушки смородиновый лист, и синюю дымку над озерцом, и шорохи и звуки лесных и речных обитателей.
Подчас невольно остановишься — и захочется все это запомнить, сохранить навсегда в сердце.
И вот тогда присядешь на поваленную ветром суковатую валежину, достанешь из кармана блокнот и черкнешь в него несколько слов.
За годы у меня набралось много таких коротеньких записей, но я не придавал им значения.
А недавно открыл одну из этих потрепанных записных книжек и как будто заново пережил ту радость, которую доставляло мне виденное и слышанное когда-то, и захотелось мне поделиться с людьми этой радостью, рассказать всем о красоте и маленьких секретах природы моей родной пермяцкой стороны.
БЕРЕЗКИ
На крутом берегу Иньвы еще вчера стояла, возвышаясь над рекой, кудрявая и стройная осинка. Мне всегда казалось, будто она нарочно убежала из лесу от подружек и остановилась здесь, чтобы все ее видели и любовались ею.
Но сегодня ночью прошел бурный ливень. Вода в Иньве поднялась, подмыла берег, на котором росла осинка, и та, не удержавшись, опрокинулась в реку.
И вот печально висят над водой ее голые корни, а под водой, в глубине, чернеет увядшая листва.
Высушит солнце корни, течение занесет илом ветви и ствол, и никто уж не вспомнит про осинку.
А чуть повыше, на том же берегу, тесной кучкой, словно дружные сестры, растут пять березок.
Каждый год весной талые воды бьются об их корни, вымывают комья земли, но корней у березок так много, они так крепко переплелись между собой и так широко разрослись в стороны, что никакой воде не подмыть этот берег и не свалить их.
Пусть шумят ливни, пусть бурлят воды — у дружных березок хватит сил выстоять. Они вырастут большие, густые и будут долгие годы весело шуметь листвой.
ХОРОВОД ПЕРНАТЫХ
Как-то раз весной уже под вечер на краю обширной поляны я наткнулся на сооруженный кем-то из еловых веток шалаш и заночевал в нем.
Ночь была тихая и теплая. Вокруг — ни звука, как будто все в лесу замерло, объятое глубоким крепким сном.
Вдруг где-то вдали расколол тишину таинственный урчащий звук: «Тур-тур-р... ж-жж... ф-ф-р-р-р...» И снова тихо. Потом возле самого шалаша послышался свист, хлопанье сильных птичьих крыльев и то же урчание: «Гуд-гуд, тур-тур-р...»
Близилось утро. Из своего шалаша я довольно ясно различал в предрассветном полумраке опустившихся на поляну больших черных тетеревов с яркими красными бровями. Вытянув шеи, развернув веерами хвосты и волоча по земле распущенные крылья, они важно кружились в неторопливом хороводе и, словно выхваляясь своим нарядом один перед другим, вздыхали, урчали, пришепетывали: «Чу-уфф-фыш-ш! Гуд-гуд-гуд... Тур-тур-р... Чу-уфф-фыш-ш!»
Сойдутся два тетерева-красавца клюв с клювом и заспорят, кто сильней и красивей. Поворчат, а потом — в драку.
Но вскоре общий ритм хоровода снова подчиняет себе драчунов, и они, забыв недавнюю ссору, опять кружатся вместе со всеми. А над лесом еще громче несется торжествующее: «Гуд-гуд-гуд!.. Тур-тур-р!..»
НАХОДЧИВОСТЬ
В первых числах апреля к нам, как обычно, прилетели скворцы. Они заняли все приготовленные для них скворечники, быстро освоились, и с раннего утра до позднего вечера в селе звенели их весенние песни.
Завтракать и обедать птицы улетали на проселочные дороги и полевые проталины, уже появившиеся кое-где по южным склонам.
Через неделю погода испортилась. Теплые солнечные дни сменились холодными, с ветрами, снегопадами, метелью. Застыли ручейки, черные заплатки на полях покрылись снегом — все побелело. Опять наступила зима.
Скворцов теперь было не видать и не слыхать. Они не пели больше на крышах домов и на деревьях, не летали веселыми стайками на дороги и поля. Лишь изредка на миг чуть высунется из какого-нибудь скворечника черпая головка и тут же спрячется.
Рыбакам же холод оказался на руку. На Иньве застыла толстая наледь, можно было опять заняться подледным ловом.
На озере возле села рыбаки пешнями пробивали проруби, лопатами доставали со дна озера ил, промывали его в ведрах и выбирали красных вертких червячков — личинок комаров, малинку. Малинка у нас считается лучшей зимней насадкой. Да только разве в мутной воде выберешь всю малинку? Выплеснешь воду из ведра на лед, а потом глядишь — на льду извиваются десятки мелких червячков...
На берегу озера на голой березе висел скворечник. Один скворец долго и внимательно наблюдал за работой рыбаков. Он выглядывал из скворечника, вертел головой, видимо стараясь понять, чем тут занимаются люди.
Я выплеснул из ведра на лед мутную воду с илом и перешел к другой проруби. Только я отошел, как вдруг скворец слетел на лед и стал бродить в грязной воде, поклевывая всплывших червячков.
Наверное, убедившись, что возле проруби пищи хватит на всех, скворец улетел в село. Вскоре на озеро опустилась стайка пернатых гостей.
Так и кормились скворцы на озере до тех пор, пока опять не потеплело. Догадались ведь, где можно поживиться!
«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
Эта могучая ель как будто нарочно выросла на холме, посреди открытого поля, словно в лесу ей не хватало простора, света и воздуха.
Снизу на несколько метров у нее идет обычный ствол, а потом он разветвляется, и дальше тянутся вверх уже семь макушек — целая рощица от одного корня.
Люди любовно прозвали эту ель «мать-героиня».
СТАРАЯ БЕРЕЗА
Упала большая старая береза. Долго росла она посреди поляны, шелестя зеленой листвой весною и летом, золотясь осенью, окутываясь инеем и снегом зимою. А теперь состарилась, не стало у нее сил противостоять ветрам, сломилась она и упала в мягкий, влажный мох.
Высох ее ствол, береста на нем полопалась и завернулась, а нижняя сторона, обращенная к земле, отмокла и почернела.
Но вокруг упавшей березы зеленеют несколько молоденьких побегов — это ее корни вышли на поверхность и дали ростки.
Пройдет немного времени. Старая береза сгниет, а маленькие березки подрастут, и встанет на полянке целая березовая рощица.
Значит, не умерла старая береза!
НОЧНАЯ РАДУГА
Если бы мне раньше сказали, что ночью можно увидеть радугу, я бы не поверил.
Но, оказывается, можно, и я сам, своими глазами однажды увидел ее.
В тихую летнюю ночь мы с товарищем коротали время у костра на берегу реки. Неожиданно надвинулась туча и затянула все небо. Пошел мелкий, но сильный дождь. Мы спрятались в шалаше.
Через некоторое время я выглянул из шалаша. Дождь почти перестал, но туча еще не рассеялась. И вдруг я увидел нависшую над рекой крутую радугу, только была она не разноцветная, а молочно-белая.
Тогда я вылез из шалаша и огляделся кругом. На востоке, низко над горизонтом, среди черных рваных туч появился просвет, и в него краешком выглядывала луна.
Я стоял под моросящим дождем и любовался этим чудом — светящейся во мгле ночной радугой.
ФАКЕЛ
Красный диск изнемогшего вечернего солнца отражался в спокойной, неподвижной реке. Солнце остановилось над притихшими печальными ивами — оно словно нарочно медлило, словно хотело наглядеться перед закатом на свое отражение.
Но тут налетел ветерок, по водной глади побежали мелкие волны, отражение солнца дрогнуло, расплылось и вдруг заиграло, запылало, точно живой зажженный факел.
И тогда показалось, что печальные ивы, обогретые нежданной лаской, улыбнулись.
РОЗОВЫЙ БАРАШЕК
Вечерние сумерки, выползая из темной чащи, окутывают поляны.
Солнце уже совсем скрылось за лесом, и только его последние лучи освещают одно маленькое облачко, плывущее высоко в чистом небе.
Сейчас оно похоже на розового барашка, отбившегося в этот поздний час от своего стада, отставшего и заблудившегося.
А солнце манит его за собой, будто не хочет оставлять одного на ночь.
ТИХИЙ ШОРОХ
Я пошел в лес за сушняком и неожиданно набрел на небольшую полянку. Кто-то срубил здесь несколько елей, увез их, а обрубленные сучья свалил в кучу между пеньками. Я обрадовался неожиданной находке и хотел уже связать сухой хворост в вязанку и возвращаться домой. Но вдруг слышу тихий шорох.
«Наверное, ящерица грелась на солнышке, — подумал я, — увидела меня и убежала».
Шорох повторился. Я заглянул в середину кучи: там, среди сучьев, в сухом травянистом гнезде сидела большая серая глухарка и смотрела на меня блестящими глазами-бусинками.
Она высиживала яйца и не улетела, потому что боялась обнаружить гнездо.
Я потихоньку попятился назад, подумав: «Ладно, наберу хворосту где-нибудь в другом месте».
РОДНИК
Обычно я возвращался с рыбалки полем.
Но как-то раз свернул с знакомой тропинки и пошел через болото. Здесь идти было и дольше и трудней, но зато прохладней.
Солнце стояло высоко. Короткие прозрачные тени от низкорослых деревьев и кустов прятались в густой жаркой траве и терялись между кочками.
Мне очень хотелось пить, но воды нигде поблизости не было.
И вдруг я услышал тихое журчанье, как будто бежал ручеек. Я остановился, прислушался. Вода журчала где-то совсем близко.
Рядом рос низкий густой куст смородины. Я приподнял одну склонившуюся до земли ветку с широкими листьями и гроздьями красных ягод. Несколько спелых смородин шлепнулось в воду.
Под веткой оказалась наполненная прозрачной водой небольшая круглая ямка.
Было видно, как посредине ее светлым столбиком пробивается тоненькая струйка, перекатывая по песчаному дну мелкие разноцветные камешки. Из ямки вытекал узенький ручеек и через несколько шагов пропадал, уходя в землю.
Я жадно прильнул губами к холодной воде, а напившись, снова прикрыл родничок веткой смородины.
Теперь я всегда возвращался с реки этим путем и каждый раз останавливался у родничка.
Но однажды я увидел, что кто-то обломал куст, втоптал вокруг траву, каблуком ступил в ямку, наполненную светлой водой, смешал воду с грязью...
После этого я уже никогда не сворачивал с тропинки на болото, и до сих пор мне грустно, когда вспоминается затоптанный родничок под смородиновым кустом.
СОСНА В НЕБЕ
За широким прудом возвышается крутая гора.
По ее склонам, карабкаясь и боязливо оглядываясь вниз, лепятся карликовые сосенки, изгибаются ели, стелется низкорослый верес.
Но чем выше, тем реже зелень и обширнее голые песчаные обрывы — видно, ни у сосенок, ни у елей и вереса не хватает сил и решительности взобраться на вершину горы.
И только одна-единственная коренастая сосна с кроной, похожей на шапку, горделиво стоит на вершине, открытая всем ветрам и высокому солнцу.
Сегодня утром над прудом висит туман. Он закрыл всю гору. Но вверху, над туманом, в небе, по-прежнему гордо вырисовывается сизо-зеленая шапка сосны.
Остановился, склонил перед ней голову: а у меня хватит ли решимости и сил вот так же, не страшась высоты, подняться на головокружительную кручу?
ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Шел дождь. Лесные дали скрывались в белесой мгле.
Но вот на горизонте за темно-синей тучей показался узкий желто-лиловый просвет. С каждой минутой он увеличивался, а туча, становясь из синей свинцово-серой, быстро уплывала на восток.
Последние капли дождя отбили барабанную дробь по крышам, выглянуло солнце, а среди леса, выступившего из мглы, тут и там столбиками поднялись белые дымки, будто одновременно зажглись десятки костров.
Это затерявшиеся в глухой тайге невидимые поляны и озерца курились после дождя, возвращая небу влагу.
ЖУРАВЛИ
Был серый осенний день. Все небо затянули низкие облака. Я лежал на поблекшей, остро пахнущей траве под березой, и береза тихо осыпала меня желтыми листьями.
Вдруг откуда-то с вершины послышались печальные трубные крики: «Курлы-курлы, курлы-курлы...»
Журавли!
Посмотрел на небо — никого, только серые облака. А щемящие сердце крики все ближе, все громче.
Тут я заметил, что среди облаков непонятно каким чудом вытаяло голубое окошко и через него проплыл узкий клин журавлей.
Птицы снова скрылись за бегущими облаками, а я лежал под березой и думал: «Как все вокруг обычно — и темно-красные гроздья брусники, и зеленый мох, и желтая береза. А отними у меня это — и заболит, затоскует сердце...»
Как понятна мне ваша тоска, журавли, ваше печальное «курлы-курлы»...
КОВЕР
Я шел берегом Кувы, направляясь к хорошо знакомой мне тихой заводи, заросшей темными водорослями. Туда обычно кряквы спускались на кормежку.
Лес еще красовался в своей осенней одежде, но порывистый ветер срывал с деревьев лист за листом, и разноцветная листва летела, кружилась, металась по земле.
Осторожно подошел к заводи, осторожно раздвинул тесно разросшийся ивняк — и замер от восхищения.
Я ожидал, что увижу холодную дегтярно-черную воду, а передо мной расстелился яркий, цветистый, искусно вытканный, сказочно красивый ковер.
И мне захотелось броситься на него и в восторге, как мальчишке, покатиться по нему, кувыркаясь через голову.
А красные, желтые, темно-зеленые, бурые листья все падали и падали, и ковер расцветал новым, еще более прекрасным узором...
ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
Как-то глубокой осенью я ловил с лодки окуней на блесну.
Утро было ясное. В спокойной воде пруда отражались прибрежные пихты и ели, на вершинах которых дремали, нахохлившись, вороны.
Высоко в небе черной точкой маячил ястреб, высматривая добычу.
Одна ворона снялась с ели и медленно полетела через пруд к деревне. Ястреб сложил крылья и камнем бросился вниз.
Через миг ворона пронзительно закричала и забилась в его острых когтях.
Но тут проснулись все вороны на пихтах и елях. Подняв страшный шум, они со всех сторон окружили ястреба.
Начался настоящий воздушный бой. Вороны били ястреба крыльями, клевали его, а хищник, не выпуская добычи, тяжело взмахивал крыльями и только увертывался от ударов.
Вороны смелели, все яростнее становились их атаки. Наконец ястреб не выдержал и разжал когти.
Покалеченная ворона, часто взмахивая крыльями, полетела к берегу, а вся стая с громким криком погнала ястреба далеко за пруд.
ВЕРНАЯ ПРИМЕТА
Пока стоит теплая погода, на нашем пруду редко когда увидишь диких уток. Они здесь не гнездятся и залетают лишь случайно. Живут же они в густых зарослях у лесных речек и озер.
Однажды темным осенним вечером мы с дедом Ефимычем проходили по плотине. Смотрим — на пруду видимо-невидимо водяной дичи: белогрудая чернедь, сизокрылые кряквы, серые шилохвосты, юркие чирки.
— Что это они тут все собрались? — удивился я.
— Похоже, перелет северной морской утки начался, — ответил Ефимыч. — Они, брат, без барометра погоду чувствуют. Знать, завтра холод наступит. А может быть, и снег первый выпадет.
— Да вроде бы еще рановато... — усомнился я. — Первые-то холода со снегом у нас обычно во второй половине октября бывают. А сейчас ведь только начало...
— Примета верная, — сказал Ефимыч.
Наутро, проснувшись, я выглянул в окно: улица и крыши домов были запорошены ярким белым снегом.
ВЕРНОСТЬ
Утром подул порывистый северный ветер. Завывая, кружил он между голыми деревьями. Сразу похолодало.
Я шел по тропинке мимо озерца.
Почти всю его поверхность затянул гладкий лед. Только посредине еще оставалась широкая полынья.
Ветер морщил в полынье воду и от края к краю перекатывал легкие волны. На волнах покачивались две утки-кряквы — серая уточка и черноголовый селезень.
«Все птицы давно улетели. Почему же эти остались?» — думал я.
Я свернул с тропинки к озеру. Утка взлетела, сделала над озером круг и опустилась на прежнее место, рядом с селезнем, который тяжело шлепал по воде крыльями и вытягивал шею. Видимо, он был ранен и не мог летать.
Через неделю я снова попал на то же озеро. Теперь его покрывал сплошной лед. Посреди озера виднелись две черные точки. Я подошел к ним — это были те самые кряквы, уже окоченевшие и вмерзшие в лед. Головка утки лежала на шее селезня.
Я долго стоял над ними, и грусть сжимала мое сердце.
А над озером завывал холодный ветер...
ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ
С вечера моросил дождь, а ночью небо прояснилось, и к утру похолодало.
Ранним утром я шел по лесной тропинке. Под ногами хрустела заиндевелая трава, шуршали опавшие листья. Взошло солнце, и стоявшая у тропинки березка, вся усыпанная капельками воды, загорелась и засверкала, переливаясь всеми цветами радуги, как чудесная хрустальная люстра.
Чтобы не попасть под холодный дождь, я, прежде чем пройти под березкой, осторожно встряхнул ее. Но ни одна капля не сорвалась с голых веток, и лишь послышался легкий звон: первый утренний морозец превратил блестящие бусинки воды в прозрачные ледяные хрусталики.
Я пошел дальше, а по обеим сторонам тропинки искрились и переливались на березах звонкие люстры.
СРЕДИ ЗИМЫ
Однажды в конце января бродил я с ружьем по реке Куве. Здесь, в густых ивняках, обычно держатся зайцы. Глубокий снег давно покрыл землю, на деревьях не осталось ни одного листочка, и в промерзших черных ветвях замерла всякая жизнь.
Но, переходя реку, я неожиданно увидел невысокий ивовый куст, весь усыпанный пушистыми, словно скатанными из ваты, комочками, вылезшими из лопнувших шоколадных почек: ива цвела.
Не часто увидишь такое в январе среди снега и льда.
Я в удивлении остановился: в чем дело?
Потом удивился еще больше. Я очень хорошо помнил, что летом этот куст вроде бы рос не здесь, а выше, на самом краю крутого берега.
И тут понял: наверное, осенью, во время обильных дождей, берег обвалился, и вместе с глыбой земли ива сползла в реку. Потом наступила зима. Мороз сковал реку льдом, а корни ивы оказались в воде. Вода же зимой теплее воздуха, и вот, чувствуя тепло, корни погнали по стволу живительные соки, и ива, не дожидаясь весны, расцвела.
ЭХО
Почти целую неделю, не переставая, а лишь то затихая, то усиливаясь, лил дождь, и казалось, что конца ему не будет.
И сегодня на рассвете все еще моросит. Омытая обильной влагой пойма Тимшора в молочной дымке отливает свинцовым блеском.
Спросонок залаяла в деревне собака, а за рекой до глубины бескрайней пармы прокатился ответный лай, словно там тысячи лаек напали на хищного зверя.
Красавец петух взлетел на изгородь, задрал голову, прокричал густым басом свое «ку-ка-ре-ку» и тут же, склонив голову набок, прислушался. И опять в застывшей тишине на десятки километров кругом отчетливо рассыпалось тысячеголосое эхо.
Вышел на крыльцо из дома старый охотник и тоже прислушался, а потом одобрительно проговорил:
— Ишь ты, эхо-то-какое горластое! Не то что вчера. Значит, быть сегодня хорошей погоде.
НОВОЕ РУЖЬЕ
Василий подзаработал на сплаве и купил новое ружье.
Узнав об этом, тимшорцы в первый же день пришли к нему посмотреть покупку. Все любовались ружьем: двухствольное, бескурковое. Во всем Тимшоре ни у кого такого нет.
— Вот это штука, — внимательно разглядывая ружье, восхищались мужики. — Не чета нашим курковкам.
Василий хвастливо поглаживал ладонью поблескивающие стволы:
— Из одного ствола промажешь — стреляй из второго.
Только лучший в Тимшоре промысловик дед Ипат почесал седую дремучую бороду и как бы между прочим сказал:
— А все равно Васька больше других не добудет...
Это тоже все знали, потому что успех на охоте зависит не столько от ружья, сколько от самого охотника.
Так и получилось. Сколько Василий ни ходил со своим новым ружьем в лес, почти всегда возвращался домой без добычи.
И никто уж больше не восхищался его новым ружьем.
СНЕЖНЫЕ АРКИ
От лесного поселка извилистой лентой тянется в глубь леса зимняя автомобильная дорога. По ней с делянок вывозят хлысты на берег Тимшора. По бокам сплошной стеной тянется лес.
Вперемежку с елями, соснами и пихтами, одетыми в теплые белые полушубки, стоят березы. В темном хвойном лесу им не хватает солнечного света, тепла, поэтому они торопливо тянутся кверху, стремясь перерасти соседей.
Березы вытянулись высоко, но истончились так, что не каждая из них теперь в силах выстоять прямо. Подует ветер — береза наклонит макушку и потом уже не может подняться.
Многие березы склонились когда-то над лесовозной дорогой, да такими и остались. За зиму они обросли толстым слоем снега. Едешь по дороге и глядишь: над головой то тут, то там повисли причудливые снежные арки.
УКРАШЕННАЯ ЕЛКА
На поляне росла невысокая стройная елка. А чуть поодаль, как бы окружив ее, стояли березы, тополя, осины, черемухи. Я много раз проходил мимо этой елки, не обращая на нее никакого внимания, — елка как елка.
Но в один ясный день поздней осени она заставила меня остановиться.
С деревьев, росших вокруг, один за другим осыпались продолговатые и круглые, желтые и багряные листья.
Некоторые из них падали на елку, застревали между острых зеленых иголок и оставались висеть, словно новогодние елочные игрушки.
И мне показалось, что лес украшает елку специально для меня.

| У11. У нас на Иньве: Легенды, рассказы и повести коми-пермяцких писателей / Пер. с коми-пермяцкого; Сост. В. Климов; Рис. А. Мошева. — Москва.: Дет. лит., 1981. — 224 с., ил. — Для среднего и старшего возраста. Тираж 100 000 экз. Цена 50 коп. Сборник знакомит с творчеством коми-пермяцких писателей разных поколений. ИБ № 4407 Ответственный редактор Э. О. Умеров. Художественный редактор Т. М. Токарева. Технический редактор Г. Г. Рыжкова. Корректоры И. В. Козлова и М. Ю. Мерперт. |

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1390; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
