ГОСПОЖЕ ПРОФЕССОРУ В ЗАЩИТУ ЧЕСТИ МОЕГО КОТА И НЕ ТОЛЬКО
Мой отважный помощник, портативный тигр,
Сладко спит, привалившись к компьютеру,
Знать не зная, что вы оскорбили его племя.
Кошки играют с мышкой, с полудохлым кротом.
Но вы не правы: не из жестокости.
Просто любят они всё, что движется.
В конце концов, ведь только сознание
Может на миг перетечь в Другого,
Сострадать мышкиной боли и панике.
Каковы кошки, такова и Природа.
Равнодушна, увы, к добру и злу.
Что создаёт для нас, боюсь, кое-какие проблемы.
Есть у естественной истории свои музеи,
Но зачем нашим детям заучивать чудовищ,
Ящеров Земли за миллионы лет?
Природа пожирающая, Природа пожираемая,
День-мясник и ночь дымящейся крови.
Кто это создал? Не всеблагой ли Господь?
Да, безусловно, они невинны –
Пауки, скорпионы, гадюки, акулы.
Мы одни произносим слово: жестокость.
Из всего муравейника бледных галактик
Только мы с нашей совестью и сознанием
Рассчитываем на человечного Бога.
Не может же Он не сочувствовать и не сознавать,
Не может же не быть вроде нас, движущихся, тёплых,
Ибо мы, как Он нам сказал, Ему подобны.
А коли так, то Он пожалеет
Каждую растерзанную мышку,
Каждую раненую птичку.
Вселенная для Него вся – Распятие.
Вот как ваш выпад против кота
Вызвал богословскую, в духе Августина, ужимку.
С нею нам трудно ходить по этой земле.

|
|
|
Лех Людзонцы (поляк)
ЧУШЬ КОШАЧЬЯ
Отчизна!
Взамен журавлиного клича
в темнеющем небе тревожно мурлыча,
несётся на юг треугольник котов,
распластанных в воздухе лап и хвостов.
Проносится тень по заснеженным кровлям,
наш край обескровлен, он обескотовлен,
остался лишь дыма распущенный хвост
да пара зелёных прищуренных звёзд.
По белому свету несу свою чушь я,
но тёплой заморской лазури милей
мне пепельно-палевые подбрюшья,
пушистое небо отчизны моей.
Фернандо Пессоа (португалец)
КОТ, ИГРАЮЩИЙ НА МОСТОВОЙ
Играющий на мостовой,
кот, я хотел бы быть тобой,
поскольку нету у тебя
того, что мы зовём судьбой.
Не ощущающий себя,
поскольку нет в тебе «себя»,
ты делаешь, что жизнь велит,
мурлыча чаще, чем шипя.
Ах, кот! ты рад, что ты никто,
а я грущу, что я никто,
не я, а пустота в пальто,
и эта пустота болит.
ОБ АВТОРАХ
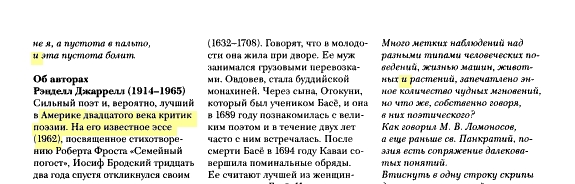
Рэнделл Джаррелл (1914-1965) Сильный поэт и, вероятно, лучший в Америке двадцатого века критик поэзии. На его известное эссе (1962), посвящённое стихотворению Роберта Фроста «Семейный погост», Иосиф Бродский тридцать два года спустя откликнулся своим пространным размышлением о том же стихотворении в эссе «О скорби и разуме» (1994). Ещё одно стихотворение Джаррелла с упоминанием кота относится к циклу о смерти на войне («Потери», «Смерть стрелка-радиста» и «Смерть ведомого» в переводах А. Сергеева и Р. Сефа можно найти в антологии «Современная американская поэзия», Москва, «Прогресс», 1975). Джаррелл покончил жизнь самоубийством через двадцать лет после окончания войны, а стихотворение примерно такое:
|
|
|
НАВОДЧИК
Вроде взяли меня от жены и кота.
Доктора потыкали мне под рёбра.
Остальное как-то неясно, дробно.
Вроде мухи жужжали. Но где? Когда?
Истребителей и прожекторов суета.
Коричневатая корка бинта.
Орудийная башня темна, как спальня.
Вырастает взрыва посмертная пальма.
И это всё? И конец войне?
И конец света? И конец мне?
А жене мою пенсию не мышами ли дали?
А вручили коту мои медали?
Вопрос знатокам творчества Бродского: как это стихотворение отразилось в стихах русского поэта? Ответ: сравнение взрыва с пальмой встречается у Бродского в стихотворении «Война в убежище Киприды» (1974).
Каваи Чигецу-ни (1632-1736) Но по другому источнику менее впечатляющие даты жизни: (1632-1708). Говорят, что в молодости она жила при дворе. Её муж занимался грузовыми перевозками. Овдовев, стала буддийской монахиней. Через сына, Отокуни, который был учеником Басё, и она в 1689 году познакомилась с великим поэтом и в течение двух лет часто с ним встречалась. После смерти Басё в 1694 году Каваи совершила поминальные обряды. Её считают лучшей из женщин- поэтов круга Басё. Некоторые из её хайку действительно замечательны даже в переводе. Та, что включена в нашу кошачью антологию, или вот эта, написанная вскоре после смерти мужа:
|
|
|
Сплю одна.
Всю ночь мужской голос
комара.
Огден Нэш (1902-1971)
Если это стихи, то где же в них размер? Ведь, как знает каждый школьник,
Стихи – это ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий, ну, на худой конец – акцентный стих или дольник.
А здесь просто строчки произвольной длины, скреплённые парною рифмою!
Даже основательно память перерыв мою,
Не могу припомнить ничего подобного; ну, разве что русский раёк,
Каким на ярмарке заманивали в ларёк,
Стих ярмарочных зазывал, бродячих кукольников и продавцов всякого хлама.
Раёк (раёшник) – самая демократичная форма словесного искусства, фольклор, но одновременно и реклама.
|
|
|
Кстати, и Огден Нэш начал свой трудовой путь с работы в рекламном агентстве «Даблдей, Доран и Ко»,
Где, «даблдействовал» (его слово) до тех пор, пока не сообразил, что сочинять рекламные тексты неприятно и трудно, а писать стихи приятно и легко.
В его текстах много комического, сатирического, философического и политического,
Много метких наблюдений над разными типами человеческих поведений,
жизнью машин, животных и растений,
запечатлено энное количество чудных мгновений,
но что же, собственно говоря, в них поэтического?
Как говорил М. В. Ломоносов, а ещё раньше св. Панкратий,
поэзия есть сопряжение далековатых понятий.
Втиснуть в одну строку скрипы двуспальных кроватей,
хрипы римских разбойников, несущиеся с распятий,
рассуждение в духе Токвиля о сравнительных достоинствах монархий и демократий –
это и есть (предвещающий современный рэп) способ Нэша для извлечения из скуки и ужаса жизни лиризма.
Всё это дело скрепляется рифмой – иногда остроумной, иногда хулиганской, а если слова в рифму не находится, то Нэш сам выдумывает слово в качестве заменизма.
В общем, лучше не скажешь об Огдене Нэше на самом деле,
Чем теми словами, которыми сам он сказал о великом романтике Перси, как бишь его, Шелли:
Кто-то сказал о Шелли, что он был
прекрасный и беспомощный ангел, который, ломая светозарные крылья, тщетно бился в оковах холодной пустоты и не мог вожделенную свободу обресть,
И этот прекрасный поэтический образ, несомненно, делает автору честь,
Но, должно быть, он означает попросту, что все мы – одна большая семья,
И что бедняга Шелли толкался в двери, где было ясно написано «к себе», и тщетно тянул на себя другие, где было написано «от себя» – в точности так же, как вы и я.
Однако поставим вопрос ребром: а кто наш Нэш?
Как говорят в Украине, хоть глыбже копнэшь,
нема у нас Нэшу. Вот и чеши плешь.
Хотя, если дело не в длине строк, а в демократическом сплаве лирики и сатирики, то иногда в стихах Владимира Уфлянда, Тимура Кибирова и Игоря Иртеньева
Мне чудится не то, что Нэш, а покачивающаяся, словно навеселе, длинная тень его.

Райнер Мария Рильке (1875-1926) В одном романе Д. М. Томаса герой сидит на международном симпозиуме и слушает доклад японца. Японец докладывает по-английски и все говорит: «Лирке... Лирке...» «Рильке?» – наконец перебивает англичанин. «Я и говорю, Лирке», – отвечает докладчик. Возможно, и не стоило печатать этот перевод, потому что он мне не нравится. С одной стороны, он довольно-таки точен, близок к оригиналу. И выбор поэтической идиоматики вроде бы верный – под раннего Пастернака: повышенная аллитеративность, инверсированный синтаксис и проч. (Пастернак, как известно, и в поэзии, и в прозе, и мировоззренчески испытал очень сильное влияние Рильке). Сохранен размер, пятистопный хорей с эффектными пропусками схемных ударений, и схема рифмовки оригинала Х5: АbАb в первых двух строфах и Х5: АВСАdеВеСd в длинной третьей (в оригинале чуть по-другому: АВСАdEВEСd – «deine-Augensteine», там где «шипя-себя»). Вот эта беспорядочная рифмовка и раздражает русское ухо. Попробовал я перевести и хотя бы одно из знаменитых кошачьих стихотворений Бодлера: тоже не больно-то получилось. Лишь изредка, случайно, в переводе можно воссоздать нечто сходное с оригиналом, а вообще не доверяйте моим переводам и не доверяйте изящным томикам на книжной полке, на которых кириллицей напечатаны имена: Рильке, Бодлер, Оден и т. п. В лучшем случае вы найдёте в них два-три стихотворения, напоминающих оригинал. Остальное – результат вдавливания фарфоровых изделий в слишком тесную коробку. Хотя наши переводчики советской школы здорово научились всё это дело подклеивать и подкрашивать. Под маркой переводов выпущены за годы советской власти километры гладкой версификации.
Друг моей молодости, уже тогда известный переводчик, однажды получил необычайно выгодный, при построчной-то оплате, заказ: перепереть для собрания сочинений бесконечно длинную поэму Вальтера Скотта. Снёсши перевод в редакцию и отпраздновав крупный аванс, он проснулся с неприятной мыслью: не перепутал ли чего в строках:
«"Вперёд!" – вскричал мятежный Трент,
Его вспоил кипучий Брент».
Трент-Брент – кто рыцарь, а кто река? Может быть, надо было:
«"Вперёд!" – вскричал мятежный Брент,
Его вспоил кипучий Трент»?
Кристофер Смарт (1722-1771) Учёный и литератор, в возрасте тридцати пяти лет тронулся и затем шесть лет провёл в психушках. Помешательство его было относительно безобидным — в многолюдных местах, как-то: на улицах, площадях, общественных парках — им овладевало неудержимое желание вознести молитву, что он и проделывал на потеху уличным мальчишкам и смущая знакомых. Впрочем, д-р Джонсон по этому поводу сказал: «Я столь же охотно помолюсь с Китом Смартом, как с кем бы то ни было», — и это незамысловатое высказывание стало крылатым, как и все высказывания д-ра Джонсона. В год выхода из больницы (1763) Смарт опубликовал своё самое известное произведение — «Песнь Давиду». Поэма прославляет псалмопевца и всё творение. Она построена по мистико-математическому принципу чередования групп из трёх-пяти и семи строф. По поводу этого весьма сложного произведения поэт Уильям Мэйсон, друг и покровитель Смарта, сказал: «Как был ненормальным, так и остался». Другая, с не меньшим размахом задуманная поэма «Jubilate Agno» имеет подзаголовок «Песнь из дурдома», ибо в скорбном заведении была начата и осталась неоконченной. Если к этому добавить, что она написана ифонально (диалогически), то напрашивается сравнение с «Горбуновым и Горчаковым». Переведённый нами отрывок очень знаменит, часто включается в антологии. На русском имеется более профессиональный перевод Г. Кружкова.
Джимми Клиффорд (р. 1937) Сын более известного поэта, Джеймса Клиффорда, погибшего в конце Второй мировой войны. Его положение в современной английской поэзии двусмысленно. Вот характерные высказывания критиков: «То, что он [Джимми Клиффорд] делает, это, конечно, не поэзия, но некоторые стихотворения так искусны, что отличить их от настоящей поэзии не представляется возможным…» или «Он [Джимми Клиффорд], несомненно, наш лучший поэт сегодня, что говорит о нынешнем уровне нашей поэзии». Вот ещё одно часто антологизируемое стихотворение Джимми Клиффорда, хотя, должен признать, что мне вряд ли удалось хотя бы приблизительно воспроизвести словесную находчивость и элегантную конструкцию оригинала.
Грубо, но верно (К.К.К)
Итак, пока ещё пуста
и терпит белая бумага,
вот и запишем: «Смерть – п…да».
Влагалище? И вход, и влага!
Конечно, не за край земли –
в дыру, в нору, в прореху мира
уходят важно корабли,
покачивая кормила.
Сказать по правде, никогда
назад не ждёт их пароходство.
Вбирает луч в себя звезда.
В туннель уходят поезда.
Нет, смерть, конечно, не п…да,
но удивительное сходство.
Исса (1763-1827) Сирота, из простонародья.

Чеслав Милош (р. 1911) Я познакомился с ним в 1977 году на приёме, устроенном в его честь, в доме одного эннарборского профессора. Мы проговорили, по-русски, минут сорок – о Бродском, о Шестове, о полономании моего поколения. Это ужасный моветон – узурпировать почётного гостя: хозяин дома давал круги вокруг нас, бросая на меня всё более выразительные взгляды, но я «окоченел от наслажденья», как тот чеховский дьячок, который впервые в жизни дорвался до чёрной икры. Действительно, ничто не доставляет такого наслаждения, как следовать за развитием сильной мысли, неожиданной, но, каким-то чудесным образом, простой. Впрочем, когда вспоминаешь сходное впечатление от публицистики Оруэлла или дневниковой прозы Шварца, возникает неуверенность: может быть, не простой, а доброй? или это одно и то же?
Лех Людзонцы О нём нам известно только, что его стихи, наивная смесь хрестоматийности и сюрреализма, печатались в детских и юмористических журналах в шестидесятые и в начале семидесятых годов. Некоторое однообразие названий – «Небылица», «Вот так так!», «Ну и ну!», «Просто чепуха» и т.п. – заставляет предположить, что они присобачивались редакторами. Когда-то мы перевели ещё одно стихотворение, заставляющее предположить знакомство молодого поляка с ранним творчеством Иосифа Бродского:
ЧУШЬ СОБАЧЬЯ
Когда заляжет дом, как зверь,
и месяц с неба смотрит хмуро,
и лестниц спит клавиатура,
и в дрёме западает дверь,
и в наших лампах нет огня,
и наш огонь в камине тухнет,
и газ с водой храпят на кухне,
и веры нет в спасенье дня,
и засыпает в небе дым,
и спят в раю усопших души,
и мы в своих постелях спим,
тогда не спят собачьи уши.
Кто-то из польских знакомых сказал нам, что, кажется, Лех Людзонцы в середине семидесятых эмигрировал в Израиль. Никто из израильских знакомых о нём не слышал.
Фернандо Пессоа (1888-1935) В очередной раз прочитав где-то почтительное упоминание о Пессоа как об одном из главных модернистов, я спросил у Бродского, что он думает о португальце. В ответе Иосифа прозвучала симпатия, но он мало что прояснил. Что-то о просиживании дней за столиками в лиссабонских кафе, странностях и стихах, которые «заворачиваются сами на себя». Я не понял этот невнятный оракул, но догадался, что Пессоа в воображении Бродского – одна из жизненных ипостасей всегда волновавшего его лирического героя: одинокого писателя, коротающего заурядную жизнь клерка в портовом городе, знававшем лучшие времена. Кавафис в Александрии, Саба в Триесте, Пессоа в Лиссабоне. Таким Иосиф однажды увидел самого себя в зеркале венецианского пансиона: «Совершенный никто, человек в плаще». Надо сказать, что отсутствие Себя в себе было центральной темой Пессоа. Октавио Пас в очерке о жизни португальского поэта распространяет безличностность Фернандо Пессоа на всех поэтов вообще. Нельзя сказать, что он делает это более внятно, чем Бродский: «Нереальность мира в последнем свете дня. Всё застыло, всё выжидает. Теперь поэт знает, что у него нет личности. Как эти здания, почти золотые, почти реальные, как эти деревья, повисшие во времени, он тоже снимается с якоря, покидает себя. Другой, двойник, настоящий Пессоа не возникает. Он не возникает никогда: другого нет. То, что возникает, навязывает себя, свою инаковость, безымянную, невысказанную, но вызванную нашими бедными словами. Это и есть поэзия? Нет, поэзия – то, что осталось и утешает нас, сознание отсутствий». Настолько Пессоа был не уверен в самом себе или порой уверен в отсутствии Себя, что публиковал стихи под именами вымышленных поэтов. Один, названный Альваро де Кампосом, был язычник и футурист, а другой, Альберто Каейро – строгий классик. Потом он ещё придумал для Каейро ученика – Рикардо Рейса. Рикардо со временем, естественно, взбунтовался против учителя. Иногда Пессоа печатался и под своим настоящим именем, Фернандо Пессоа, поскольку фамилия Пессоа по-португальски значит «персона», от латинского регsоnа – «маска».
«Новый очевидец» № 12, 2004

Лев Лосев – поэт, филолог. Живёт в Америке. Защитил докторскую диссертацию по филологии на тему «Эзопов язык в современной русской литературе». Профессор славистики Дартмут-колледжа (Нью-Хэмпшир) университета штата Вермонт. Автор семи книг стихов. В «Новом очевидце» на стр. 70 публикуется поэма Льва Владимировича «Наши кошачьи дела».
Дата добавления: 2020-12-12; просмотров: 66; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
