Конец ознакомительного фрагмента.
Ллойд Арнольд Браун
История географических карт
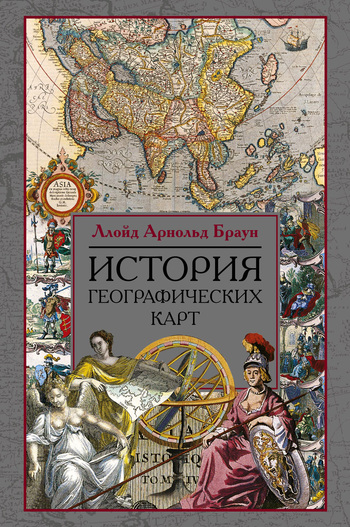
Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=606705&lfrom=236997940
«История географических карт»: Центрполиграф; Москва; 2006
ISBN 5‑9524‑2339‑6
Аннотация
Исследование Ллойда Арнольда Брауна охватывает период с середины II тысячелетия до н. э., когда вавилоняне ввели в обиход кадастровую съемку – составление планов земельных владений для расчетов налогов, – до XX века, увенчавшего историю картографии созданием подробной карты Земли. Автор рассказывает о том, как люди осознали необходимость изображения мира, какими инструментами и методами пользовались путешественники и ученые для составления сначала примитивных, а затем все более точных и всеобъемлющих карт.
Ллойд Арнольд Браун
История географических карт

Навигационная карта Ла‑Манша и побережья Англии от Плимута до Веймута 1583 г. Из первого тома морского атласа «Зеркало мореплавания» (1584) Лукаса Вагенера
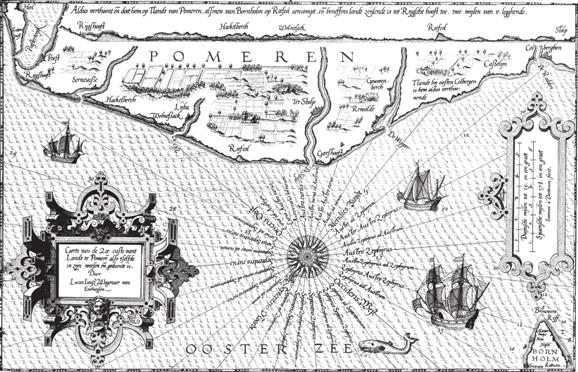
Навигационная карта Балтийского моря, северного побережья Польши (в то время часть Померании) и датского острова Борнхольм, ок.1583 г. Из второго тома морского атласа «Зеркало мореплавания» (1585) Лукаса Вагенера. (Карта ориентирована юго‑востоком кверху.)
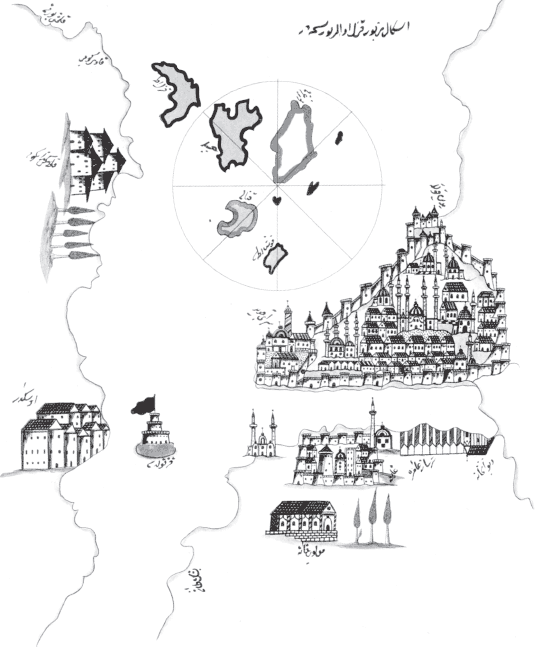
Город Константинополь смотрит на юг в сторону Мраморного моря. Эта рукописная карта из турецкого морского атласа «Виды островов Средиземного моря» была изготовлена в 1526 г. в Галлиполи
Введение
Перед вами история карт – людей, которые их делали, и методов, которыми эти люди пользовались. Мы мало что знаем о них самих и о сложных путях, какими попадала к ним необходимая информация. До сих пор ничего подобного этой книге не издавалось, хотя в последние семьдесят пять лет неоднократно звучали заявления о том, что мир начинает испытывать к картам все больший интерес. К несчастью, заявления эти отражали скорее не действительное положение вещей, а благие пожелания небольшой группы ученых и коллекционеров, которые – поколение за поколением – неустанно изучали и новые, и старые карты. Однако в последние пять лет это утверждение, пожалуй, приобрело реальный смысл.
Когда в 1939 г. в Европе начались военные действия, все сколько‑нибудь заметные коллекционеры карт в США и за рубежом быстро почувствовали к себе острый интерес; были тщательно обшарены даже некоторые небольшие и малоизвестные частные коллекции. Выяснилось, что мир и правда уже картирован целиком, но как?! И устаревшие сухопутные и морские карты далеких забытых островов, лагун, плато и дорог в джунглях внезапно превратились в строго охраняемые ценности. Конечно, весь мир к началу войны был уже нанесен на карту; и тем не менее что‑то здесь кардинально было не так. На каждую местность можно было найти какую‑нибудь карту (хотя масштаб их зачастую оказывался слишком мелким для реального военного применения); но при этом театр военных действий почему‑то далеко не всегда этой карте соответствовал. Потребовалось немного времени, чтобы понять, что толковой карты всего мира все же не существует. О причинах этого нам может рассказать история.
Недавняя мировая война вызвала к жизни новый интерес к карте мира. Несмотря на то что многие наши политики по‑прежнему склонны к изоляционизму, огромный незнакомый мир, с которым нам пришлось совсем недавно столкнуться, уже сомкнулся вокруг нас. Наш интерес к нему – уже не праздный интерес сторонних наблюдателей; это интерес людей, которым пришлось осознать, что карта мира – это наша карта, и нам пора узнать о ней побольше.
История картографии не была написана раньше по нескольким причинам; причины эти не новы, они приложимы к любому историческому исследованию такого рода. Роберт Гук (1635–1703), английский физик и «экспериментальный философ», в написанном для друга «Предисловии» сформулировал их точно и лаконично:
«Мало кого из тех, кто много знает, можно убедить в том, что им известно нечто, чем стоит поделиться с другими, а поскольку эти вещи для них обычны и хорошо известны, они склонны считать их таковыми и для остальной части человечества; такое предубеждение нанесло много вреда в этом отношении, как и во многих других, и первым делом нужно от него избавиться. Есть другие, те, кто ясно осознает собственные знания, и все же по недостатку ли способности хорошо писать, желания компилировать, или времени изучать и перерабатывать, или из‑за скромности и страха появиться в печати, или потому, что они считают, что знают недостаточно для целой книги, или просто потому, что им не предложили или не попытались их красноречиво убедить, пренебрегают этим; другие так долго тянут с этим, что в конце концов забывают, что собирались сделать. Таких людей, если проявить настойчивость, можно вынудить раскрыть свои знания; для этого нужно найти подходящих людей, которые разговаривали бы с ними и задавали вопросы, а потом составляли бы из их ответов историю».
Существует и еще несколько причин, которые забыл упомянуть Роберт Гук. Достоверного биографического материала для истории картографии, особенно в дохристианские времена, очень мало; вследствие этого целые главы книги, охватывающие столетия развития человеческой мысли, получились довольно безликими, если не туманными. Приходится полагаться на рассказы о людях и их творениях, попадающие к нам через вторые‑третьи руки, причем зачастую это просто фрагменты, которые копировались и пересказывались уже много раз. Иногда все, что у нас есть, – это слухи и сплетни современников. К примеру, Страбон пишет, что Посидоний говорил, что Аристотель, еще по чьим‑то словам, написал… Эти разрозненные данные ни в коем случае не способны удовлетворить душу истинного ученого. К тому моменту, когда он закончит взвешивать все за и против и сравнивать варианты кодексов, которыми располагает, он, более чем вероятно, увязнет где‑то в Средневековье и достигнет пенсионного возраста, чувствуя, что заслужил отдых. Или же, оценив доступные данные, предпочтет совсем ничего не писать, нежели полагаться на такие недостоверные свидетельства.
В настоящее время литература по истории картографии состоит из бесконечных статей, монографий и более длинных исследований, посвященных какой‑нибудь одной личности или периоду истории. Эти работы пишут люди, у которых достаточно времени и энергии на рассмотрение отдельного небольшого пункта или главы, но не хватает либо времени, либо желания для того, чтобы провести исследование, охватывающее пять с лишним тысяч лет, и рассмотреть биографии и произведения бесчисленных представителей всех без исключения слоев общества.
Таким образом, чтобы составить однотомную историю картографии, необходимо ограничить себя прямой и более или менее узкой тропкой и держаться поближе к пути прогресса, лишь намекая на боковые ходы – как, например, перечисление многочисленных факторов, сдерживавших во все времена научное познание мира. Необходимо также обладать смелостью, чтобы с уверенностью говорить о высокой степени культурного развития той или иной части человечества, даже если свидетельства этого не настолько ясны и прозрачны, как хотелось бы. Через века до нас дошло достаточно упоминаний, намеков и случайных замечаний, чтобы предположить, что записи сохранили не все; и в самом деле, было бы глупо считать иначе. Например, в четвертой книге своей «Географии» Страбон пишет, что в прежние времена жители Массалии владели немалым числом кораблей, «а равно оружия и инструментов, полезных для навигации и при осаде городов». Мы можем, конечно, предположить (как делают некоторые историки), что эти средства навигации не представляли собой ничего особенного, что это были грубые приспособления, поскольку такова культура этого периода и т. д. Или мы можем оставить вопрос открытым и справедливо задуматься: а насколько далеко, собственно, зашли финикийцы в отношении компаса, астролябии и других средств навигации? Я предпочитаю оставить вопрос открытым. Опять же, Страбон упоминает, что халдейский астроном Селевк говорил о неравномерности приливов в определенных местах при разных фазах Луны. Таким образом, Селевку приписывается решение загадки или открытие закона, который управляет суточной неравномерностью приливов в Индийском океане. Страбон просто упоминает об этом вскользь, чтобы проиллюстрировать какое‑то другое свое утверждение. Но у нас есть все основания задуматься: а что еще мог Селевк знать о Вселенной? Имеем ли мы право считать, что это его единственный вклад в науку? Напротив, несколько сотен подобных небрежных ссылок на менее яркие события заставляют соблюдать максимальную осторожность, говоря о датах открытия и изобретения чего бы то ни было.
Заявка на приоритет всегда важна для автора, даже если область его исследований не обещает выгод денежного характера. Но если мы, как историки, говорим о достижениях людей, живших две или три тысячи лет назад, то вопрос приоритета становится чисто академическим. Следует учитывать также, что та область знаний, к которой относится изобретение или открытие, была известна, возможно, гораздо более широко, чем нам кажется. Знаниями по астрономии, например, даже в очень древних цивилизациях владел, по всей видимости, каждый; это знание передавалось из поколения в поколение или изустно, или в записях жрецов. Поэтому известные всем факты о небесах считались не более достойными специального упоминания, чем восход солнца или тот факт, что в пустыне много песка.
Заявки на приоритет у некоторых авторов включают в себя сотни ученых слов; обычно они порождают критические дискуссии, а те, в свою очередь, вносят существенный вклад в копилку наших знаний о прошлом. Однако в случае исторической картографии они чаще всего только затуманивают картину в целом. Как раз в такой интеллектуальный тупик попали историки несколько лет назад в связи с Аристархом. Дело в том, что Архимед, более молодой современник Аристарха, сообщил, что последний написал книгу гипотез (ныне утерянную), одна из которых заключалась в том, что Солнце и «неподвижные» звезды действительно неподвижны, а вот Земля обращается вокруг Солнца по круговой орбите. Таким образом, он предвосхитил гипотезу Коперника на несколько сотен лет. Астрономы, включая сэра Томаса Хита, восприняли эту заявку на приоритет Аристарха с философским спокойствием, и дело на том и остановилось, пока Дж. В. Скиапарелли, еще один первоклассный ученый, не опубликовал сперва две работы, а потом еще и третью. Он провел собственные исследования и пришел к выводу, что Гераклид из Понта то ли сам изобрел, то ли позаимствовал у более раннего автора систему Вселенной, которую мы связываем обычно с именем Тихо Браге; высказывал он также и гипотезу Коперника. Это уже была очень важная заявка, и Хит не смог смолчать. Он написал целую книгу, где на 424 страницах заново рассмотрел всю историю греческой астрономии вплоть до Аристарха; в это исследование вошли также новый перевод трудов этого астронома и критический разбор всех известных текстов. Исследования обоих авторов достойны высочайшей похвалы, но оба они ограничились рассмотрением одного‑двух пунктов длинной истории. Авторы, писавшие об истории картографии, часто ограничивали свои исследования таким образом и по тем же причинам. Именно этим, отчасти, объясняется тот факт, что полной истории картографии до сих пор не существует.
Если биографических данных и первичных текстовых источников мало, то во много раз сложнее отыскать сами карты. Даже самые значительные из них, послужившие предметом письменных дискуссий между греческими философами, до нас не дошли. Карты и глобусы изнашиваются; существует множество свидетельств тому, что несчетное их количество было уничтожено просто по небрежности и безразличию. Но есть и другие причины, по которым оригинальных карт так мало, а в хронологической последовательности их развития зияют такие широкие прорехи.
Древние карты предназначались в первую очередь для путешественников, солдат и моряков. Путешествия же в те времена были делом опасным. Транспортные средства, если они и существовали, не отличались комфортом. При этом состояние дорог, вплоть до расцвета гражданского строительства в Риме, не позволяло почувствовать даже те скромные удобства, которые способны были предоставить грубый фургон или повозка с окованными железом колесами. Разбойники на дороге встречались настолько же часто, насколько редкими были придорожные гостиницы; вследствие этого множество «путевых рисунков», дорожных карт и путевых заметок истлели возле дорог рядом с телами владельцев. Пожары, наводнения и кораблекрушения тоже внесли свою лепту.
Материалы, которые использовались при изготовлении сухопутных и морских карт и глобусов, также способствовали их уничтожению. До сих пор еще не обнаружено ни одного материала или носителя, который был бы пригоден исключительно для изготовления карт. Известно, например, что по крайней мере два короля – Карл Великий, император Рима и король франков, и Роджер, король Сицилии, – приказали изготовить карты на серебряных пластинах. Может быть, такие изделия и не могли заинтересовать слуг и солдат‑завоевателей с точки зрения географии, но серебро!.. Медь и бронза представляли собой едва ли меньшее искушение. Бронзовые глобусы Архимеда и его современников стали естественной добычей охотников за блестящим металлом. Или, как предположил один автор, из полого металлического глобуса, распиленного пополам, получились два превосходных походных котла для армии вторжения. Свинец можно перелить в пули; из пергамента и кожи получатся неплохие пыжи или отличный прочный переплет для книги. Если карта стара и никому не нужна, а пергамента не хватает, то можно соскрести старые чернила и использовать лист для новых записей[1]. Подобная практика привела к утрате не только ценных карт, но и множества других произведений; одно время в связи с нехваткой материала для письма она приобрела такой размах, что в 691 г. был выпущен специальный декрет, запрещающий портить и уничтожать таким образом любые части Священного Писания и творения Отцов Церкви.
Часть карты, известная как Пейтингерова таблица – редкий образец римской картографии, – была обнаружена в качестве форзаца в одной из книг городской библиотеки Трева – города, который считают древнейшим германским городом. Еще один фрагмент римской карты Испании, высеченной на камне, был обнаружен в стене аббатства Святого Иоанна возле Дижона во Франции. В качестве строительного материала камни с надписями годятся нисколько не хуже, чем гладкие камни без лишних царапин. Как‑то раз торговец рыбой неподалеку от Британского музея обнаружил, что в пергамент, хотя и испорченный старыми чернилами и краской, рыбу заворачивать лучше, чем в промасленную бумагу. Прежде чем власти схватили изобретательного предпринимателя за руку, немало редких рукописей успело разойтись по лондонским кухням, а оттуда по мусорным корзинкам.
Большие карты всегда неудобно было хранить в разложенном и раскрытом виде, поэтому их часто складывали, а многие переплетали как книги. В результате этой практики тоже было утрачено множество важных картографических документов. При частом складывании и разворачивании карты изнашивались, а если карта оказывалась достаточно прочной и выдерживала подобное обращение, то резак небрежного или безразличного переплетчика часто приводил если не к полному уничтожению карты, то к утрате ее фрагментов.
В начале христианской эры и в течение следующих двенадцати столетий или около того только очень храбрые люди или язычники осмеливались пускаться в географические рассуждения. Пытаться разгадать тайны Вселенной тогда считалось если не грехом, то, по крайней мере, проявлением нечестивости. Объяснения церкви относительно Земли и небес, как и изготовленные под присмотром духовенства карты, были достаточно неопределенными, чтобы устроить всех, кроме самых скептических наблюдателей природных явлений. Поэтому если рукописи – как духовного содержания, так и языческие – можно было коллекционировать открыто, то карты приходилось делать украдкой, изучать втайне, а во многих случаях поспешно уничтожать.
Уничтожением карт занимались не только еретики и варвары, то есть не только те, кто на тот момент являлись врагами. Кажется, испокон веков считается, что самая лучшая карта – последняя, независимо от того, кто ее составлял и какой район она охватывает; на самом деле это часто не так. Бывает, что оригинальную карту составляют по результатам тщательной съемки, а более поздние красивые экземпляры представляют собой торопливые неточные копии, изготовленные с единственной целью продать побольше и повыгоднее. К несчастью, старые карты при появлении новых обычно перестают использовать или просто уничтожают, хотя бывали случаи, когда при помощи «устаревших» давно забытых карт выигрывались военные кампании. Это остается правдой и в наши дни.
Если не считать коммерческих изданий, предназначенных исключительно для развлечения или обучения, карты (и сухопутные, и морские) всегда были окружены атмосферой тайны и загадочности. Она играла не последнюю роль в их уничтожении и одновременно сдерживала распространение географических знаний. Иногда карты опасно было иметь. Уже по самым ранним из сохранившихся записей ясно видно, что карты всегда рассматривались как ценный источник информации. Если сосед зарится на твоего вола или осла, на твой скрытый амбар или тайный источник соли, на твой ларец с сокровищами или гарем, то неразумно оставлять на виду свиток папируса, на котором показано точное местонахождение твоего добра. Пусть вор вынужден будет сам провести рекогносцировку, прежде чем устраивать налет на дом. Так, образцов кадастровой съемки, которую проводили «геометры» Древнего Египта, не сохранилось. Не исключено, что все они были уничтожены членами тех же семей, которые и заказывали съемку.
Изначально карты ассоциировались не только с приключениями и интригами, но и с военной разведкой. Карты – хоть империи, хоть отдельного города – являлись потенциальными источниками информации для неприятеля, а потому тщательно охранялись. Расположение дорог и судоходных рек, по которым армия может подойти к городу, расположение военных объектов, таких как арсеналы, казармы, водопроводы, верфи и общественные здания, – всей этой информацией не следовало без необходимости делиться с враждебным миром. По этой причине римский император Август сначала приказал провести детальную съемку своей империи, а потом спрятал все карты и связанные с ними материалы в глубочайших хранилищах своего дворца. Он разрешил выдавать только частичные копии – и то лишь по настоянию своих советников – генералам, отправляющимся на войну, и школам провинций для образовательных целей. Домициан, говорят, сурово наказал одного из своих советников за неосторожное распространение информации, содержавшейся на этих картах, а из более поздней истории нам известно множество примеров того, что люди расплачивались за подобные предательские преступления жизнью. Сегодня дело обстоит примерно так же. В морской истории любой страны можно найти множество легенд о секретных навигационных картах и судовых журналах. В критической ситуации все эти конфиденциальные и информативные документы считались важнее груза, самого судна и безопасности экипажа. Одна из дошедших до нас историй повествует о верном карфагенском капитане, чье судно преследовала и перехватила римская эскадра. Чтобы не позволить римлянам захватить судовой журнал и карты, которые давали ключ к выгодной карфагенской торговле, он погнал корабль на скалы и утопил весь экипаж. Когда же сам он наконец добрался до дому, его встретили как героя. И это отнюдь не единичный случай.
Старая испанская традиция утяжелять карты, не говоря уже о судовом журнале и шифровальных книгах, свинцом, чтобы их можно было мгновенно утопить, до сих пор популярна и вполне эффективна, если неприятель пытается подняться на борт судна. Практика такого рода, вкупе с общим нежеланием государственных деятелей и правителей копировать и распространять карты, тоже сказалась на их количестве. Историкам остается только догадываться о том, какие именно карты существовали и что на них было изображено. Часто о том, что та или иная карта была изготовлена, приходится узнавать из вторых или третьих рук; о ее содержании можно судить в лучшем случае по слухам.
С начала испанского исследования Нового Света – буквально с первого путешествия Колумба – все сухопутные и морские карты Нового Света помещали для хранения в архив Севильи; с них делали только по нескольку копий для самых надежных испанских капитанов. Ни одну из оригинальных карт великих исследователей не разрешили выгравировать и издать, поэтому сегодня практически все подлинные документы, имеющие отношение к Колумбу, Кортесу, Магеллану и множеству других, по разным причинам утрачены – вероятно, навсегда. От великих морских экспедиций до нас дошли только карты, составленные совсем другими людьми по разрозненным запискам, которым удалось ускользнуть от бдительного внимания испанцев и португальцев. Например, англичанин по имени Роберт Торн заслужил себе место в истории тем, что сумел тайком вывезти из Севильи карту и отчет по Вест‑Индии; вероятно, он скопировал их с секретных источников в королевских архивах. Торн отослал документы своему соотечественнику доктору Эдварду Ли, послу Генриха VIII при дворе императора Карла, с предупреждением. «Также эту карту и то, что я пишу… – говорилось в письме, – не следует никому показывать или передавать изустно… Ибо хотя в этом нет ничего предосудительного в отношении императора, все же это может причинить неприятности тому, кто ее сделал: как из‑за того, что никому не позволено делать эти карты, кроме специально назначенных доверенных мастеров, так и потому, что им может прийтись не по вкусу, что чужак узнает или обнаружит их секреты: а хуже всего будет выглядеть, если поймут, что я пишу касательно короткого пути к пряностям по нашим морям».
Карты, не предназначенные для публичного распространения, незаконно приобретали не только представители иностранных держав. Такой товар всегда пользовался спросом, ведь карту нового торгового пути или подробный план новооткрытой гавани можно было выгодно продать. Палата по делам Индий, основанная при короле Фердинанде, призвана была служить благородной цели: собрать в одном месте всю информацию, имеющую отношение к семи морям, чтобы испанские моряки, занятые поисками новых морских путей в Новый Свет и на Восток, могли пользоваться самыми лучшими картами. Но человек слаб, а деньги говорят громко. Информацию придерживали и продавали на сторону; португальское золото весило не меньше испанского.
Испанские власти выкупали и уничтожали целые тиражи книг и карт, если в них говорилось или показывалось что‑то лишнее; автора или издателя конфиденциальных карт ждала уютная камера или небольшая машинка. В XVI в. настоящие испанские карты любой части Америки были ценным морским призом; французы и англичане охотились за ними не меньше, чем за золотыми слитками в корабельных трюмах. Один такой бесценный приз достался английскому искателю приключений и флибустьеру Вудсу Роджерсу[2]. Крейсируя по поручению кое‑кого из бристольских купцов вдоль побережья Перу и Чили, он захватил несколько карт, которые оказались настолько «горячими», что их срочно выгравировал и издал в Лондоне Джон Сенекс. Другие страны, особенно те, что вели или пытались вести какую‑то морскую торговлю, время от времени грешили такой же жаждой знаний; действия, которые они предпринимали ради овладения этими знаниями, точнее всего описываются словом «пиратство».
* * *
История науки – это всегда история избранной группы людей, которые не боялись ошибиться. Во все времена больше всего за ошибки критиковали картографов – тех, кто пытался изобразить мир. Сотни увесистых томов заполнены доказательствами того, как сильно ошибались Птолемей, Делиль или Митчелл. На каждую страницу текста, написанную пионерами картографии, на каждую карту, составленную ими, приходится не меньше тысячи страниц критики, написанных людьми, которые сами не способны были ошибаться, так как никогда не осмелились бы выставить свои мысли на суд критики и рискнуть неудачей.
Да, все без исключения ранние картографы ошибались – великолепно ошибались, точно так же, как ошибался Колумб, когда считал, что высадился на побережье Азии; как ошибался Гаррисон, делая свой первый хронометр; как ошибался Эдисон, когда использовал в своей лампе накаливания бамбуковое волокно вместо вольфрама. Замечательные достижения древних ученых, не говоря уже о личностях этих людей, затерялись в тумане критических комментариев и нудных словопрений. И все же среди людей, рисовавших картину мира, были живописные фигуры, принадлежавшие к самым разным слоям общества. Некоторые из них были мудрыми и многоумными учеными: астрономами, математиками, физиками и натуралистами, людьми высоких идеалов и способностей. Другие были военными, местными бюргерами, речными лоцманами, религиозными подвижниками, торговыми моряками и изобретательными негодяями. По большей части они вели интересную и насыщенную событиями жизнь; судьбы некоторых были откровенно трагичны. Кое‑кто выстраивал аферы, фальсифицировал данные и скрывал информацию, ставя на кон жизнь, состояние и даже империи. Некоторые подвергались остракизму за свои радикальные взгляды на Вселенную, другие умирали, пытаясь их защитить.
Сегодня картина мира получена – в некотором смысле, – и эта книга рассказывает о том, как это было сделано, с упором скорее на методы и инструменты, нежели на конечный продукт – сотни тысяч изготовленных карт, представляющих столетия проб и ошибок. Каждая старая карта – сама по себе история; часто она включает в себя всего понемногу: немного фольклора и философии, немного искусства, хорошего и плохого, и чуть‑чуть научных фактов. В большинстве из них довольно ошибок, чтобы порадовать любого критически настроенного человека; вследствие этого множество отдельных карт было подробно описано критиками, что привнесло в общую картину ценные фрагменты информации. Но как была создана основа? Как «они», то есть древние картографы, умудрялись делать такие точные карты за столетия, как нам кажется, до появления необходимых знаний и оборудования?
Картирование мира, так чтобы каждая береговая линия, каждая речка, озеро и гора, каждый город и селение находились в надлежащем месте по отношению к расстояниям и направлениям, зависит от одного простого геометрического предположения, а именно что пересечение двух линий представляет собой точку. Другими словами, чтобы «найти» точку на поверхности земли, «определить» ее картографически, необходимо знать всего две вещи: ее широту и долготу – расположение двух линий, которые пересекаются в нужной нам точке, – и, смотри‑ка! все готово. Однако простота тут же кончается, и начинаются сложности.
Чтобы вернее оценить некоторые из этих сложностей, давайте представим себе, что шар, изображающий земную поверхность, покрыт геометрической сетью параллелей широты и меридианов долготы с интервалом в один градус дуги. Давайте считать также, что каждый пункт, который отмечает пересечение параллели и меридиана, точно определен при помощи астрономических наблюдений. При этом мы получим на земном шаре сетку из 64 080 точек, не считая двух полюсов. На самом деле было бы невозможно обозначить на земле столько точек, так как почти три четверти из них придется на водную поверхность. Но даже если уменьшить это число вчетверо, все равно у нас останется 16 020 точек, которые приходятся на сушу, – абсолютный минимум, необходимый при составлении точной основы для масштабной карты Земли. Посмотрите на глобус и представьте себе, как трудно было бы доставить людей и аппаратуру во многие из этих точек, даже если бы кто‑то согласился взять на себя расходы. После этого вы не станете удивляться, узнав, что в 1740 г., согласно оценке Иоганна Габриеля Доппельмайра, немецкого астронома и математика, во всем мире существовало всего 116 точек, координаты которых, то есть расстояние к югу или северу от экватора (широта) и к востоку или западу от нулевого меридиана (долгота), были точно определены при помощи астрономических наблюдений. Через семьдесят семь лет, в 1817 г., другой географ, Франц Август фон Этцель, подсчитал, что число это увеличилось до 6000, причем две трети из них находились на европейском континенте. Это гораздо меньше, чем требуется для создания даже самой элементарной сетки для карты мира. Еще позже, в 1885 г., капитан Инженерного корпуса США Джордж М. Уилер охарактеризовал состояние карты мира следующим образом: «Суммируя, невозможно не заметить, что, несмотря на достойные уважения настойчивые усилия европейских правительств, относительно небольшая часть земной поверхности стала нам известна в топографических подробностях, посредством строгих математических и инструментальных процедур». Эти пессимистические доклады на самом деле не означают, что картография за две тысячи лет не добилась никакого прогресса; они не означают также, что до середины XVIII в. не существовало надежных карт – ни сухопутных, ни морских. На самом деле картография двигалась великанскими шагами; до 1800 г. были изготовлены тысячи сухопутных и морских карт и глобусов, причем некоторые из них были очень хороши. Пессимизм означал лишь, что картирование мира в целом, с тщательным и точным определением расстояний и направлений, выдвигало ряд интересных проблем, на решение которых ушло не одно столетие; именно о составлении карт такого рода говорили Доппельмайр, фон Этцель и Уилер.
Вернемся вновь к гипотетическому глобусу, испещренному 16 020 верно определенными точками, которые представляют собой не что иное, как опорные точки координатной сети, и сделаем следующий шаг. Соединим точки линиями с севера на юг и с запада на восток. Расстояние между двумя соседними точками составит в среднем около 58 миль[3]. Каждая линия, разумеется, должна быть геометрически правильной, иначе концы у нас не сойдутся. Чтобы провести линию длиной 58 миль, нам потребуется, принимая во внимание кривизну земной поверхности и другие осложняющие факторы, применить принципы топографической съемки вне пределов видимости (геодезические методы). Затем, разграничив аккуратно секции со стороной в один градус, мы получим 16 020 участков земли, площадью в среднем по 3390 квадратных миль; это примерно равняется суммарной площади штатов Делавэр и Род‑Айленд. При этом все участки внутри будут совершенно пусты. Однако на 3390 квадратных милях может разместиться множество самых разных ландшафтов!
Существует лишь один способ составить точную карту Земли и отдельных ее частей; он состоит в том, чтобы отправиться в поле и провести съемку. Точно так же существует лишь один способ установить серию опорных базовых линий для такой съемки; он состоит в том, чтобы отправлять в дальние уголки Земли экспедиции с астрономической аппаратурой и геодезическими инструментами. Это чрезвычайно масштабное предприятие, требующее много времени – буквально столетия – и денег. Кроме того, нужен стимул. Наибольший вклад в науку картографии внесли те страны, которые были больше других заинтересованы в развитии своих колоний и мировой торговли; те же, кто сопротивлялся эксплуатации и вторжению чужаков, какова бы ни была их миссия, только сдерживали дело. Суммарный результат на сегодня – пестрая карта мира, как в буквальном, так и в переносном смысле. Дел еще много. В 1932 г. английский географ Кеннет Мейсон писал: «Я дал понять, что мир уже открыт, но я сомневаюсь, что хотя бы для сотой части суши проведена достаточно подробная съемка, удовлетворяющая современным требованиям. Если дни первооткрывателей практически закончились, то для геодезистов только занимается рассвет».
Глава I
Земля обретает форму
Картография не возникла разом как вполне сложившаяся наука или хотя бы искусство; она развивалась медленно и трудно, и истоки ее происхождения более чем туманны. Первая и наиболее важная стадия ее развития приходится на последнее столетие дохристианской эры, и проходила она в Александрии, римской столице Египта. Этот город, расположенный всего в 12 милях от Канопского устья Нила, был на тот момент крупнейшим информационным центром, где приходившие со всего света новости просеивались и взвешивались. Кроме новостей, в Александрии взвешивались специи, руды и драгоценные безделушки, привезенные из Верхнего Египта и из Центральной Африки, сказочные изделия Индии и Аравии, предназначенные для перепродажи или использования на «величайшем базаре обитаемого мира».
За двадцать пять лет до рождения Христа не было на свете места, где жилось бы интереснее, чем в Александрии. Это был город‑космополит, место встречи головорезов и королей; в нем, будто в громадном горшке, перемешивался человеческий материал из самых отдаленных уголков земли. За три столетия, миновавшие с момента ее основания, Александрия прошла в культурном отношении немалый путь. Богато наделенная чудесами природы, она сумела значительно приумножить полученное наследство шедеврами архитектуры, сокровищами искусства и книгами; по красоте и значению она соперничала с самим Вечным городом. Александрия превратилась в подлинный центр эллинского мира, в манящий светоч для путешественников и рай для ученых, – в город, где человек мог думать.
Среди европейских путешественников, которые в 25 г. до н. э. пересекли Mare Nostrum (Средиземное море), чтобы посетить Александрию, был и молодой человек по имени Страбон, уроженец Амасии, столицы бывшего Понтийского царства, – важная фигура в нашем повествовании[4].
Страбон был любопытным путешественником; кроме того, он лучше многих способен был оценить то, что ему предстояло увидеть. Он родился в 63 г. до н. э. и получил прекрасное образование, благо семья его владела значительными богатствами. Будучи в Риме, он учился у Тирраниона, которого Цицерон считал способным философом и выдающимся географом. Страбон стал убежденным стоиком, верным последователем Зенона из Китиона – основателя секты, для которого физика, этика и логика представляли собой «служебные искусства», без которых невозможно применять философию и посредством этого приобретать знания. Мудрость и знания для него были синонимами. У Страбона не было времени на Аристотеля и его перипатетическую школу.
После завершения формального образования Страбон отправился путешествовать; как странствующий ученый, он был занят постоянными поисками интеллектуальных стимулов и развлечений. На западе он добирался до побережья Тиррении (Этрурии) напротив Сардинии; на юг заплывал из Понта Эвксинского до самых границ Эфиопии. Некоторое время он провел в Риме и его окрестностях, откуда затем отправился в Коринф. Он хорошо знал Понт; бывал в Милазе, Алабандо, Траллесе, Магнезии, Смирне и Бейруте и рассматривал все это как своего рода достижение: «Невозможно найти среди писавших о географии человека, который путешествовал бы на расстояния гораздо более значительные, чем я». Достойным завершением странствий Страбона стала Александрия, куда он приехал, вероятно, через Пелузий. Там он вместе со своим другом Элием Галлом, префектом Египта, смог исследовать Нил и изучить богатейший материал королевских библиотек. Никто не знает, собирался ли он уже тогда написать восемнадцатитомный трактат по географии, но известно, что он приехал в Александрию с коротким визитом, а остался на пять лет. Что же за город увидел путешественник?
Александр Великий, герой‑завоеватель и «освободитель», вошел в Египет осенью 332 г. до н. э., чтобы освободить народ от персидского ярма. Его первой заботой стал выбор места для постройки города, достойного стать столицей страны, которую он собирался освободить. Он выбрал для этого узкую полоску земли между Средиземным морем и озером Марьют (Себака, Бирк‑Марьют) возле крайней западной оконечности дельты Нила. Мемфис не подошел на роль столицы, так как лежал очень далеко от побережья и был слишком египетским, а древний Навкратис – известный торговый город – пользовался крайне дурной славой и был слишком непривлекателен. Более того, Греция была заинтересована в том, чтобы богатства Египта возможно скорее перекочевали в ее закрома, а это означало, что первостепенное значение приобретала хорошая гавань. Возможно, кое‑кому выбранное для Александрии место показалось не слишком многообещающим, но там была необходимая гавань, да и вообще на тот момент это было единственное место береговой линии дельты, не подвергавшееся опасности затопления илом, который в огромных количествах выносил Нил.
Во время своего первого и единственного визита на место будущей столицы Александр не обнаружил там ничего, кроме крошечного селения (Ракотис), притулившегося на самом берегу, и развалин небольшого военного лагеря, основанного много лет назад. Древние цари Египта укрепили селение для защиты от недобрых людей и негодяев, приходивших с моря, – в особенности от греческих авантюристов и пиратов из Кирены и с Крита, постоянно опустошавших прибрежные районы. В дополнение кукрепленному гарнизону, вдоль берега постоянно гоняли скот небольшие группы вооруженных пастухов – патрули, способные при необходимости самостоятельно разобраться с небольшими группами, которые попытались бы высадиться на берег без приглашения. Напротив селения Ракотис примерно в миле от берега лежал остров Фарос; его соединял с материком мол или волнорез, служивший одновременно путем сообщения и акведуком.
Три сотни лет сильно изменили Египет и его столицу. Под жесткой и по большей части разумной властью длинного ряда Птолемеев и Клеопатр финикийская морская торговля на Красном море, прежде представлявшая собой исключительную монополию, была перенаправлена от Суэцкого перешейка прямо в Александрию посредством канала, проложенного из столицы в Арсиною (возле нынешнего города Суэц). Египет теперь обладал сложной системой каналов, способных нести суда с громадным грузом, и все эти каналы вели в Александрию – главный город торгового мира. Каждый год, движимые царским приказом и мечтами о сказочных прибылях, купцы посылали свои корабли все дальше и дальше от родных портов в поисках новых рынков и всевозможных новых товаров для обмена в столице. В Египте взимались высокие налоги, но народ сносил их более или менее терпеливо, поскольку знал, что на каждое из излишеств, которым предавался царский дом, будет возведен новый храм в честь одного из возлюбленных ими богов или богинь; это происходило не однажды, причем каждый следующий храм превосходил предыдущие. В результате Александрия стала красивейшим городом.
При приближении к Александрии с моря первое из многочисленных чудес этого великолепного города можно было разглядеть на горизонте с расстояния больше чем в 20 миль: белая мраморная башня маяка на восточной оконечности Фароса помогала навигатору безопасно добраться до города. Сам остров, который, согласно описанию Страбона, имел продолговатую форму, лежал параллельно побережью материка и служил естественным волнорезом и защитой от внезапного нападения. Дамбу («гептастадий»), связывавшую остров с материком, расширили, и образовавшийся при этом Т‑образный мол дал городу две превосходные гавани. Западная гавань, Эвност («Гавань счастливого возвращения»), использовалась преимущественно торговыми судами; посредством канала она соединялась с озером Марьют, а туда, в свою очередь, по другим каналам приходили суда из Нила.
Вход в восточную, или Большую гавань, был узким; с моря его защищали низкие скалы, в том числе и подводные, «возле которых непрерывно бурлят волны, приходящие со стороны открытого моря». Свет Фаросского маяка вовсе не был манящим – и обе гавани, и сухопутные подходы к городу тщательно охранялись. Корабли царского флота встречали все подходящие суда и проводили их через узкий канал. Членов экипажа и пассажиров, прежде чем впустить в город, тщательно изучали; никто не мог ни войти в город, ни покинуть его без паспорта. Цезарь Август обладал немалым могуществом.
В гавани перед Страбоном и его товарищами по путешествию предстало зрелище, повергнувшее их в благоговейный трепет. Вдоль берега тянулся длинный ряд особняков и дворцов, принадлежавших членам египетского царского дома. Здания поднимались от самого обреза воды, и у каждого была собственная гавань и пристань для царских барок. Вода возле них была настолько глубока, что даже самые крупные суда могли швартоваться прямо к ступеням. Вокруг царских резиденций создан был великолепный ландшафт с величественными древесными рощами и регулярными садами. Подсобные строения и жилища для слуг были выкрашены в разные цвета, а яркие навесы и беседки открывали взгляду свои резные каменные стены. Дальше по берегу в направлении города находился Адмиралтейский порт; его частично прикрывал остров Антиродос, имевший форму полумесяца. Сразу за ним далеко в море выдавался искусственный полуостров, сооруженный Марком Антонием во время его продолжительного пребывания в доме правящей царицы, Клеопатры VI, в качестве гостя. На самой оконечности полуострова Антоний построил роскошный дворец, из которого можно было наблюдать за гаванью; он назвал его Тимониум – предположительно в честь Тимона из Афин, который, подобно ему самому, имел основания опасаться за свои социальные и политические контакты с другими людьми.
Не у всех обитателей Александрии была возможность наслаждаться освежающим дуновением морского бриза, приносившего прохладу в царские приморские резиденции, но в целом климат города все писатели и до и после Страбона описывали как здоровый. Как указывает сам Страбон, другие города, расположенные возле озер и иных небольших водоемов, летом изнывают от зноя; воздух в них становится тяжелым от влаги; с заболоченных низин поднимается «загрязненный» воздух, неся с собой зловоние и заразные болезни, особенно малярию. Но у Александрии, где Нил полноводен, а озеро Марьют периодически переполняется, застойные воды по каналам сбрасываются в море, так что нигде не остается болотных масс, которые могли бы отравлять воздух своими испарениями. В то же время северо‑западные пассаты (этезии) все лето приносят в Александрию свежий воздух; прежде чем попасть в город, воздушные массы проходят над обширными водными пространствами, «так что александрийцы летом проводят время весьма приятно». Средняя температура в дельте составляет 27 °C летом и 14 °C зимой.
Общий план города был утвержден еще в момент его основания; в основу плана легли рисунки греческого архитектора Гипподама. Страбон видел Александрию в период ее расцвета. Широкие улицы пересекали одна другую под прямым углом; главные магистрали в ширину составляли не меньше плетра (30,8 метра), и даже по самым узким улицам вполне можно было проехать в колеснице. Вдоль некоторых улиц шли широкие колоннады, выстроенные для защиты прохожих от солнца и просто как украшение. Не меньше четверти всех зданий в городе составляли царские дворцы, «ибо точно так же, как каждый из царей из любви к роскоши непременно добавлял к общественным сооружениям какие‑нибудь украшения, для себя он обыкновенно сооружал за свой счет [то есть на деньги, поступившие в качестве налогов] резиденцию, в дополнение к построенным ранее».
Для Птолемеев и Клеопатр строительство и украшение храмов было даже важнее, чем сооружение роскошных дворцов. Никакие другие боги никогда не удостаивались таких великолепных подношений и святилищ, как боги Нижнего Египта. Люди не жалели ничего, что могло послужить к украшению священных храмов и алтарей; о стоимости же всего этого, судя по восемнадцати талантам, потраченным на сооружение маяка на Фаросе, едва ли стоило говорить.
Для тех обитателей, кого интересовали более языческие формы поклонения богам, всего в 120 стадиях от восточных ворот Александрии располагался город Каноп. Два города связывала хорошая дорога, но хорошим тоном считалось воспользоваться одной из многочисленных лодок, день и ночь курсировавших по каналу Схедия; лодки перевозили людей, «играющих на флейтах и предающихся необузданным пляскам», к стоявшим на канале баржам с каютами и гостиницам, «приспособленным для отдыха и увеселений такого рода».
Два сооружения Александрии заслуживают особого внимания. Первое – святилище бога Пана. Страбон характеризует его как «возвышенность», созданную человеческими руками на вершине холма на западной окраине города. Она напоминала еловую шишку, а поднимались на нее по спиральной дороге. «С вершины ее можно видеть расстилающийся под ней со всех сторон город». Это все, что Страбон считает нужным сказать об этом сооружении; однако, несмотря на тот факт, что «возвышенность» была посвящена богу, она, вероятно, выступала и в роли астрономической обсерватории, а может, и пожарной каланчи тоже. Вторым сооружением – тем, что больше всего заинтересовало Страбона, – является Мусейон, в котором располагалась царская библиотека.
Что в действительности представлял собой Мусейон? Это чуть ли не самая манящая и таинственная из неразгаданных тайн Древнего Египта, и ученые не устают предполагать, что могло там содержаться. То малое, что о нем известно, только разжигает любопытство и, к несчастью, воображение тех исследователей, которые пытались узнать больше. Страбон писал, что Мусейон соединялся с царскими дворцами, а значит, должен был располагаться в квартале Брухиум, невдалеке от берега. В Мусейоне были общедоступное место для прогулок и, как утверждает архитектор Витрувий, «обширные экседры… с сиденьями, где философы, риторы и все остальные, кому приятны ученые занятия, могут устраивать дискуссии». Рядом со зданием – а может быть, непосредственно в нем, – находилась общественная столовая для «мужей, состоящих при Мусейоне. Эта группа мужей имеет не только общее имущество, но и жреца, который управляет Мусейоном и которого прежде назначали цари, а сейчас назначает цезарь». Вот и все основные ссылки на Мусейон, оставленные работавшими там современниками. Однако из глубины веков до нас дошло и несколько легенд, причем некоторые из них представляются достаточно обоснованными – настолько, насколько это возможно для легенд.
Одна из легенд утверждает, что Птолемей Сотер, вероятный основатель Мусейона, намеревался основать в Александрии университет по образцу знаменитых афинских школ, подстегнувших развитие греческого искусства и науки, поскольку во время своего визита в Грецию (308–307 гг. до н. э.) он пытался убедить приехать в Египет философа‑киника Стилпо из Мегары. Кроме того, он безуспешно пытался переманить к себе из родных мест Теофраста, преемника Аристотеля, и драматурга Менандра. С Деметрием Фалерским, однако, ему повезло больше, так как того только что изгнал из Афин его тезка, и он искал себе безопасное место жительства.
Представляется весьма вероятным, что Сотер, как сотни других монархов и до, и после династии Птолемеев, питал здоровое уважение к учености, но не знал в точности, что же делать с самой ученостью и с людьми, ею обладавшими. Поэтому он делал то, что делает обычно любой уважающий себя монарх – покупал или пытался купить этот товар на свободном рынке. Такое решение, позволившее через несколько столетий основать французскую Королевскую академию наук, английское Королевское общество и другие подобные научные учреждения в тех монархиях, которые могли себе это позволить, оказалось благодетельным для всех заинтересованных сторон и подняло «познание ради познания» из полуголодного состояния до состояния, граничащего с косной респектабельностью. Следует заметить в скобках, что с самого начала глава Александрийского Мусейона непременно должен был быть жрецом и греком. В то время духовенство не только диктовало волю богов, как происходило в течение более трех тысяч лет; священный сан налагал на жрецов обязанность следить, чтобы философия и наука не выходили за рамки теологических норм. В целом жречество представляло собой элиту среди людей, обладавших знаниями.
Разнообразная деятельность Мусейона вращалась вокруг библиотеки, основанной Птолемеем Сотером. Под руководством его преемника Филадельфа была развернута энергичная кампания по созданию книжного собрания. Во все концы Греции и в известные части Азии были разосланы гонцы, в обязанность которым вменялось собрать все, что только смогут (речь идет, естественно, о рукописях), невзирая на цену. Именно в это время библиотека Мусейона стала приобретать репутацию серьезного книгохранилища. В ее собрание, безусловно, вошли многие значительные частные собрания, но сохранившиеся записи говорят нам только об одном подобном приобретении, да и этот рассказ вызывает определенные сомнения. Атеней утверждает, что Нелей, наследник Теофраста, продал Филадельфу библиотеку Аристотеля – первую частную библиотеку в истории человечества, – и в конце концов она оказалась в собрании Александрийской библиотеки.
Птолемей Эвергет, пришедший на смену Филадельфу, собирал книги с еще большим рвением. Для этого он применял простой прием – по его приказу каждого входящего в город Александрию обыскивали. Если у человека при себе или в багаже обнаруживали какие бы то ни было книги, их конфисковывали и немедленно копировали. Оригинал помещали в царскую библиотеку, а копию отдавали владельцу без всякой благодарности. Эвергет, как собиратель книг, был всеяден и лишен каких бы то ни было философских убеждений; он брал любые книги, на каком бы языке – еврейском, египетском или греческом – они ни были написаны. Если рукопись была написана на чужом языке, он приказывал перевести ее и помещал в свою библиотеку и оригинал, и перевод. К моменту, когда он оставил трон, а его библиотекарь Эратосфен умер, собрание Мусейона выросло до 490 000 томов; кроме того, 42 800 томов хранилось в библиотеке Серапеума (храма бога Сераписа). Такой нашел Александрию Страбон.
Страбон занимает в истории и в этом повествовании довольно странное место. Сомнительно, чтобы он внес хоть какой‑то личный оригинальный вклад в копилку человеческих знаний; вряд ли за всю свою жизнь он составил хоть одну карту. Если бы он составил какую‑нибудь карту или хотя бы считал, что сделал это, он непременно упомянул бы об этом своем творении. Для него собственное «я» было важнее всего на свете! И все же «География» Страбона представляет собой главный ключ к истории древней картографии, просто потому, что эта рукопись уцелела и была опубликована, а труды и карты его современников, как и «древних», о которых пишет он сам, затерялись или были уничтожены. Чуть ли не все, что мы знаем о греческой картографии до Клавдия Птолемея (ок. 150 г. н. э.), берет начало в трудах Страбона из Амасии и не прослеживается дальше. Так что нам повезло, что Страбон был не только историком с обширными интересами и талантом рассказчика, но и географом, которого интересовали обычаи и происхождение – детали, которые более академически настроенный автор мог счесть излишними.
Конечно, некоторая часть славы досталась Страбону, что называется, «по определению», но по большей части его слава вполне заслуженна. Предполагают, что он провел в Александрийской библиотеке почти пять лет, изучая труды древних философов и ученых и собирая материал для своей «Географии». Там в стенах одного‑единственного здания он обнаружил мудрость веков; наука картографии тоже присутствовала там, представленная под такими животрепещущими названиями, как «Сфера», «О природе», «О неподвижных звездах», «Об изобретениях», «Об Эратосфене», «Против Эратосфена», «Илиада» и «Одиссея». Страбон читал очень избирательно и, хотя часто отвлекался, старался все же включать в свои записки только то, что имеет отношение к значительным трудам по интересующему его вопросу, «за исключением тех случаев, когда какая‑то мелочь может возбудить интерес ученого или практического человека». Временами он повторялся и часто вставлял в текст больше иллюстраций, чем необходимо для понимания важного момента. Это, однако, имело своей целью стимулировать в читателях способность ничему не удивляться – главную добродетель и основной принцип стоицизма. Он намеренно наваливал на читателя чудо за чудом, чтобы те, пресыщенные наконец чудесами, перестали бы на них реагировать, как и подобает настоящим стоикам. Такая концепция оказалась очень полезной для потомков.
Описывая различные элементы географии и картографии, Страбон разрешает себе проявлять по поводу одних вещей легкий энтузиазм, по поводу других – серьезную заинтересованность, но ни разу не позволяет себе чем‑нибудь восхититься в обычном смысле этого слова – и меньше всего достижениями и письменными трудами других людей. Их он подвергал неустанной и часто беспричинной цензуре. В отношении своих источников он говорит: «Если мне придется при случае выступать против тех самых людей, которым во всех остальных отношениях я следую с максимальной точностью, прошу прощения; ибо цель моя – не опровергать утверждения каждого географа, а скорее оставлять без внимания большую их часть – тех, чьи аргументы не следует даже рассматривать, – но передавать мнение тех, кто в большинстве случаев оказывался прав. В самом деле, не подобает вступать в философские дискуссии с кем попало, но большая честь – дискутировать с Эратосфеном, Гиппархом, Посидонием, Полибием и другими им подобными».
Обсуждая различные элементы, из которых складывается картография, Страбон, подобно кое‑кому из более поздних ученых, не может определить точно, информацию какого рода должна охватывать «наука география». Тем не менее он упорно говорит об «особом разделе географии», который имеет дело с более широкими понятиями – такими как природа Вселенной, движение небесных тел, включая Землю; общий характер Земли, ее форма и размер, ее обитаемые части в противовес необитаемым. Всякий, кто пытается понять и описать подобные вещи, говорит Страбон, «должен смотреть на свод небесный»; он должен уделять особое внимание астрономии и геометрии. В общем, Страбон считал, что такое особое исследование Вселенной должным образом представляет союз метеорологии, астрономии и геометрии, «поскольку оно объединяет земные и небесные явления как тесно связанные между собой и неразделимые, «как небеса высоко над землей». Он подчеркивает это еще больше, когда говорит: «Ни одному человеку – будь он обычный человек или ученый – невозможно овладеть необходимым знанием географии без определения небесных тел и наблюдения затмений…» Если приходится иметь дело со странами, расположенными далеко друг от друга, говорит Страбон, то такие явления представляют собой важные характеристики. Страбон здесь указывает на главную, принципиальную проблему, которая возникает при составлении карт, к тому же не следует забывать, что первые шаги в изучении Земли делались обходным путем – через изучение небесной сферы. Астрономию называли «служанкой» картографии, но слово «служанка» здесь использовано неверно, поскольку предполагает подчиненное и зависимое положение; на самом же деле картография зависит от астрономии, а не наоборот. Развитие картографической науки никогда не обгоняло развитие астрономии, а современная карта мира стала возможной в немалой степени благодаря высокой точности, достигнутой астрономами‑наблюдателями.
Страбон обнаружил, что человечество уже несколько тысяч лет, как он и советовал, рассматривает небесный свод, но в основном не для того, чтобы узнать что‑то новое о Земле. Небо всегда служило человеку календарем, советовало, когда начинать сев и когда – жатву, когда охотиться и когда рыбачить, когда молиться богам и когда спать. Если быть точным, то еще в 4241 г. до н. э. человек знал, что длительность календарного года составляет 365 дней, и использовал этот факт при записи важных событий. Этот интервал времени, полный цикл, определялся посредством двух последовательных наблюдений Сириуса – «песьей звезды» – перед самым восходом солнца, когда Сириус едва появляется на горизонте. Ни в одном месте это явление не повторяется чаще, чем раз в год. И весьма вероятно, что систематическое изучение неба в теологических целях началось еще в ранний период вавилонской и ассирийской цивилизаций – а именно в кочевой, или евфратский период, около 3000 лет до Рождества Христова.
Очевидно, астрология входила в моду по мере того, как теряли популярность некоторые более древние формы поклонения богам, предусматривающие кровавые жертвоприношения. Существовал, например, древний способ вопрошания духа, состоявший в том, чтобы непосредственно добраться до объекта вопрошания и определить таким образом волю и настроение богов. Считалось, что если божество, которому приносят жертву, склонно прислушаться к людям, то оно как бы отождествляет себя с духом жертвенного животного, обитающим в печени. В этот момент божество и печень сливаются в полном согласии и гармонии. Следовательно, необходимо всего лишь провести вскрытие жертвенного животного – разумеется, в соответствии со строгим протоколом – и тщательно исследовать его печень. Такое удачное положение вещей давало возможность племенным жрецам и представителям местных богов предсказывать изумительные вещи. Но у этой системы были и свои недостатки. Даже для опытного взгляда возможности печени ограничены, и часто жрец, не получая от нее особой помощи, вынужден был самостоятельно выдумывать сложные интерпретации и предсказания. Однако вряд ли кровавые жертвоприношения прекратились из‑за недостаточной изобретательности жреческого сословия. Скорее можно сказать, что огромное число необъяснимых явлений, постоянно видимых в небе, вызвало развитие политеизма, основанного на поведении небесных тел.
Много столетий бродячие племена Вавилона и Ассирии, охраняя по ночам свои стада, со страхом и благоговением смотрели, как солнце опускается за горизонт и на черном куполе небес появляются звезды. Люди видели, как звезды медленно поднимаются к зениту, а затем вновь опускаются и в конце концов тоже исчезают за горизонтом на другой стороне. Но это еще не все. Некоторые яркие звезды, казалось, двигались независимо, по диагонали пересекая общее направление движения небесного купола. Нередко случалось, что какая‑нибудь звезда срывалась со своего места и падала вниз, оставляя за собой огненный след, грозивший уничтожить или зажечь землю. Но еще больший ужас, чем любое из перечисленных явлений, вызывал огромный круг холодного света, периодически пересекавший небесный свод. Он был гораздо больше любой звезды и ходил по собственному маршруту. Он то появлялся, то пропадал. В первую ночь он обычно выглядел как тоненький серпик света со слабым контуром остального диска; с каждой ночью серпик становился все больше, а темный диск меньше, пока наконец в одну из ночей над горизонтом не поднимался пылающий красный шар, который затем, по мере приближения к зениту, съеживался и становился золотистым. Происходило такое не меньше двенадцати раз в год. Явление это служило несомненным знаком одного из богов; жрецы называли его Наннар или Син, «проливающий свет», а кое‑где это был Энзу, владыка мудрости. Не важно, однако, какой именно бог проявлял свое могущество столь великолепным образом, – ясно было, что небеса нужно изучать и, если возможно, делать из наблюдений практические выводы.
Поклонение небесным телам возложило на жрецов, служивших этому культу в долинах Тигра и Евфрата, серьезный груз ответственности. Раз небесные тела стали правителями и хранителями Вселенной, жрецы, соответственно, должны были изучить периодичность их движения и отношения друг с другом, – ведь если указания небес корректно интерпретировать, то любой катастрофы можно избежать, а гнев богов смягчить. Вследствие этого, если бы жрецы умели заранее, причем задолго, предсказывать поведение Солнца, Луны и звезд, это привело бы к резкому повышению их общественного статуса. Так и получилось, что религиозный культ взял на себя ответственность за сбор данных, имеющих отношение к природе Земли и законам Вселенной.
Хранители храмов честно вели летопись поведения небесных тел. Астрологические данные передавались из поколения в поколение без нарушений и перерывов две с лишним тысячи лет, так что ко времени Александра Великого было накоплено громадное количество удивительнейших сведений. Появилась тщательно разработанная система, сложность которой колебалась в зависимости от усердия и образованности делавших записи жрецов; ну и время от времени ее меняли. Кое‑где некоторые боги и их небесные двойники лишались небесного престола; другие вынуждены были делиться славой и впускать в свои храмы другие божества. Например, солнечный бог Шамаш был сыном лунного бога Наннара и вследствие этого занимал подчиненное положение. Но одновременно Шамаш олицетворял собой справедливость и должен был выводить на свет всякое зло и нечестие. Он также освобождал страдальцев из когтей демонов. Шамашу подчинялся Ниниб, солнечный бог утра и весны; Нергал был солнечным богом полудня и летнего солнцестояния.
Как только данных накопилось достаточно, чтобы делать какие‑то выводы, в систему было включено пять планет. Юпитер стал ассоциироваться с Мардуком, который, помимо прочих многочисленных обязанностей, был покровителем древнего города Вавилона. Венера оказалась связана с Иштар – главной богиней, владычицей всего живого. Иштар была строгой богиней и при случае вполне могла наслать на поля засуху, а на живые существа – смерть. Будучи в хорошем настроении, однако, она обладала властью посылать плодородие и делать жизнь изобильной. Сатурн стали идентифицировать с Нинибом, который иногда выполнял обязанности бога‑целителя, а в остальное время был богом войны и охоты и появлялся везде со смертоносным оружием. Меркурий стал Небо или Набу – «подателем закона», богом мудрости, изобретателем искусства письма. Именно на его жрецах лежала обязанность правильно интерпретировать все небесные явления. С Марсом оказался связан Нергал – «истребитель» и «царь яростный», который ассоциировался также с нижним миром и был владыкой мертвых. Небесные тела, не вошедшие в астротеологическую систему, стали частью сложной и многоплановой системы мифов, из которой возникли созвездия. Это разделение звезд на группы (практически в том виде, в каком оно возникло в Вавилоне, возможно, еще за 2800 лет до н. э.) представили грекам два известнейших греческих астронома – Арат и Евдокс.
Были детально зафиксированы и особенности поведения Луны. Точное положение Луны на небе, положение ее «рогов», гало, которое можно увидеть при молодой Луне, и кольцо вокруг полной Луны – все это тщательнейшим образом изучали астрологи Вавилона и Ассирии. Затмения – и солнечные, и лунные – были наиболее зрелищным проявлением божественной активности и потому заслуживали особого внимания. Точно так же тщательнейшим образом регистрировалась точка восхода солнца, скорость ее смещения день ото дня, предельная высота подъема солнца над горизонтом в разное время года… Со временем эта информация привела к возникновению теории эклиптики. Однако окончательная доработка теории и разделение эклиптики на двенадцать равных частей по 30 градусов каждая (зодиакальный круг) произошли, вероятно, уже после падения Вавилонской империи в 539 г. до н. э.
Со временем наблюдение звезд в Вавилоне вместо постижения воли богов приобрело характер бескорыстного научного исследования. Этот естественный шаг произошел настолько медленно и постепенно, что практически остался незамеченным. По мере того как наблюдения усложнялись, а исследователи все больше погружались в свои открытия, неизбежным становилось постепенное появление новой науки – астрономии. Можно спорить, был ли распад вавилонского политеизма причиной или следствием этого явления. Есть и еще один интересный вопрос: почему уцелели записи астрологов, в то время как были уничтожены многие изваяния, связанные с этим языческим культом? Очевидно, однако, что и астрономия, и математика, освободившись от сдерживающего влияния религии, которой обе они были обязаны своим существованием, стали развиваться быстрее; новые открытия в одной области стимулировали новые активные поиски в другой. Работая в тесном сотрудничестве, астрономия и математика со временем добились признания за собой статуса настоящих наук. И самое существенное влияние на дальнейшее развитие их обеих оказало громадное число записей по наблюдению звездного неба, доставшихся им по наследству от вавилонских жрецов.
Поразительное качество вавилонских наблюдательных данных лучше всего можно оценить, если проанализировать некоторые из вычислений. Одна из древнейших сохранившихся записей рассказывает о «саросе» – цикле из 18 лет и 11 дней, или 223 лунных месяцев, в конце которого Луна возвращается с большой точностью в свое первоначальное положение на небе относительно Солнца, а также узлов и перигея собственной орбиты. Возможно, еще более важным стало обнаружение того факта, что в поведении некоторых планет наблюдается строгая периодичность. Например, было замечено, что Венера возвращается в определенную точку неба чуть меньше чем через восемь лет, а Меркурий делает то же самое, но уже раз в 46 лет; Сатурну требуется на это 59 лет, а Марсу и Юпитеру – 79 лет и 83 года соответственно. Последние промежутки времени соответствуют продолжительности человеческой жизни или даже превышают ее; это доказывает, что методы и приборы, необходимые для получения этих данных, передавались из поколения в поколение. Более того, было твердо известно, что это именно циклы, а не случайные совпадения, а это означает, что аккуратные и точные измерения проводились непрерывно в течение долгого времени. Это объясняет также, как можно было в древности с большой точностью предсказывать лунные затмения. Не все данные были точны, и временами ошибка достигала значительной величины, как, например, при вычислении перигея солнечной орбиты, который практически никогда не удавалось рассчитать с ошибкой меньше 10 градусов. С другой стороны, продолжительность сидерического (звездного) года у них была всего на 4,5 минуты больше реальной!
Пришло время, и поток человеческих знаний устремился с Востока на Запад. В 640 г. до н. э. некий вавилонский ученый по имени Беросс основал школу на острове Кос (или Станко) в заливе Галикарнас. В это же время греческие ученые начали самостоятельно осваивать знания, накопленные не только Вавилоном, но и Египтом. Начался общий обмен информацией между Европой и Азией; однако, если говорить об астрономии, то она стояла особняком и развивалась независимо, намного обгоняя прочие области знания. Несколько столетий никто даже не пытался применить ее открытия к решению базовых проблем географии и картографии.
VI в. до Рождества Христова стал свидетелем активной интеллектуальной деятельности греков. Появилась и имела громадный успех прозаическая литература. Ионическая школа философии делала под руководством своего основателя, Фалеса Милетского, первые робкие попытки осуществить научный подход к познанию; появились первые письменные опыты философских размышлений. Едва ли не самым главным объектом диспутов среди философов служила Вселенная, ее природа, размеры и значение, а также роль, которую играет наша Земля в общем порядке вещей. Многие, подобно Страбону, приходили к выводу, что наука географии «не меньше любой другой науки является предметом размышлений философа». Во всем, что имеет отношение к Земле и ее месту во Вселенной, Страбон, как и греческие философы до него, обращается к первому и самому авторитетному для всех них источнику – к тому, чьи творения наиболее точно воплотили принятые среди греков концепции и популярнейшие ответы. Этот авторитет – не кто иной, как Гомер, эпический поэт; даты его жизни неизвестны, происхождение – полная загадка, а творения его вызывали и вызывают не меньше горячих споров, чем творения Уильяма Шекспира.
Являются ли «Одиссея» и «Илиада» фольклорными компиляциями, собранными воедино одним или несколькими авторами, или представляют, как считал Страбон, изложение глубоких географических знаний одного человека, – это, по всей видимости, навсегда останется тайной. Важно другое. Эти поэтические шедевры отражают географические концепции, бытовавшие в Греции около пятисот лет и оказавшие немалое влияние на ученые умы последующих поколений, которым, вообще говоря, был доступен значительно больший объем информации.
Гомер писал о храбрецах, об их военных предприятиях и путешествиях. Его причудливые образы и поэтические аллегории, согласно Страбону, ни в коей мере не отражают глубины знаний поэта об обитаемом мире и всех его частях. Напротив, точно так же, как драматургвремен королевы Елизаветы, писавший исторические драмы для развлечения лондонского люда, Гомер, раз взявшись за дело, делал его хорошо. Создается впечатление, что оба эти джентльмена оказали на мысль будущих поколений гораздо большее влияние, чем это первоначально входило в их намерения.
Если рассмотреть древнюю литературу, посвященную географии и представлениям о Земле, окажется, что все книги ведут к Гомеру. Страбон называет его основателем географической науки, «ибо Гомер превзошел всех остальных людей, как древних, так и нынешних времен, не только великолепием своей поэзии, но и, могу сказать, знаниями обо всем, что имеет отношение к общественной жизни… И эти знания заставили его заняться… географией как отдельных стран, так и населенного мира в целом, как земли, так и моря; ибо иначе он не дошел бы до крайних пределов обитаемого мира и не охватил бы его весь своим описанием». Страбон тщательно изучал творения этого великого человека.
Земля, согласно Гомеру и его ученикам, представляла собой плоский диск, окруженный непрерывно движущейся рекой Океан. На кромку земного диска опирался высокий купол небес – перевернутая полусфера. Небеса нуждались в дополнительной поддержке и потому опирались на множество высоких – невидимых – колонн, о целостности которых заботился Атлант (Атлас). Позже его широкие плечи сами превратились в главную опору небес. Гиперион, бог солнца из титанов, каждый день поднимался «из глубокого потока медленных волн Океана» и каждую ночь погружался обратно в его воды, «навлекая темную ночь на землю, родительницу зерна». Отчаянным морякам, рискнувшим выйти далеко в море, случалось услышать то ли рев, то ли шипение, с которым огненный шар солнца погружался в воду. Никто, однако, не знал в точности, где именно Гиперион выходит из моря, где уходит и каким образом умудряется высохнуть за ночь.
Звезды делали то же самое – они пересекали небеса, «искупавшись в Океане». Точнее, так поступали все, кроме Медведицы, которая «лишь одна непричастна к купанию в волнах Океана». Страбон, различавший две Медведицы, был убежден, что Гомер тоже знал меньшую из двух; он признает, однако, что Малая Медведица, возможно, во времена Гомера не считалась отдельным созвездием. Страбон не ограничивается этим, он продолжает защищать слова Гомера, для чего исправляет его и добавляет собственную версию того, что хотел сказать поэт. Он считает, что Гомер пытался объяснить следующее: весь арктический круг, а не одна лишь Медведица, обозначал границу, за которой звезды не поднимаются из‑за горизонта и не садятся; говоря же об Океане, Гомер будто бы подразумевал горизонт, под которым скрываются и из‑за которого поднимаются звезды. Сам Страбон был убежден, что арктический круг соприкасается с самой северной частью населенного мира. Из остальных звездных групп Гомер писал о «позднем заходе Волопаса», о Плеядах, Гиадах и могучем Орионе. Он также упоминал Сириус.
В мире Гомера существовало четыре ветра. Борей, северный ветер, дул из Фракии, он поднимал и гнал могучие волны. Нот, южный ветер, возвещал бурю и приносил внезапные шквалы; он был опасен для мореплавателей. Зефир, западный ветер, тоже часто описывали как ветер штормовой, но только не Гомер, который знал запад и знал, что климат там умеренный, а народ процветает. Кроме того, на западе находится и Элизиум, и край света,
…где живет Радамант русокудрый.
В этих местах человека легчайшая жизнь ожидает.
Нет ни дождя там, ни снега, ни бурь не бывает жестоких.
Вечно там Океан бодрящим дыханьем Зефира веет
С дующим свистом, чтоб людям прохладу доставить.
Примерно в этом же направлении следует искать острова Фортуны (возможно, Канарские), лежащие западнее самой западной оконечности Маврусии (примерно соответствует Марокко). Эвр, восточный ветер, упоминали редко.
Океан, согласно Гомеру, то отступал, то поднимался и находился в постоянном неспешном движении, никуда при этом конкретно не направляясь. Гомер не делал различия между внутренним и внешним морем, между Океаном и Средиземноморьем; для него это было одно и то же. Страбон согласен с Гомером в том, что пределы населенного мира омываются морем, поскольку, рассуждает он, об этом сообщают нам наши чувства; ибо в каком бы направлении ни путешествовал человек, в конце концов он приходит к морю. Кое‑кто верил, что большое Западное море разделено надвое перешейком; Страбон считал это весьма маловероятным. Ведь те, утверждает он, кто пытался проплыть вокруг Земли по омывающему ее со всех сторон океану, повернули назад только «из‑за лишений и одиночества», а не потому, что наткнулись в пути на барьер суши, подобный материку. Более того, Страбон видел в отливах и приливах, которые можно наблюдать в любой населенной местности, доказательство того, что существует один, и только один океан. Не все авторы были с ним в этом согласны. Страбон и сам чувствует себя в этом вопросе немного неуверенно, но считает за лучшее принять теорию одного единого океана, так как и он сам, и остальные стоики считали, что чем большая масса воды окружает землю, тем лучше будут поднимающиеся с воды испарения удерживать вместе небесные тела!
Со времен Гомера и до появления искусства писать прозой в Греции не было профессиональных писателей, посвящавших свои труды истории и географии, хотя ссылки на географические вопросы в поэзии Гесиода указывают на то, что в его время эта тема не оставалась совсем без внимания. Атлант, прежде обитавший где‑то далеко на западе, теперь, «принужденный к тому неизбежностью мощной», держит «на голове и руках неустанных широкое небо там, где граница земли, где певицы живут Геспериды». Те, в свою очередь, охраняют золотые яблоки и деревья, дающие этот драгоценный фрукт, «за водами Океана».
Затем Страбон обращается к греческим философам; примерно с 600 г. до н. э. именно философия стала оказывать серьезное влияние на географическую мысль. Значительная часть философской активности была тогда сосредоточена вокруг ионической школы, основанной Фалесом в те времена, когда Милет (Палатия) был важнейшим городом Греции. Милет располагался на южном берегу Латмийского залива возле устья реки Меандр и был идеальным портом для торговли с южной Фригией. Через четыре его гавани велась оживленная торговля с Древним Египтом через Навкратис и с черноморскими северными городами. Начиная с Фалеса, Милет дал жизнь многим заметным ученым, включая Анаксимандра, Анаксимена и Гекатея. Даже самые строгие критики не могли отрицать, что эти люди сделали важный вклад в познание мира. Эратосфен даже утверждал, что первым достойным преемником Гомера в области географии стали Анаксимандр – первый грек, опубликовавший карту, и Гекатей, написавший серьезный двухтомный трактат по географии, озаглавленный «Путешествия вокруг Земли».
Прежде чем хотя бы попытаться нарисовать картину Земли, милетские философы долго и активно обсуждали ее вероятную форму и размеры, а также место Земли во Вселенной. В целом это была весьма возвышенная дискуссия и, хотя некоторые из высказанных в то время наиболее блестящих идей кажутся сегодня фантастическими, в то время они были не более фантастичны, чем современные представления о том, что Земля вращается вокруг своей оси со скоростью больше тысячи миль в час и несется сквозь пространство со скоростью 18,5 мили в секунду по эллиптической орбите вокруг неподвижного Солнца – факты, которые мы принимаем на веру без малейших эмоций.
Анаксимандр Милетский[5] был способным астрономом и географом, одним из пионеров точных наук среди греков. Он рассказывал ученикам о наклоне эклиптики, а возможно, первым и обнаружил его. Говорят, что он познакомил Грецию с солнечными часами. Однако его философия шла вразрез с его наукой. Если учитель Анаксимандра Фалес утверждал, что Земля имеет форму диска и покоится в воде, где плавает подобно бревну или кораблю, то Анаксимандр ввел понятие своего рода первичного хаоса, из которого возникла центральная масса – Земля, цилиндрическая по форме и подвешенная в пространстве без опоры. Землю на громадном расстоянии окружают многочисленные огненные сферы, сброшенные Землей и оставленные вращаться в космосе подобно пламенным колесам или воздушным пузырям. Обитаемая часть его мира имеет форму диска (по всей видимости, верхний срез цилиндра) и существенно превосходит по размеру мир Гомера. На западе он простирается за Геркулесовы столпы до Касситерид или Оловянных островов (ныне острова Силли), а на восток – до Каспийского моря, которое он считал продолжением восточной части Океана. В центре мира Анаксимандр поместил Эгейское море.
Анаксимен[6], учившийся в Милете у Анаксимандра, отверг взгляды учителя в отношении Земли. Вместо цилиндра он представил Землю в виде подвешенного в пространстве прямоугольника; поддерживает его в небесах «подушка» сжатого воздуха. Вообще говоря, у Анаксимена все: воздух различной плотности; тела, подобные Земле, Солнцу и звездам, – тоже представляет собой не что иное, как точно подогнанные сгустки воздуха – одни холодные, другие горячие. Он считал, что небесные тела передвигаются вокруг неподвижной Земли на громадном расстоянии, а поддерживает их, как и Землю, атмосферное давление. Анаксимен выдвинул новое объяснение ночному исчезновению солнца, и его теория долго сохраняла популярность в определенных кругах: свет солнца, утверждал он, заслоняет по ночам высокий горный хребет, расположенный неправильным образом на самом северном краю.
Гекатей[7], самый молодой представитель милетской школы, выступил в защиту теории, в которой Землю в форме диска со всех сторон окружает океан, – несмотря на то, что он имел в своем распоряжении, как утверждалось, руководства по навигации, охватывавшие территорию от реки Инд до Красного моря; он знал о военном походе Дария в Скифию (513 г. до н. э.), а от торговцев и путешественников, которые бросали якоря в Милете, он, должно быть, слышал, что за горизонтом есть и кое‑что кроме сжатого воздуха. Определенно ни один моряк того времени не стал бы выступать в защиту медлительного, «лениво текущего Океана», но похоже, что, путешествуя, мало что можно было узнать о Земле.
Первую робкую попытку приблизиться к истине в определении формы Земли предпринял Пифагор Иониец, основавший около 523 г. до н. э. в Кротоне философскую школу[8]. Имя Пифагора занимает в истории науки почетное место; ему приписывают несколько важных научных гипотез, которые впоследствии подтвердились. Возможно, самая важная из выдвинутых им теорий – это утверждение о том, что Земля представляет собой не плоскость и не диск, а шар. Как Пифагору удалось прийти к такому фантастическому выводу – краеугольному камню картографии, – загадка. По поводу рассуждений, которые помогли Пифагору выдвинуть такую теорию, позже выдвигались всевозможные предположения. Самый популярный вариант, который приписывали ему и последователи, и оппоненты, – утверждение, что Земля имеет форму сферы просто потому, что «сфера – самая красивая из объемных фигур». Некоторые другие авторы предпочитают думать, что Пифагор пришел к своему поразительному выводу путем наблюдения за небом и правильного объяснения того, что он там видел. Во всяком случае, пифагорейцы, развивавшие предложенные мастером идеи, выстроили вокруг своей сферической земли новую космическую систему; при этом они отвергли во многих отношениях все предыдущие концепции, включая и концепции самого Пифагора. Они оставили Землю сферической, но отказались от геоцентрической гипотезы, низведя Землю из положения центра Вселенной до статуса одной из планет – такой же, как Юпитер и Солнце. Затем они сконструировали систему, в которой небесные тела, включая Солнце, вращались вокруг некоего «центрального огня» таинственного происхождения. Логика, стоявшая за этим выводом, могла выглядеть примерно так: «Достойнейшее место надлежит занимать достойнейшему объекту, а огонь достойнее, чем земля…» Поэтому центральным телом Вселенной должен быть огонь, а не Солнце. Пифагорейцы ввели в систему еще одно небесное тело – антихтон, своего рода противоземлю. Это планета, которая находится на противоположной стороне вращающейся Вселенной и потому никогда не бывает видна с Земли. Некоторые авторитеты придерживались мнения, что в такой схеме Вселенной Земля остается неподвижной в пространстве; в то же время некоторые из пифагорейцев считали, что она обращается вокруг центрального огня по вытянутому кругу, так же как Солнце и Луна; в этом случае Земля должна была совершать один оборот вокруг центрального огня за день и ночь, или каждые двадцать четыре часа.
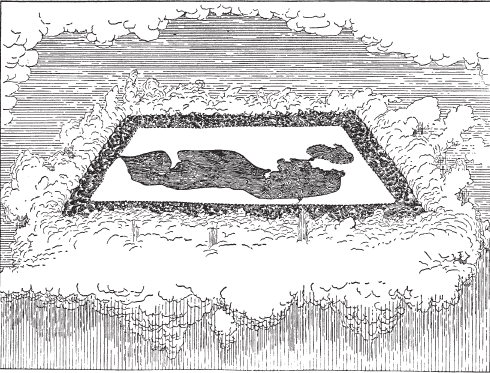
Прямоугольный мир Анаксимена (ок. 500 г. до н. э.) был водяным, но в пространстве его поддерживал сжатый воздух. Средиземное море омывало собственные берега, а за горизонтом несло свои волны великое кругоземное море Океан
Два ученых астронома, Евдокс и Каллипп, выдвигали сложные теории устройства Вселенной, куда входили системы концентрических сфер и невразумительные математические формулы. Эти теории не внесли в формирование картины мира ничего, кроме путаницы. Теории сами по себе были красивы, но Аристотель, рассматривая взгляды предшествовавших ему астрономов, счел необходимым значительно модифицировать их, а в некоторых случаях даже заменить собственными идеями. Вселенная, сказал он, конечна и имеет форму сферы. Звезды тоже круглые. Почему? Потому что природа ничего не делает просто так; поэтому природа дала звездам форму, меньше всего похожую на форму живых существ, у которых есть органы движения, – то есть форму, наименее подходящую для какого бы то ни было независимого движения. Он сказал, что Земля тоже круглая, несмотря на то что кое‑кто возражал: не может быть, ведь линия горизонта, пересекающая встающее и заходящее солнце, прямая, а не изогнутая. Эта прямая на взгляд линия, рассуждал Аристотель, – оптическая иллюзия, вызванная огромной протяженностью горизонта и относительно небольшими размерами сферы восходящего или заходящего солнца; такое сочетание должно обманывать или, по крайней мере, сбивать наблюдателя с толку. Другие доводы, которые он приводил в пользу сферичности Земли, были понятнее и основывались на наблюдениях, которые любой человек может сделать невооруженным глазом. Во время частного лунного затмения, например, граница света и тени всегда округлая, вне зависимости от стадии затмения; с другой стороны, линия терминатора при разных фазах Луны может быть прямой или закругленной в любом направлении. Следовательно, затмение, вызываемое вмешательством Земли, доказывает, что она круглая. Второй аргумент Аристотеля оказался весьма ценным для развития картографии. Он указывает, что некоторые звезды, которые бывают видны над горизонтом в Египте и на Кипре, не видны севернее; более того, некоторые звезды, которые в этих местах заходят, в более северных всегда остаются над горизонтом. Учитывая эти факты, а также то, как заметно меняется горизонт при передвижении на небольшое расстояние, можно сделать вывод, что Земля должна иметь форму шара, причем не слишком большого шара.
Аристотель[9] не согласился с Фалесом в том, что Земля плавает в воде; он утверждал, что эта теория противоречит опыту. Мы видим, что вода может стоять на Земле или течь по ней, но мы никогда не видим, чтобы Земля плавала где бы то ни было. Он отверг и теорию, выдвинутую Анаксименом, Анаксагором и Демокритом, о том, что Земля, как плоская крышка или колесо фургона, висит в пространстве на подушке из сжатого воздуха. Аристотель пытался доказать, что Земля вообще не движется. Критикуя коллег, не согласных с этой идеей, он различал тех, кто ратовал за поступательное движение, и тех, кто считал, что Земля вращается вокруг оси, проходящей через полюса. О возможности двойного движения – обращения Земли внутри звездной сферы и вращения ее вокруг оси – не говорилось ничего.
Завершающим штрихом ранней философской астрономической системы, имевшей отношение к картографии, стала радикальная гипотеза «математика» Аристарха Самосского (ок. 310–230 гг. до н. э.). Аристарх, ученик астронома Стратона, в 288 г. до н. э. сменил Теофраста в качестве главы школы перипатетиков. Кроме теоретических данных первостепенной важности, он оставил потомству множество механических приспособлений. У Аристарха были многосторонние интересы, в частности его трактат «О размерах и расстояниях Солнца и Луны» во многих отношениях обогнал свое время. Он создал усовершенствованные солнечные часы, основание которых представляло собой не плоскость, а вогнутую полусферу, в центре которой был закреплен вертикальный указатель; направление и высоту Солнца при этом можно было определить одним взглядом. Он писал об оптике, свете и цвете. «И, – писал Хит, – нет ни малейшего сомнения, что именно Аристарх первым выдвинул гелиоцентрическую гипотезу. Древние свидетельства в этом смысле единодушны, а первым свидетелем может выступить Архимед, младший современник Аристарха, так что ошибка исключена». Более того, широкая публика не знает или не обращает внимания на то, что сам Коперник признавал, что эту теорию следует приписать Аристарху.
Говоря о Вселенной и о месте Земли в ней, Архимед писал: «Но Аристарх выпустил книгу о некоторых гипотезах, где получается, на основе сделанного допущения, что Вселенная во много раз больше, чем только что упомянутая «вселенная». Суть его гипотез в том, что неподвижные звезды и Солнце остаются на месте, а Земля обращается около Солнца по периферии круга, причем Солнце лежит в середине этой орбиты…» Второй свидетель Аристарха и его замечательного вклада в науку – Плутарх: «Только не надо, добрый друг, возводить на меня обвинение в нечестии, подобно Клеанту, который считал, что долг греков – осудить Аристарха Самосского по обвинению в нечестии за то, что он привел в движение Очаг Вселенной, причем то был результат его попытки «спасти явления» предположением, будто небо остается в покое, а Земля движется по наклонной окружности и в то же время вращается вокруг своей собственной оси». Современники действительно осудили Аристарха; мало кто в то время мог позволить себе отнестись к такой дикой гипотезе сколько‑нибудь серьезно, и даже 1800 лет спустя, после того как Коперник сформулировал ее заново, она показалась убедительной лишь немногочисленным мыслителям‑радикалам.
Как только гипотеза Пифагора получила общее признание и Земля обрела форму шара, за этим сразу же последовали попытки определить ее размер. Из ранних оценок самый большой размер Земля имела по оценке Платона, изложенной в его «Федоне», – по крайней мере, подразумевался самый большой размер. «Я считаю, – говорит Платон устами Сократа, – что Земля очень велика и что мы, обитающие от Геркулесовых столпов до реки Фазис, занимаем лишь малую ее частицу; мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки вокруг болота, и многие другие народы живут во многих иных местах, сходных с нашими…» Аристотель более консервативен и более конкретен. Он говорит, что наблюдения звезд доказывают, что Земля округла и не слишком велика. Он говорит также, что современные ему математики оценивали окружность Земли в 400 000 стадиев. (Примечание: для удобства читателей в этой книге все линейные величины, выраженные в стадиях, будут приведены в милях. 10 стадиев = 1 миля[10].) Архимед в своей книге «Об исчислении песчинок» говорит, что с тех пор эта цифра по всеобщему согласию была уменьшена до 30 000 миль. К тому моменту измерение окружности Земли стало среди ученых весьма популярным занятием, но много лет ничего не говорилось о методах, с помощью которых проводились подобные измерения.
Самое раннее достоверное описание метода, с помощью которого была впервые измерена Земля, относится к Эратосфену Киренскому (род. в 276 г. до н. э.). Это был человек разносторонних знаний, получивший прекрасное научное и философское образование. Эратосфен долгое время жил в Афинах, где его и нашел Птолемей Эвергет – правящий монарх Египта, искавший человека, который мог бы сменить Каллимаха на посту главы Александрийской библиотеки. Некоторые историки говорят, что Птолемей в то время искал еще и учителя для своего сына Филопатора (Птолемея IV). Однако если Эратосфен действительно принял на себя эти дополнительные обязанности, то, по всей видимости, его преподавание оказало не слишком большое влияние на наследника – правление свое тот начал с убийства собственной матери, да и в остальном внес немалый вклад в упадок династии.
Эратосфен писал по многим вопросам, как научным, так и философским, но самым выдающимся его вкладом в картографию стал правильный и логичный метод измерения размера Земли – классика в своем жанре и первый из множества описанных методов. Оригинальное описание, как и большинство трудов Эратосфена, утеряно, но благодаря астроному Клеомеду (ок. 50 г. до н. э.) нам известны и сам метод, и полученный с его помощью результат.
Метод Эратосфена базировался на нескольких известных или предполагаемых фактах: 1) что расстояние по прямой между Александрией и Сиеной (ныне Асуан) составляет 500 миль; 2) что Александрия и Сиена расположены на линии север–юг или, как формулирует это Клеомед, «на одном и том же меридиональном круге»; 3) что Сиена расположена на самом краю летней тропической зоны (то есть на тропике Рака) – факт, подтвержденный вроде бы Плинием, Аррианом и другими, так как в день летнего солнцестояния в Сиене солнце в полдень находится точно над головой; в этот момент гномон[11] не отбрасывает тени, а лучи солнца отражаются в воде на самом дне глубочайших колодцев. Далее, наблюдения показали, что в день летнего солнцестояния в Александрии полуденное солнце стоит не прямо над головой, а отбрасывает тень под углом равным одной пятидесятой части круга. Раз так, то и угловое расстояние между Александрией и Сиеной эквивалентно одной пятидесятой части длины земной окружности. Так что, если расстояние по прямой между двумя городами составляет 500 миль, то длина земной окружности окажется в пятьдесят раз больше, или 25 000 миль. Все настолько просто, что странно, как никто раньше до этого не додумался. Точность полученного результата зависит, конечно, от размера стадия как единицы измерения длины в то время, и похоже, что этот вопрос так никогда и не будет разрешен удовлетворительно для всех. Но если усреднить несколько разных величин стадиев, то окажется, что результат Эратосфена отличался бы от подлинной длины земной окружности всего на 200–300 миль, правда, если бы поверхность Земли была идеальной сферой. Это всеобщее и естественное убеждение, царившее до 1671 г.[12], было единственной теоретической ошибкой метода, использованного Эратосфеном; да и эту ошибку едва ли можно поставить ему в вину. Во всех остальных отношениях это был, по существу, тот же самый метод, которым пользуются для измерения Земли современные астрономы.
Что касается прочих ошибок, то они были вызваны неверной информацией, а та, в свою очередь, – традицией и всеобщими заблуждениями. Так, например, Сиена лежит не на тропике Рака, а на широте 24°5'30", то есть примерно в 37 милях к северу от тропика. Опять же, расстояние между Сиеной и Александрией составляло, по всей вероятности, не больше 453 миль. Сиена лежит не на меридиане Александрии, а в 3°3' к востоку от него. Разница в широте между Сиеной и Александрией, которую Эратосфен определил как одну пятидесятую часть большого круга, или 7°12' дуги, на самом деле составляет 7°5' дуги, что также дает ошибку в конечном результате. Представляется весьма вероятным, что Эратосфен догадывался о возможной неточности своего результата; он, по всей видимости, пересмотрел его в сторону увеличения и приравнял 25 200 милям. Это число хорошо делится на 360 частей, то есть на число градусов в большом круге; при этом каждый градус дуги равняется 70 милям. Если бы он остался верен первоначальной величине в 25 000 географических миль (250 000 стадиев), он оказался бы чрезвычайно близок к истине, так как окружность Земли по экватору очень близка к 25 000 английских миль – а именно 24 899, согласно измерению Гершеля. Очень неплохой результат для начинающего, у которого не было ни телескопа, ни – предположительно – вообще никаких точных инструментов.
Вторую зарегистрированную попытку измерить Землю предпринял Посидоний из Апамеи. Его результат был не слишком хорош, но он заслуживает места в нашей истории из‑за смятения, которое вызвал среди ранних историков; кроме того, именно его результат, переданный Страбоном, а не результат, полученный Эратосфеном, несколько сотен лет считался общепринятым.
Посидоний (ок. 130–51 гг. до н. э.) был одним из наиболее образованных философов‑стоиков. Прозванный Родосцем, он руководил школой на острове Родос, привлекавшей ученых со всех концов света. Хотя, как выразился один историк, Посидоний не был астрономом «в строгом смысле этого слова», его философия тем не менее охватывала не только астрономию, но и географию, математику и метеорологию; кроме того, он написал «Историю» в 52 книгах. В некоторых отношениях он превзошел астрономов – например, измеренное им расстояние от Земли до Солнца оказалось ближе к истине, чем величина, полученная Гиппархом. Его метод измерения Земли основывался на тех же общих принципах, что и метод Эратосфена, но, вместо вычисления разницы в высоте солнца в день летнего солнцестояния в двух разных местах, Посидоний использовал звезду. Клеомед в деталях описал эту историю следующим образом:
«В некоторых частях Греции невозможно увидеть яркую звезду Канопус, но на Родосе, где работал Посидоний, она поднималась достаточно, чтобы скользнуть по горизонту и тут же снова нырнуть обратно. В Александрии, еще южнее, высота Канопуса на меридиане равнялась «четвертой части «знака», то есть одной сорок восьмой части зодиакального круга. Конечно, это просто другой способ сказать, что разница в угловой высоте Канопуса в Александрии и на Родосе составляет 7°30'. Считалось, что линейное расстояние между этими двумя пунктами составляет 500 миль; таким образом, получаем окружность земли 48 х 500, или 24 000 миль».
Опять, использованный Посидонием метод был достаточно разумен, но результат получился ошибочным из‑за неточных данных. Во‑первых, угловое расстояние между Родосом и Александрией (то есть разница по широте) составляет не 7°30', а 5°15' – меньше одной шестидесятой части большого круга. Хит указывает, что ошибка определения высоты звезды по меридиану имела место, скорее всего, на Родосе, где эффекты рефракции на горизонте должны были серьезно затруднять наблюдения; другими словами, провести точное наблюдение звезды, едва‑едва проскальзывающей по горизонту, очень трудно, если не невозможно. Вторая ошибка, расстояние в 500 миль между Александрией и Родосом, возникла в результате того, что оценивали расстояние моряки – люди, никогда не отличавшиеся тягой к преуменьшению. Расстояние оценивали по максимуму. Некоторые специалисты оценивали это расстояние в 400 миль, а Эратосфен, согласно Страбону, сказал, что оно не превышает 375 миль. Однако по оценке Посидония, которую привел Клеомед, окружность Земли все же составляла 24 000 миль. Она бы и осталась таковой, если бы не Страбон. Но, обсуждая последние опыты по измерению Земли, Страбон упоминает «того, который делает окружность Земли самой маленькой… а именно опыт Посидония, который оценивает ее окружность примерно в 180 000 стадиев [18 000 миль]…».
Откуда взялась такая огромная разница между величинами, приведенными Клеомедом и Страбоном? Хит предлагает остроумное объяснение, при котором оба источника оказываются в какой‑то мере правы. Страбон, рассуждает он, склонен был верить Эратосфену и критически относился к общепринятому мнению по любому вопросу, не обязательно научному. Поэтому, переходя к расчетам и выводам Посидония, он отвергает общепринятую величину расстояния между Александрией и Родосом в 500 миль и использует вместо этого расстояние, названное Эратосфеном – 375 миль. В то же время оба автора, рассказавшие о Посидонии (и Клеомед, и Страбон), по всей видимости, согласны, что угловое расстояние между двумя пунктами составляет одну сорок восьмую часть меридионального большого круга. Теперь посмотрим: 48 раз по 500 миль составит 24 000 миль, а 48 раз по 375 миль – 18 000 миль. Если мы примем эти рассуждения, то придется сделать вывод, что или Клеомед, или Страбон, или оба автора работали только с изложением рассуждений Посидония, то есть с описанием его метода без числовых значений, и взяли на себя смелость добавить недостающие детали самостоятельно. Однако Страбон – всем историкам историк – привел меньшую из двух величин, и в результате общее признание получила длина земной окружности равная 18 000 миль. Соответственно один градус дуги считался равным 50 милям. Этим двум стандартам суждено было изменить ход истории и долгие годы причинять мучения многим поколениям географов.
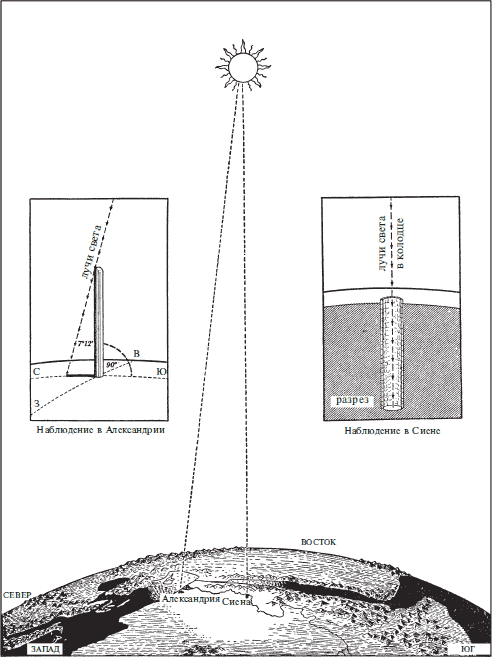
Самое раннее известное измерение окружности Земли провел Эратосфен около 240 г. до н. э. Его вычисления базировались на 1) угловой высоте солнца и 2) линейном расстоянии между Александрией и Сиеной
Обсуждая прогресс картографии, Страбон ссылается на карты, нарисованные «древними», но, следуя провозглашенному им самим принципу – игнорировать всех, кроме самых авторитетных из «современных» авторов, – он не говорит почти ничего, что могло бы указать нам, насколько на самом деле древни эти «древние». Он не называет никого из них по имени и вообще очень неопределенно говорит о развитии картографии до Гомера. Тем не менее изготовление карт – возможно, древнейшая разновидность примитивного искусства, поскольку с самого начала у этого искусства была цель. Это искусство столь же старо, как первые линии, проведенные человеком на песке или на стене пещеры. Более того, способность изобразить кусок земной поверхности – хотя бы небольшой – с помощью палочек и камешков или куска мела настолько универсальна, что, возможно, ее можно даже рассматривать как инстинктивную. Бесчисленные исследователи, имевшие дело с примитивными племенами, отмечали этот факт. Когда все остальные методы общения ничего не дают, на помощь приходит универсальный язык примитивной карты или схемы.
Самые ранние карты базировались на личном опыте и знакомстве с местностью. Они показывали путь через лес до соседнего племени; места, где можно обнаружить дичь, воду или соль; направление и расстояние до вражеских племен. Кочевой образ жизни несколько усложнял картину; бродячим племенам необходимо было знать, как пересечь пустыню и не умереть от жажды и как добраться домой за много миль после летнего выпаса скота. Чтобы начать войну – то есть приобрести землю этим древнейшим способом, – нужно было знать территорию соседей и хорошо в ней ориентироваться. Для торговли с другими племенами и народами нужны были еще большие знания о расстояниях и направлениях; чем дальше располагались рынки, тем точнее должны были быть к ним маршруты. По мере распространения цивилизации знания о расстояниях и направлениях приобретали все большее значение. Подобно записям ранних астрологов, географические описания и рисунки, рассказывающие, как добраться из одного места в другое, наносились – тем или иным способом – на камень, папирус или пергамент. Почти ничего из этих записей не сохранилось.
Карты и глобусы «древних», о которых говорит Страбон, делятся на две большие группы: представления мира в целом и карты небольших участков местности. Какая группа возникла первой – неясно, так как на самых ранних картах изображение родного городка можно с тем же успехом рассматривать как карту мира, ибо человек, нарисовавший карту, изобразил на ней именно это: свой мир – плоскую поверхность, центр которой, или точку наблюдения, можно обозначить как X и пределы которой ограничены кругом горизонта, видимого из этой точки. Круг горизонта и круг мира расширялись в прямой пропорции к росту мобильности человека; он, вероятно, не раз задумывался над тем, как далеко нужно заехать, чтобы добраться до горизонта – места, откуда можно спрыгнуть вниз. Если говорить в масштабах наций, в мире в то время существовало несколько географических центров. Для эллинов центром мира была Греция, а центром Греции – Дельфы. Каждая нация в своем развитии проходила эту стадию, и в какой‑то момент у мира было столько же центров, сколько в нем существовало стран. Мир в форме диска – или по крайней мере то, что осталось от этой концепции со времен Гомера, – расширился в конце концов до того, что стал охватывать весь бассейн Средиземного моря, Черное море, Египет, Вавилон и Ассирию, но карт этого мира не существует. Все, что можно доказать на основании литературных источников, – что в дохристианскую эпоху такие карты существовали.
Самые ранние свидетельства изготовления карт исходят из Вавилона, где кадастровая съемка (то есть составление планов земельных владений) в целях налогообложения собственности проводилась еще во времена Саргона Аккадского (ок. 2300 г. до н. э.). В Британском музее имеются глиняные таблички, датируемые 2300–2100 гг. до н. э., с записями по земельной съемке. На одной из таких табличек грубо изображена часть Нижней Вавилонии в окружении «соленой реки», или Океана. Папирус, хранящийся в Туринском музее, изображает триумфальное возвращение Сети I (1366–1333 гг. до н. э.) из Сирии; на нем показана дорога из Пелузия в Героополь, украшенная изящными рисунками. Аполлоний Родосский, ставший библиотекарем Александрии в 196 г. до н. э., писал в своей «Аргонавтике», что обитатели Колхиды – колонии, возникшей во времена Рамсеса II (ок. 1250 г. до н. э.), – передают из поколения в поколение некие резные деревянные таблички, на которых точно изображены Земля, море, дороги и города. Существует и еще несколько образцов ранних карт и планов, изготовленных за тысячу или более лет до Анаксимандра, которого греки почитали как изобретателя картографии.
Даже в самых ранних литературных произведениях, имеющих отношение к картографии, можно обнаружить упоминания о карте мира – не важно, что думали в тот момент о размерах и форме Земли. Гекатей, так бойко писавший о своих путешествиях по всему миру, оставил после себя бронзовую табличку с выгравированной надписью «весь круг Земли, море и реки». Геродот сообщил, что около 500 г. до н. э. эту карту показывал Клеомену, царю Спарты, Аристагор, тиран Мнлета, пытавшийся организовать восстание против персов и нуждавшийся в помощи спартанцев. Эта карта, вероятно, представляла собой переработку более ранней карты, изготовленной Анаксимандром.
В комедии Аристофана «Облака» (423 г. до н. э.) на сцену выносили карту мира, на которой ученик Сократа показывал аудитории знакомые места, например Афины. Звучал следующий диалог:
«С т р е п с и о д. Так, а вот это (указывает на какой‑то геометрический инструмент); для чего оно?
У ч е н и к. Чтоб мерить Землю.
С т р е п с и о д. Надельную?
У ч е н и к. Да нет! Всю Землю… А здесь изображенье всей Вселенной. Вот Афины. Видишь?»
Демокрит из Абдеры (ок. 450–360 гг. до н. э.), выдвинувший вместе с Левкиппом атомарную теорию, изготовил карту обитаемой части мира. Дикеарх из Мессены, ученик Аристотеля (326–296 гг. до н. э.), составил описание Земли и проиллюстрировал его картами. По всей вероятности, частью его работы был также трактат о методе измерения высоты гор.
Имеются упоминания о достаточном количестве ранних глобусов, чтобы сделать вывод: глобусы стали довольно широко использоваться вскоре после того, как теория шарообразности Земли получила общее признание. В Музее Неаполя имеется глобус двухметрового диаметра, изготовленный, вне всякого сомнения, в IV в. до н. э. Глобус покоится на плечах человеческой фигуры, изображающей Атланта. Возможно, это создание Евдокса (ум. 386 г. до н. э.) – знаменитого астронома и философа. Арат из Солы (род. 315 г. до н. э.) в своем поэтическом произведении «Прогностика» упоминает имевшийся у него глобус. У Архимеда был стеклянный лунный глобус, внутри которого был подвешен маленький земной глобус. У геометра Герона из Александрии был такой же. Гиппарх, астроном‑библиотекарь, тоже пользовался в своей библиотеке глобусом. Примерно в 140 г. до н. э. Кратет из Маллы сделал глобус и отразил на нем концепцию мира, которой придерживались стоики.
Среди «Разных историй», собранных Элианом в III в. н. э., одна иллюстрирует развитие картографии вплоть до Страбона. «Когда Сократ увидел, как Алкивиад надувается от богатства, хвалится его обилием, а еще больше землями, он отвел его в одно место в городе, где помещена была таблица с изображением земного круга, и попросил его найти на ней Аттику. Когда Алкивиад нашел ее, Сократ попросил его показать на табличке принадлежащие ему земли. Когда же тот ответил: «Но они нигде не нарисованы», Сократ сказал: «Ну вот, значит, ты хвалишься ими, а они даже не являются частью Земли»». В 25 г. н. э. мало кто из людей мог подойти к карте и сказать: «Вот моя земля, а вот это моя страна». Мало кто мог назвать страны, лежащие на берегах «нашего моря», а пределы населенного мира в значительной степени оставались загадкой.
Глава II
Обитаемый мир
Если Земля – в самом деле шар, да еще большой (то есть хотя бы приближается по величине к размерам, названным Эратосфеном), то перед философами и астрономами, географами и геометрами вставало несколько интересных вопросов. Какая часть Земли пригодна для жизни и какая ее часть в самом деле обитаема? Безусловно, не вся. Ходили какие‑то слухи о далеких странах за Геркулесовыми столпами, а также в отдаленных районах Дальнего Востока. Если эти страны в самом деле существуют, то как далеко находятся они от цивилизованного мира, и как геометрам отделить обитаемую часть мира от той его части, где жизнь невозможна? Короче говоря, как можно разделить, классифицировать и упорядочить сферическую Землю, если опереться при этом практически не на что?
Дикеарх[13] из Мессены начал с того, что провел на карте прямую линию восток–запад через весь известный ему обитаемый мир. Эта «диафрагма» или «разделитель», как его называли, проходил от Геркулесовых столпов через Средиземное море вдоль гор Тавр и Имаус (Гималаи) к Восточному океану. Как прямая разделительная линия восток–запад, диафрагма не особенно удалась. Точное местонахождение ее западного конца даже триста лет спустя вызывало сомнения – по крайней мере, в географических кругах, и Страбон долго рассуждает о том, что когда‑нибудь в будущем, возможно, удастся определить положение столпов. Направляясь от столпов к востоку, линия быстро перестает быть прямой; по мере того как Дикеарх называет точки, через которые она должна пройти, линия отклоняется сначала к северу, затем к югу. К востоку от Средиземного моря линия пересекает горы, известные только по слухам, и доходит до океана, о существовании которого можно было только догадываться. Получалось, что разделить земной шар не так уж просто; в поисках отправной точки или линии, а также способа сделать так, чтобы линия всегда шла в нужном направлении, географы вновь обратились к небесам, а именно к Солнцу. Именно Солнце привнесло в картографию три первые разделительные линии, придавшие термину «параллель» определенное значение, – экватор, тропик Рака и тропик Козерога.
Главными фактами о поведении солнца в примитивной цивилизации владел каждый человек – пастух или фермер, рыбак или погонщик верблюдов. Как все живое, человек нуждается в солнечном тепле; мало того, солнечное тепло должно обеспечить ему средства к существованию, заставить расти траву и хлебные злаки. Человек знал, что именно солнце дает и поддерживает жизнь, а потому живо интересовался его привычками задолго до того, как жречество взяло на себя ответственность за ведение календаря и предсказание затмений. Человек начал изучать солнце раньше, чем поклоняться ему. Кое‑какие особенности нашего светила очевидны любому наблюдательному человеку – не считая того, что каждое утро оно поднимается в небеса в одной области неба и каждый вечер садится на противоположной стороне. Оно не всегда встает и садится в одном и том же месте. В определенное время года оно поднимается поздно, а садится рано; в другое время – встает рано, а садится поздно. Дуга, которую солнце описывает по небу, меняется день ото дня и от месяца к месяцу. Это важно, так как любое заметное изменение высоты солнца вызывает смену времен года. Меняется не только продолжительность дня и ночи, но и их температура. С этими изменениями связаны и цикл роста растений, и период размножения животных. В тот день, когда солнце стоит ниже всего над горизонтом, когда ночь длиннее всего, а солнце появляется так ненадолго, что не в состоянии согреть тело, – даже в этот день и час, сулящий телу одни лишь страдания, можно утешаться тем, что завтра тепла станет чуть больше, а ночь будет чуть короче, хотя, возможно, такой же холодной. Зимнее солнцестояние (21 декабря) праздновали задолго до рождения младенца Христа. Почему? Потому что после этого дня солнце возвращается в мир. Через три месяца, когда оно пройдет половину пути, а день и ночь сравняются (равноденствие), появится следующий повод для праздника; в это время жизнь бурлит, а все живое активно размножается. Возрождается не только земля, но и сама жизнь. В самый длинный день года, когда солнце поднимается в небесах выше всего и сияет в полном блеске, тоже есть повод для ликования; для многих это время жатвы, для других – просто время, когда в середине дня лучше не выходить из дома. В это время Шамаш действительно становился «губителем» и «сжигателем». И все же летнее солнцестояние (21 июня) олицетворяет все то хорошее, что дарует бог‑солнце смертному человеку. Вскоре вновь наступит осеннее равноденствие, и земля вновь начнет умирать.
Чтобы предсказать эти вещи, не нужны жрецы – точно так же, как не обязательно быть астрологом, чтобы сказать, что Полярная звезда год от года остается неподвижной, тогда как миллионы других звезд ходят вокруг нее справа налево. Подобные вещи общеизвестны, хотя необразованный человек и может на день‑другой ошибиться в определении момента этих фундаментальных солнечных перемен. Однако ориентация древних монументов, таких как монументы Стонхенджа, указывает, что древний человек использовал все доступные ему средства, чтобы точно отслеживать важные сезонные изменения. Он научился размещать метки таким образом, чтобы грубые средства позволяли отслеживать ежегодное перемещение точки восхода солнца с юга на север вдоль восточного горизонта и определять по нему, когда нужно праздновать и когда горевать. Египетские и халдейские жрецы усовершенствовали методы древнего человека и точно определили дни важных сезонных перемен, а греческие философы при помощи гномона и солнечных часов продвинулись еще на шаг вперед. Они спустили равноденствия и солнцестояния на землю и использовали их для составления карт.
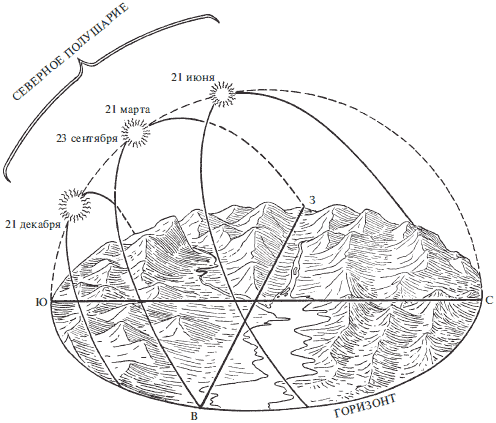
Примитивный человек знал поведение солнца изо дня в день и от года к году. Астрономы отметили дни равноденствий и солнцестояний
Гномон был инструментом поистине низкого происхождения. В самой примитивной форме это пастушеский посох, воткнутый в песок палаточный шест или любой другой стержень, дерево или вертикальная палка; отбрасывая тень, он тем самым указывает на солнце. Направление тени подсказывало пастуху или ростовщику время дня, а ее длина – время года. Для наблюдателя первое более очевидно, чем второе, но именно отношение длины гномона к длине отбрасываемой им тени было впервые применено в картографии и определило три первые широтные линии на карте. Равноденствие – когда день равен ночи – наступает дважды в год. Для обитателей Земли это середина между северным и южным пределами ежегодного солнечного паломничества по небесам. В дни равноденствия солнце встает на востоке и садится на западе; астрономы говорят, что в эти дни в полдень гномон на равноденственной линии не отбрасывает тени, так как солнце находится точно над головой. Равноденственная линия является одновременно и «экваториальной» – воображаемым большим кругом, проведенным под прямым углом к земной оси и разделяющим земной шар на Северное и Южное полушария. Астрономам это было известно давно, но долгое время этот факт никак не отражался на изготовлении карт в целом и на карте обитаемого мира в частности, поскольку район равноденственной, или экваториальной, линии считался непригодным для жизни, а значит, неинтересным для географов. Однако постепенно, с течением времени, географы и картографы позаимствовали у астрономов эту первую и самую понятную базовую линию. Можно назвать несколько неоспоримых ее достоинств. Во‑первых, она делит земной шар геометрически очень аккуратно – пополам, перпендикулярно к земной оси, что не может не нравиться математическому сообществу. Во‑вторых, ее удобно было использовать как базовую опорную линию, относительно которой можно было теоретически вычислять данные обитаемых районов земли, не покидая при этом пределов цивилизации. В‑третьих, эта линия подарила человечеству стандартный день. День равноденствия – средний день в отношении продолжительности светлого времени. Песочные часы и клепсидры (водяные часы) градуировали на основе длины именно этого – равноденственного – дня от восхода до заката; на них отмечали часовые, получасовые и четвертьчасовые промежутки. В этот же день устанавливали и точно ориентировали солнечные часы. Несомненно, существовало немало способов определить день равноденствия – для этого не обязательно было доверяться календарю или использовать вычисления астрономов, которые вряд ли были широко известны. Для любого из практических методов достаточно было иметь под рукой гномон или солнечные часы.


Самая ранняя известная карта (сверху), обнаруженная в Нузи возле Киркука, датируется периодом династии Саргона Аккадского, примерно 2400–2200 гг. до н. э. Вавилонская табличка снизу – план местности, датированный VI или VII в. до н. э.
Вторая и третья параллели, нанесенные на сферическую Землю, тоже были тесно связаны с экваториальной, или равноденственной, линией; кроме того, они были буквально параллельны ей. Страбон и его «древние» называли их, вполне логично, летним и зимним тропиками, так как эти линии отмечали две крайние точки годового пути Солнца и соответствовали в обитаемом мире Страбона летнему и зимнему сезону. Для Страбона летний тропик соответствовал максимальной высоте солнца и самому длинному дню года в Северном полушарии – летнему солнцестоянию; в этот момент на большей части обитаемого мира стояла жара. Позже этот тропик назвали тропиком Рака, так как в день солнцестояния на небе впервые появлялся Рак (лат. Cancer), четвертый знак зодиака. И любой житель Сиены знал, что во время летнего солнцестояния солнце стоит точно над головой, а указатель солнечных часов и гномон не отбрасывают тени. В этом факте сходилось большинство астрономов; его подтверждали Плиний и Арриан, ибо в Сиене «есть еще колодец, который отмечает летний тропик, по той причине, что район этот лежит под кругом тропика и потому гномоны в полдень не отбрасывают тени; ибо если ехать из наших мест, я имею в виду Грецию, на юг, то именно в Сиене солнце впервые будет у нас над головой и… его лучи также падают в колодцы до самой воды, даже если колодцы эти очень глубоки; ибо мы сами стоим перпендикулярно земле, и колодцы тоже копают перпендикулярно ее поверхности». В любое другое время тень гномона в Сиене падала «в сторону тьмы» и Полярной звезды и никогда в сторону равноденственного круга; это означало, что Сиена лежит на северном пределе солнечного подъема. В других же местах между Сиеной и экватором тень гномона падала иногда в одну сторону, иногда в другую, в зависимости от времени года. Кроме того, в любом из этих мест два дня в году солнце бывало точно над головой, а гномон не отбрасывал тени, и еще несколько дней так только казалось.
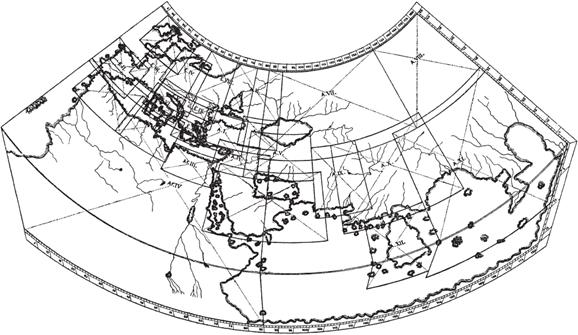
«Мы изготовим десять карт для Европы; мы изготовим четыре карты для Африки; для Азии мы изготовим двенадцать карт, чтобы включить ее всю…» Из описания карт Клавдия Птолемея, составленного около 150 г. н. э.
Вторая параллель, лежащая в Южном полушарии, – зимний тропик – была известна лишь теоретически. Наблюдения солнца в период зимнего солнцестояния проводились с большого расстояния: никто из греков не бывал в тех местах и не мог увидеть, как солнце проходит прямо над головой, и убедиться, что гномон не отбрасывает на землю тени. Было замечено, однако, что в день зимнего солнцестояния на горизонте впервые появляется Козерог (лат. Capricorn) – десятый знак зодиака. Так и получилось, что в последующих дискуссиях о тропиках в связи с положением различных мест и определением широт изучали всегда только летний тропик, лежащий в пределах обитаемого мира. Стандартным показателем широты стала длительность самого долгого дня в году, выраженная в часах; о длительности же самого короткого дня ничего не говорилось. Множество споров вызывал и вопрос о том, где именно следует поместить эти три параллели по отношению к известным пунктам на Земле, а следовательно – и на карте. Проблемой было также выяснить положение промежуточных линий (параллелей), если они находились слишком далеко друг от друга, чтобы непосредственно измерить расстояние. Еще один вопрос: как далеко один от другого расположены тропики и каково расстояние от каждого из них до экватора?
Астрономам известны были ответы на эти вопросы, так как они составляли основу исследований эклиптики – воображаемого большого небесного круга, названного так потому, что именно на нем происходили солнечные и лунные затмения. Эклиптику определяют по‑разному, причем каждое из определений описывает одно или несколько следствий того факта, что ось Земли расположена под углом к оси небесной сферы. Точно так же проекция земного экватора на небесную сферу не совпадает с небесным экватором, а образует на ней наклонную окружность[14]; следовательно, плоскость эклиптики наклонена по отношению к плоскости небесного экватора.
Эклиптику определяют как проекцию видимого пути Солнца на небесную сферу – то есть как путь Солнца среди звезд[15]. Древним астрономам было очевидно, что плоскость эклиптики не совпадает с плоскостью земного экватора. Следовательно, ось Земли не может совпадать с осью небесной сферы. Самая понятная демонстрация наклона эклиптики – годовой путь Солнца; астрономы быстро поняли, что угол между эклиптикой и плоскостью экватора соответствует дуге между Солнцем в равноденствие и Солнцем на тропике Рака (в летнее солнцестояние) или Козерога (в зимнее солнцестояние). Греческие астрономы традиционно считали угол наклона эклиптики равным 24°. О том, каким образом был определен этот угол, ничего не говорится. Греческие математики получили эту же величину геометрическими способами. Они говорили, что угол наклона эклиптики равен углу, который образует в центре окружности сторона вписанного в окружность правильного пятнадцатиугольника – то есть 24°. Феон из Александрии утверждал, что Эратосфен оценил эту величину более точно; он утверждал, что угловое расстояние между двумя тропиками составляет 11/83 меридионального круга, или 47°42'40". Исходя из этого, угол наклона эклиптики, то есть угловое расстояние между экватором и любым из тропиков, составит половину этой величины, или 23°51'20". В реальности эта величина в то время должна была составлять 23°45'04". В настоящее время она составляет приблизительно 23°26'46"[16].
Определение астрономического положения тропиков ни в коем случае не решило проблемы установления широтных параллелей; тем не менее оно указало путь. Астрономы дали картографам первые три разделительные линии восток–запад, в буквальном смысле слова параллельные между собой, и установили пределы двух тропических (жарких) зон, или «климатов». С помощью их данных оказалось возможным определить теоретически местонахождение двух арктических (морозных) зон; своим происхождением эти зоны тоже обязаны астрономам, картографы же использовали их и нанесли на карту.
Ранние греческие астрономы использовали понятие «арктический круг» не в отношении морозных областей земли около полюсов; для них этот термин имел отношение к звездной сфере. Наш арктический, или полярный, круг – на карте и на земле – зафиксирован для удобства на широте 66°30'; в греческой же астрономии положение арктического круга менялось в зависимости от позиции наблюдателя и от его горизонта. На экваторе, например, арктического круга просто не было, так как все звезды Большой Медведицы опускались под горизонт. Не было его и в любой точке Южного полушария. Однако севернее экватора – в таких местах, как Александрия или Массалия, – арктический круг можно было определить как круг на небесной сфере, который включает в себя все незаходящие звезды, в том числе Полярную; другими словами, этот «круг» всегда касается горизонта наблюдателя (в точке севера)[17].
Следовательно, с продвижением наблюдателя к северу радиус арктического круга увеличивается. Кроме того, радиус арктического круга с Полярной звездой вблизи центра может служить указателем широты наблюдателя. Другими словами, при движении от экватора на север угловая высота Полярной звезды растет в той же пропорции, что и радиус арктического круга, так что на полюсе угловая высота Полярной звезды составит 90°, а окружность арктического круга будет равна окружности, касательной к горизонту под углом 24°[18].
По всей видимости, первым перенес арктический круг на землю Пифей в своем рассказе об острове Туле. Говоря о широте острова, он утверждает, что это самое северное населенное место, а арктический круг на Туле равновелик летнему тропику (тропику Рака). Это означает, что зенитное расстояние Полярной звезды на Туле такое же, как угловая высота летнего тропика над экватором, а именно – около 24°, и это есть примерное расстояние от полярного (арктического) круга до Северного полюса. Другими словами, если Пифей, подобно Эратосфену и Страбону, помещал летний тропик в 24° к северу от экватора, то широта Туле должна быть 66°, то есть дополнительной к широте летнего тропика.
У ранних греческих авторов и, разумеется, у Страбона можно встретить многочисленные упоминания «арктического круга» именно в смысле первого определения. Так, говоря о широте различных мест обитаемого мира, Страбон указывает: «Народ, производящий корицу, – первый, для кого Малая Медведица полностью находится внутри арктического круга и всегда видна; ибо яркая звезда на кончике хвоста, самая южная в этом созвездии, расположена там на самой окружности арктического круга и, соответственно, касается горизонта». Он мог бы сказать то же самое гораздо проще: высота Полярной звезды (широта) в стране, где рождается корица (Сомали), равняется длине Малой Медведицы, или составляет столько же градусов и минут дуги. Таким образом, тогда существовало два арктических круга: один из них был подвижен относительно земли и менялся в размере в зависимости от позиции наблюдателя, а второй – зафиксирован математически, как на современных картах. По всей видимости, в то время, когда Страбон изучал этот вопрос, широко использовались оба понятия.
Кроме трех первичных зон, или «климатов» (греч. «наклон»), определяемых по движению Солнца и принятых равно астрономами и географами, существовали и другие. На самом деле климаты служили предметом бесконечных споров между «достойными» Страбона. Сколько существует климатов и как их можно определить – буквально и метафорически? И как связаны между собой различные климаты и пригодность Земли для жизни? Фалес и Пифагор разделили сферу Вселенной на пять климатов, или зон: арктическую, видимую всегда; летнюю тропическую; экваториальную зону; зимнюю тропическую; и антарктическую, которую не видно никогда. Позже эти звездные круги были перенесены на землю, а оттуда – на карту мира. Консерваторам хватало для разделения земли пяти зон: «жаркой», включающей полосу земли между двумя тропиками; двух «умеренных» зон, лежащих между тропиками и арктическими кругами (зафиксированными); и двух «холодных» зон, протянувшихся от двух неподвижных арктических кругов к каждому из полюсов. Самые дотошные настаивали на разделении тропической зоны по экватору на две – северную и южную. Наверное, мало кто подозревал, что северная тропическая зона может быть пригодна для жизни вплоть до самого экватора; и уж совсем никто, даже из самых отчаянных, не осмеливался предположить, что пригодной для жизни может оказаться жаркая зона к югу от экватора. Некоторые, включая Посидония, делили землю на семь зон; при этом в тропической зоне выделяли еще две узкие зоны по обе стороны от экватора – примерно по пять градусов, – где солнце примерно по полмесяца в год стоит прямо или почти прямо над головой. Говорили, что эти сверхжаркие зоны в буквальном смысле слова прожарены насквозь. Страбон писал, что местность там песчаная и «не производит ничего, кроме сильфиума [терпентинного кустарника] и некоторых едких фруктов, сморщенных от жары; ибо вблизи этих местностей нет гор, на которых тучи могли бы останавливаться и давать дождь, да и рек там нет; по этой причине в тех местах родятся существа с волосами, напоминающими шерсть, с изогнутыми рогами, с выступающими губами и плоскими носами (ибо выступающие части тела у них деформируются от жары); также в этих местах живут «рыбоеды»». Ни Посидоний, ни Страбон не давали себе труда объяснять, каким образом рыбоеды умудряются существовать в местности, где нет рек, где все прожарено и сморщено от жары.
Вне зависимости от количества зон, на которые географы делили сферическую Землю, о мире за пределами Средиземноморья кое‑что все же было известно. Ясно было, что некоторые части внешнего мира были слишком жарки для жизни человека, в других же невыносимо холодно. Непосредственного знакомства с полуденным солнцем Верхнего Египта было достаточно, чтобы убедить любого человека в том, что где‑то совсем близко на юге лежит предел, за которым человеку не выжить. Логично было также считать, что в пустынных северных областях Европы и Азии, где солнце если и появляется каждый день, то лишь ненадолго, должен быть предел, дальше которого человек, не говоря уже о растительности, погибнет от холода. Где же лежат пределы мира, пригодного для жизни? В поисках географам приходилось опираться в основном на слухи и недостоверные рассказы путешественников и моряков. Как далеко приходилось им бывать, и что могли они видеть на окраинах известного мира?
Большинство авторов того времени сходятся в том, что обитаемый мир ограничивается северным умеренным поясом, который и сам на тот момент был определен не слишком точно. Кроме того, опыт подсказывал, что обитаема лишь небольшая часть этой зоны; считалось, что ни один человек не путешествовал за Геркулесовы столпы; на востоке обитаемый мир ограничивали Индией. Оба предела, однако, вызывали сильные сомнения. Даже во времена Страбона не было известно точное положение Геркулесовых столпов, и он подробно рассуждает о том, можно ли установить в этом районе надежные ориентиры для будущих географов и путешественников. Тимей рассказывал, что за Столпами находятся острова Фортуны, но большинство географов относились к этому скептически. И конечно, Платон писал об Атлантиде – гигантской земле, размерами напоминающей континент, – лежавшей далеко к западу от столпов. В то же время сам Платон признавал, что этот остров‑континент исчез в водах Океана за три тысячи лет до его времени, и само это обстоятельство бросало на весь его рассказ тень сомнения. Что же касается восточной оконечности обитаемого мира, то люди, конечно, дали ей название, но о реальном положении Индии и Восточного океана не было практически никаких достоверных данных. Аристотель, однако, осмелился предположить, что западная часть умеренной зоны на другой стороне земного шара могла бы в принципе оказаться пригодной для жизни, если бы ее не заполнял океан, который невозможно пересечь. Вот и все, что можно было сказать о протяженности обитаемого мира.
Ширина его с юга на север представлялась еще более неопределенной. Остров Мероэ, лежащий между Атбарой и Нилом, был хорошо известен, но дальше к югу все виделось уже несколько расплывчато. Грубо говоря, южные пределы включали в себя остров Беглых Египтян, остров Тапробан (Цейлон) и страну, где растет корица (Коричную землю); предполагалось, что эти три места расположены примерно в 3400 стадиях (340 миль) к югу от Мероэ. В этом вопросе Аристотель тоже подставился – он предположил, что в Южном полушарии теоретически может существовать умеренный пояс, похожий на наш; но, добавляет он, если бы такая зона существовала, то в ней должны были бы дуть такие же ветры, как в северной умеренной зоне.
На севере, за Британией и Иерне (Ирландией), географы столкнулись с еще более серьезной проблемой – проблемой острова Туле. О его существовании, местоположении и названии рассказал астроном и географ Пифей, живший и писавший в Массалии (Марселе). Пифей – персонаж очень темный; о нем не известно ничего, даже время, когда он жил; его труды (утерянные) быши бы полностью забыты, если бы не несколько сделанных им абсурдных утверждений. Некоторые из его утверждений казались людям образованным – таким как Эратосфен и Страбон – настолько бредовыми, что эти ученые люди, вместо того чтобы полностью игнорировать невежду, как принято в академических кругах, внимательно вчитывались в его слова и обнаруживали, что имеют дело с достойным доверия астрономом; такого человека не грех и покритиковать публично.
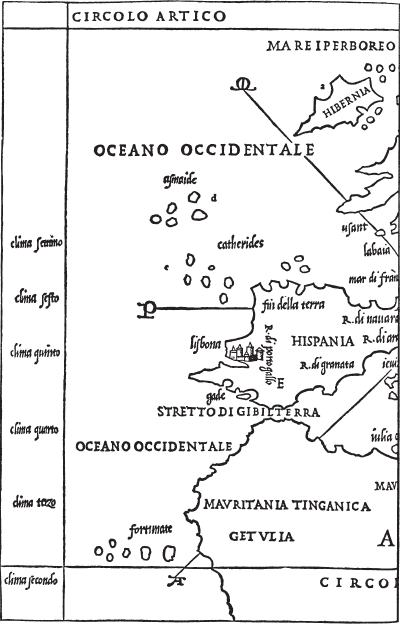
Итальянская карта Западной Европы. Показано вероятное расположение островов Фортуны, о которых первым сообщил Тимей около 352 г. до н. э.
Туле, согласно Пифею, располагался в шести днях пути к северу от Британии, поблизости от замерзшего моря. К северу от Туле, рассказывал Пифей, уже не существует различия между землей, воздухом и морем. Вместо этого там можно увидеть фантастическую смесь всех трех веществ – желеобразную суспензию, напоминающую тело медузы; это, конечно, делает там плавание по морю, не говоря уж о жизни человека, невозможным. Пифей будто бы видел это своими глазами, когда ездил в северную часть Британии в поисках предела обитаемого мира. Это уж слишком! Страбон назвал его архилжецом, чьим утверждениям ни по одному вопросу нельзя доверять. Полибий вообще отбросил всю эту историю как «сказочную». Вследствие этого мало кто поверил, когда Пифей достаточно точно описал западное и северо‑западное побережье Европы, включая полуостров Бретань, и далекие Британские острова. Кое‑кто, однако, готов был с большим доверием отнестись к утверждению Пифея о том, что в холодных областях севернее Туле день вблизи летнего солнцестояния длится двадцать четыре часа в сутки; этот факт астрономы теоретически могли вывести и сами, он вполне вписывался в их представления о мире. Однако греческим философам не слишком хотелось вплотную заниматься изучением конкретных фактов – и об экваториальной зоне, и о пустынных арктических районах к северу от Британии. Некоторые астрономы и геометры вообще избегали вопроса об установлении точного географического положения пределов обитаемого мира. Вместо этого они занимались общими рассуждениями и не интересовались ничем, кроме формы Земли и особенно ее пропорций. Так, например, большинство авторов сходились на том, что обитаемый мир имеет большую протяженность с запада на восток (длину), чем с севера на юг (ширину). Демокрит сказал, что ширина обитаемого мира в два раза превосходит его длину; Дикеарх согласился. Евдокс сказал, что длина мира, вероятно, в два раза больше ширины, а некоторые экстремисты, вроде Эратосфена, настаивали даже, что длина мира более чем в два раза превосходит его ширину. Дискуссии такого рода, базировавшиеся исключительно на предположениях, никак не помогали составлять карты, но о них все же следует упомянуть; позже, когда появились кое‑какие измерительные данные, географы иногда склонны были подгонять свои расчеты под устаревшие представления о пропорциях мира в ущерб здравому смыслу.
Более практически настроенные люди того времени не согласны были изучать свой мир, основываясь при этом исключительно на подобном философском жаргоне. Они понимали необходимость разработки точного способа измерения климатических зон, поскольку, как говорит Страбон, «невозможно определить, находится ли Александрия Египетская южнее или севернее Вавилона и насколько южнее или севернее, без изучения этого вопроса средствами «климатов»». Говоря об изучении вопроса, Страбон подразумевал непосредственное измерение широт или параллелей – воображаемых линий на земной поверхности, параллельных друг другу и экватору. «В настоящее время практика наблюдения разницы по широте, – продолжает он, – не ограничивается одним‑единственным способом, но там, где эта разница больше, используется один метод, а там, где меньше, – другой». Он указывает, что между широтами Афин, Родоса и Карии есть заметная разница, но в том случае, когда разница по широте составляет три или четыре тысячи миль, заметной становится и разница в длительности времен года, в характере растительности, даже в животных и народах. «Некоторые народы, – замечает он, – процветают на любой широте, благодаря обучению и привычке».
Имея дело с небольшой разницей по широте, говорит Страбон, вместо того чтобы опираться на свидетельства, видимые невооруженным глазом (например, растения или изменения в атмосфере и температуре), «мы наблюдаем эту разницу с помощью солнечных часов и диоптрических инструментов». Страбон не указывает, что это за инструменты и как ими пользоваться; если такие картографические инструменты в то время существовали и использовались, то по результатам этого не видно. Пункты обитаемого мира, для которых была известна широта, представляли собой небрежно собранную цепочку, причем каждое звено ее можно было считать слабым. Единственным источником прочности цепочки служил экватор – как минимум надежная отправная линия. Широты измерялись геометрически с помощью специальных солнечных часов или простого гномона; несмотря на то что астрономы и геометры делили круг на 360 частей, широту не выражали в градусах и минутах дуги. Вместо этого ее выражали отношением между высотой указателя и длиной тени, которую тот отбрасывал в один из четырех дней в году. Даже мысль о том, что можно определить широту любого места в любой день года, в дискуссии не упоминалась.
Еще один инструмент для определения широты различных мест – астролябию или измеритель звезд – астрономы начали использовать, несомненно, за сотни лет до христианской эры, но описаний, по которым ее можно было бы узнать наверняка, не сохранилось. Если описать простейшую астролябию простейшими словами, мы получим плоский круг из металла или дерева, закрепленный на чем‑то или переносной, периметр которого разделен на 60 или 360 равных частей. В центре круга на оси закреплена трубка или стержень (визир), служащий одновременно и прицелом для наблюдателя, и указателем увиденного угла. Астрономы использовали астролябию и в вертикальном, и в горизонтальном положении; вообще говоря, ее можно было приспособить для измерения углов в совершенно произвольной плоскости. С помощью этого прибора измеряли как высоту Солнца или звезды над горизонтом, так и любые другие угловые расстояния на звездном небе.
Даже самая примитивная астролябия как инструмент измерения углов представляла собой громадный шаг вперед по сравнению с гномоном и солнечными часами. Она была гораздо более адаптабельна – ведь с ее помощью можно было измерять любые углы, тогда как гномон и солнечные часы позволяли измерять только высоту Солнца. Точность и сложный характер данных, собранных египетскими и халдейскими астрономами, указывают на то, что какое‑то устройство для измерения углов, напоминающее астролябию, существовало еще за несколько тысяч лет до возникновения греческой астрономии. Через шестнадцать столетий после рождения Христа астролябией все еще пользовались; единственное, что изменилось, – в ее первоначальной конструкции появились усовершенствования, призванные повысить точность прибора и удобство работы с ним.
Широту места измеряли также с помощью песочных часов или клепсидры и выражали в этом случае в часах как продолжительность самого длинного дня в году. Конечно, астрономам было прекрасно известно, что продолжительность светового дня во время летнего солнцестояния является мерилом широты. Фактически это был просто другой способ записи угловой высоты Солнца (вполне современный, если добавить к этому Морской альманах), так как продолжительность самого длинного дня в часах и минутах прямо пропорциональна угловой высоте Солнца. Как ни странно, по‑видимому, именно Пифей из Массалии первым предложил определять таким образом пределы разных климатических зон, а в приложении к Земле – широту местности. Метод приобрел популярность у географов и изготовителей карт и продолжал широко использоваться даже в XVI в., когда его наконец вытеснили Солнечные таблицы и усовершенствованные угломерные инструменты.
Страбон во многих отношениях был интеллектуальным снобом. Когда дело доходило до оценки трудов его предшественников на ниве географии, он делал вывод, что большинство из них недостойны его критики, и просто игнорировал их. Среди немногих ученых мужей, удостоившихся его критики, были Эратосфен и Гиппарх. С точки зрения Страбона, оба они были философами, а чтобы достичь величия, быть философом совершенно необходимо. «Обширной ученостью, – пишет Страбон, – которая одна только дает возможность заниматься географией, может обладать исключительно муж, изучавший предметы и человеческие, и божественные, знание которых, как говорят, и составляет философию». Как настоящий стоик, Страбон не мог себе позволить удивление и восхищение обширными знаниями и достижениями этих двух ученых мужей, и тем не менее он воздал им должное: раскритиковал их труды в мельчайших подробностях.
Когда Эратосфен прибыл в Александрию, чтобы принять пост библиотекаря, условная карта мира обретала свою окончательную форму. Уже в Александрии Эратосфен написал две математические работы, одна из которых называлась «О средствах»; он основал научную систему хронологии, написал астрономическую поэму «Гермес» и, самое важное, он создал «Географику» в трех книгах. Он вполне справедливо дал самому себе прозвище Филолог (в том смысле, что он «друг учености»).
Эратосфен считал, что его предшественникам в области картографии нечем гордиться. В собственной работе он предпринял ревизию фундаментальных принципов этого предмета и одновременно добавил кое‑что из физики (метеорологию), чего там очень не хватало, и математики. Даже Страбон, самый строгий критик Эратосфена, считал это достойным похвалы. Он собрал воедино открытия и выводы астрономов, которых Земля интересовала в первую очередь как небесное тело, и только потом как место обитания человека и других живых существ, и добавил к ним практические достижения математиков и философов. Он активно пользовался данными, собранными за долгое время историками и географами, которые изучали человечество в его отношениях со средой обитания. Результатом стал большой шаг вперед к созданию разумной систематической концепции Земли и ее обитателей.
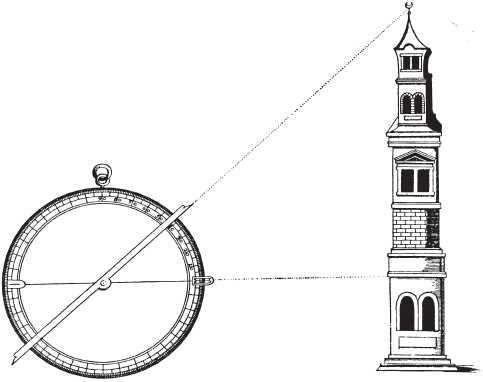
С помощью простой астролябии, возникшей еще в древности, можно было измерить любую угловую высоту. Позже астролябию проградуировали, разделив на 360 частей, и получился точный прибор широкого назначения
В отношении Вселенной в целом Эратосфен был согласен с большинством теорий, принятых среди астрономов со времен Евклида и Аристотеля, то есть примерно с 300 г. до н. э. Земля – шар, расположенный в центре сферической Вселенной; вокруг нее каждый день обращаются небесные тела. Солнце и Луна имеют собственное независимое движение. Горизонт образует плоскость, проходящая «от нас» к небесам и ограничивающая видимую с земли полусферу. Сам горизонт представляет собой окружность, «ибо если сферу рассечь плоскостью, в сечении получится окружность». «Меридиан» он определил как круг, проходящий через полюса сферической Земли и под прямым углом к горизонту; таким образом, это тоже большой круг. Большим кругом является и равноденственная, или экваториальная, линия, проведенная посередине между двумя полюсами земной оси в плоскости ей перпендикулярной. Эта линия, где день и ночь равны, располагается на полпути между пределами Северного и Южного тропиков. Еще один большой круг – зодиакальный путь, или эклиптика; она представляет собой плоскость, в которой Солнце совершает свой видимый с Земли годовой путь. Древние разделили этот круг на 12 равных частей или «знаков» по 30° каждый. Угол наклона большого круга эклиптики к равноденственной линии на тот момент еще только предстояло определить.
Эратосфен утверждал – вслед за Аристотелем и другими, кто верил в связь между широтой места и его пригодностью для жизни, – что пригодная к обитанию часть мира образует «полный круг и соединяется сама с собой; так что, если бы удалось преодолеть безмерность моря, мы могли бы проплыть от Иберии [Испания и Португалия] до Индии вдоль одной и той же параллели через остальную часть круга». Под остальной частью имеется в виду длина земной окружности за вычетом протяженности обитаемого мира – протяженности, которую Эратосфен оценивал в 7780 миль от океана до океана. Страбон соглашается с ним в этом пункте и дальше говорит, что под обитаемым миром мы подразумеваем ту часть мира, в которой мы живем и которую знаем. «Может так быть, – говорит он, – что в этой же самой умеренной зоне на самом деле существуют два обитаемых мира, или даже больше, в особенности вблизи параллели Афин» (37°58' с. ш.), что приблизительно соответствует широте Ричмонда в штате Вирджиния.
Эратосфен считал, что в ученой среде было слишком много пустых разговоров о разделении мира на континенты; это делали те, кто, подобно Демокриту, предпочитал жить исключительно дискуссиями. На самом же деле, если не установить точных границ, «из каменных столбов, например, или ограждений», то невозможно будет сколько‑нибудь точно эти границы различать. Говоря об этом, Эратосфен, возможно, думал о книге Гекатея Милетского «Период» – географическом описании мира, включавшем все известные на тот момент (520 г. до н. э.) грекам страны. Гекатей поделил пригодный для жизни мир на два огромных континента – Азию и Европу – и сделал их равными по размеру. Он также сделал заявление относительно вод Нила – предмете вечных споров и предположений – в том смысле, что источником их является кругосветный Океан, который периодически разливается и пополняет собой все реки мира. Это противоречило общепринятой на тот момент теории, которую приписывали жрецу храма Афины. Эта теория помещала исток Нила на границу Египта между Сиеной и Элефантиной. Это место будто бы отмечали две высоких горы, Крофи и Мофи, а между ними располагалась бездонная пропасть, из которой и поднимались воды вверх, на землю, причем половина их изливалась на север, в Египет, а половина – в Эфиопию. В таком же иррациональном стиле Эфор, автор трактата «О Европе», разделил мир на четыре части: Индия, Эфиопия, земля кельтов и земля скифов; он даже не попытался определить границы этих частей. Разделение мира подобными способами не казалось Эратосфену удовлетворительным; не одобрял он и тех авторов, кто делил все человечество на две группы, а именно на греков и варваров. Он считал, что разумнее было бы делить людей в соответствии с их поведением – ведь не все варвары плохи, точно так же, как не все греки благородны.
Следуя образцу, оставленному то ли Полибием, то ли Дикеархом, Эратосфен тоже нарисовал карту обитаемого мира. Он начал с того, что ограничил ее исключительно Северным полушарием и примерно одной третьей частью пояса, лежащего преимущественно в пределах умеренной зоны. Затем он, подобно Дикеарху, разделил свой мир на северную и южную части линией восток–запад, или диафрагмой, проведенной параллельно экватору через известные места, лежащие, как он полагал, на одной широте. На этот раз западный конец линии пришелся на Священный мыс (самую западную точку Иберийского полуострова), лежащий на другом берегу пролива напротив Геркулесовых столпов. Оттуда линия шла на восток через все Средиземное море – через краешек Сицилийского пролива, через южные мысы Пелопоннеса (Мореи), через Аттику и остров Родос к заливу Исса на восточной оконечности Средиземного моря. Дальше она продолжалась вдоль горного хребта Тавр, «отрогов и отдаленных пиков той горной цепи, по которой проходит северная граница Индии». Вообще об Индии Эратосфен высказывается неуверенно и явно считает, что в этом районе мира есть еще что изучать. Так, например, ее следовало бы передвинуть на картах дальше к северу. Страбон тоже сетовал на недостаток знаний об Индии и презрительно отзывался об авторах, которые рассказывали о людях без рта, людях с одним глазом (посередине лба), людях с отгибающимися назад пальцами и о других, которые спали в собственных ушах – используя их, предположительно, в качестве спального мешка. Разговоры такого рода слишком живо напоминали ему о Пифее.
Естественно, человек, занимавший такое положение, какое занимал Эратосфен, способен был без колебаний назвать точные размеры своего обитаемого мира. Он пишет, что длина его от Западного океана до Восточного составляет 7800 миль; остальные две трети этого пояса занимает море. Ширина обитаемого мира, от Коричной земли на юге до острова Туле на севере, равняется 3800 миль.
Страбон обвинил Эратосфена в том, что тот преувеличил протяженность обитаемого мира с востока на запад, чтобы подогнать его размеры под общепринятую концепцию, которая требовала, чтобы длина обитаемого мира больше чем в два раза превосходила его ширину. Страбон считал, что Эратосфен добавил к Европе выступ на запад, за Геркулесовы столпы, «который лежит за Иберией и выступает на запад». Он добавил также несколько мысов, в частности мыс Остимиан (полуостров Бретань или, более конкретно, Пуан‑дю‑Ра), и прилегающие острова, самым внешним из которых был Уксизаме (Уэссан), лежавший, по утверждению Пифея, за Геркулесовыми столпами на расстоянии трех дней пути. На такое беззастенчивое раздувание размеров обитаемого мира Страбон возражал, что все эти места на самом деле лежат к северу, а не к западу от столпов и относятся к Кельтике, а не к Иберии, «а скорее всего они – просто изобретение Пифея».
Кроме разделительной линии восток–запад, Эратосфен ввел еще и линию север–юг, под прямым углом к первой, – меридиан, проведенный через город Александрию. На крайнем юге этот меридиан пересекал параллель Коричной страны, Тапробана и острова Беглых Египтян. Оттуда к северу он шел через Мероэ, Александрию, Родос, Византий, устье Борисфена (Днепра) и продолжался до параллели Туле; он пересекал всю ширину обитаемого мира в 3800 миль. Страбон готов был принять названные Эратосфеном расстояния между всеми этими пунктами, за исключением одного – расстояния от Борисфена до Туле; он объяснил это тем, что единственным авторитетом по Туле и его местоположению является небезызвестный «архифальсификатор» Пифей.
К большому сожалению Страбона, Эратосфен, добавляя к своей карте мира новые линии для разделения его на удобные куски, никогда не был слишком аккуратным, да и законы геометрии соблюдал не всегда. Он проводил свои параллели через знакомые места вроде Мероэ, Александрии и Родоса, вместо того чтобы проводить их на равном расстоянии от равноденственной линии и летнего тропика. Более того, создается впечатление, что свои разделительные линии север–юг (меридианы) он проводил так, как душе его было угодно – практически без всяких реальных оснований. Всего Эратосфен провел на разных расстояниях девять таких линий – он продлил их от первоначальной параллели на север и юг через знакомые места, начиная с Уксизаме и Священного мыса на западе через Геркулесовы столпы (ныне Гибралтарский пролив), Сицилию, Родос и Борисфен, Евфрат, устье Персидского залива, устье Инда, загадочный полуостров Тамарум (Тамус) на восточной оконечности гор Тавр и полуостров Кониаки (мыс Коморин). Проводя меридианы, Эратосфен вынужден был делать предположения, и вот они‑то оказались не слишком удачными. Страбон не доверял указанным Эратосфеном расстояниям между меридианами; несмотря на то что Гиппарх позже предположил, что ситуацию могло бы разрешить одновременное наблюдение лунных затмений в разных точках обитаемого мира, и Эратосфен, и другие думающие люди понимали, что не существует устройства, которое позволило бы сколько‑нибудь точно отмерять часы, минуты и секунды. Не существовало и способа провести одновременные наблюдения в двух далеко отстоящих друг от друга точках. «То, какими вещи кажутся на глаз, – пишет Страбон, – и согласие всех наблюдателей больше достойны доверия, чем любой инструмент». Возможно, в кругу знакомых Страбона дело обстояло именно так. Он считал, что гораздо надежнее оценивать расстояния с востока на запад по сходству или различию преобладающих ветров; может помочь также сравнение положения звезд на небе.
В целом карта мира, предложенная Эратосфеном, казалась Страбону приемлемой; ему не нравилось лишь, что некоторые расстояния на ней представляют собой всего лишь оценки, а линии решетки проведены достаточно произвольно и на разных расстояниях. Страбон считал, что необходима какая‑то «мера» – стандарт измерений, с помощью которого геометрические величины можно было бы более точно переводить в линейные размеры и таким образом представлять места на карте в их подлинном соотношении. В то же время Страбон считал, что геометры и астрономы отнеслись к Эратосфену слишком сурово, когда потребовали, чтобы каждый размер на его карте был точен, – ведь он делил мир на части не геометрически, а для удобства и практичности. Он указывает своим читателям, что Эратосфен создавал сетку для своей карты без помощи инструментов, таких как гномон или солнечные часы, и часто использовал в тексте фразу «на более или менее прямой линии»; исходя из этого, критикам следовало бы быть более терпимыми.
По оценке Страбона, гораздо важнее то, что источники, которыми пользовался Эратосфен, не всегда достоверны, а о некоторых частях мира он просто ничего не знал. Если верить Страбону, Эратосфен ничего не знал об Иберии и Кельтике и не имел никакого понятия о Германии и Британии. Менее удивительно отсутствие у него информации о странах гетанов и бастарниан, поскольку в обоих случаях не было никакой уверенности в том, где именно располагаются эти страны и что они собой представляют. «В самом деле, – пишет Страбон, – в том, что касается географии отдаленных стран, нам не стоит критиковать его столь же придирчиво, как мы делаем это в отношении континентального побережья и других хорошо известных мест; нет, даже в случае ближних мест нам следует применять к его картам не геометрические, а скорее географические критерии».
Эратосфен сделал первый шаг к созданию упорядоченного портрета обитаемого мира, но даже его современникам предложенная им произвольная сетка параллелей и меридианов вовсе не показалась удовлетворительной; что уж говорить о тех, кто пришел позже. Его мир представлял собой причудливую смесь догадок и логических выводов, примитивной геометрии и достаточного количества прикладной астрономии; все это только добавляло путаницы. В результате получилась достаточно плохая карта. Места, положение которых можно было определить относительно других мест, были редки и находились далеко одно от другого, поэтому проведенные Эратосфеном пересекающиеся линии располагались на разных расстояниях друг от друга, да и точность их вызывала сомнения. Промежутки же можно было заполнять исключительно «на глаз». Если географам казалось, что два места лежат на равном расстоянии от экватора, если их климат и растительность были в основном схожи между собой, то этого было достаточно, чтобы поместить их на одной параллели – так должно быть. Возможности же точного определения долготы безнадежно отставали от потребностей реальной жизни.
Карта Эратосфена вызвала особенно сильное неприятие у Гиппарха – астронома и математика. Он считал, что существуют значительно более разумные и научные способы разделить на части обитаемый мир и мир в целом. В таком ключе он написал резкую обличительную работу «Против Эратосфена», содержание которой в точности соответствовало заголовку. В ней он потратил множество усилий на то, чтобы продемонстрировать, с каким некомпетентным и небрежным ученым ему приходится иметь дело, и опровергнуть большую часть его географических выводов, хотя сам Гиппарх и не был географом. Он критиковал Эратосфена за полное пренебрежение научной точностью при изготовлении карт, хотя всем должно быть очевидно, что при отсутствии научных данных о научной точности говорить не приходится. Но Гиппарх походя сделал одно предложение, которому суждено было изменить пути развития картографии; его предложение было вполне логичным, хотя на тот момент и не слишком годилось для реализации. Почему не провести все климаты так, чтобы они действительно оказались параллельны равноденственной линии, и не провести целую серию их через равные интервалы от экватора к полюсам? И почему не построить серию линий, идущих под прямым углом к параллелям, – больших кругов, проходящих через оба полюса на равных расстояниях по экватору? Почему не построить таким образом для сферической Земли упорядоченную геометрическую сетку?
Чтобы достигнуть этого идеала, говорит Гиппарх, местоположение параллелей следует определять только с помощью астрономических наблюдений, а ширину каждой зоны между параллелями – пояса или «климата» – по продолжительности самого длинного дня в году. В теории эта схема должна была привести к созданию такой же сетки, как и чисто геометрическое построение, но на практике такое распределение параллелей и меридианов было невозможно – добраться из одного места в другое было очень сложно, а путешественники упорно не хотели привозить из своих странствий ничего, кроме туманных рассказов об увиденном. Мало было надежды встретить купца или политика, который проводил бы наблюдения звездного неба или расспрашивал местных жителей о продолжительности самого длинного дня в году; мало кого из путешественников вообще интересовали научные вопросы. Более того, такая система не соответствовала требованиям расположения параллелей через равные интервалы вдоль главного меридиана; выяснилось, что зона или «климат», где самый длинный день в году продолжается от 14 до 15 часов, тянется по широте на 10 градусов 32 минуты, а зона, где этот день продолжается от 19 до 20 часов, – всего на 2 градуса 53 минуты. Что же касается равноудаленных меридианов, то это вообще была всего лишь красивая идея; реализовать ее можно было только в том случае, когда и если было бы изобретено устройство, позволяющее точно отмерять время.
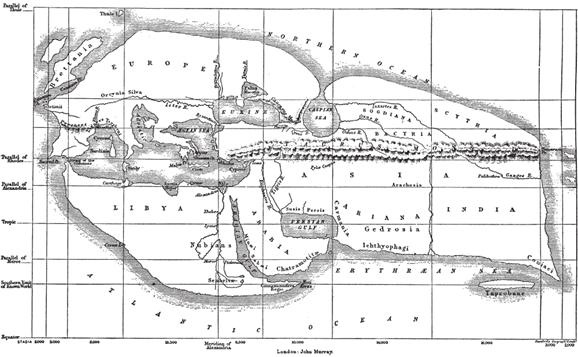
Мир Эратосфена скорее симметричен, нежели точен; однако проведенное Эратосфеном разделение мира стало предвестником наших параллелей и меридианов
Предложенная методика изготовления карты вовсе не была оригинальной; напротив, сам Эратосфен понимал необходимость какого‑то подобного метода разделения Земли на части, и нет никакого сомнения в том, что он высоко ценил геометрическую точность и научные наблюдения – во всем и, в частности, в картографии тоже. В то же время Эратосфен, по всей видимости, понимал, что бесполезно пытаться построить научную карту на основании одних только предположений и догадок; он так и сказал, и это было его ошибкой. Положение большинства мест на Земле и их относительное взаимное расположение устанавливались в то время исключительно на основании непроверенных слухов и традиций. Тем не менее Гиппарх, разнося в пух и прах труд Эратосфена, настаивает на том, что карту мира необходимо пересмотреть, так чтобы каждая важная точка наносилась на карту в соответствии с ее широтой и долготой, причем обе координаты следовало определять с помощью астрономических наблюдений.
Закончив с красноречивым изложением собственных научных идей и беззастенчивой критикой произведений других ученых, Гиппарх перешел к практике, то есть к пересмотру карты, и сразу же «поплыл». Подобно любому другому картографу и до него, и после, Гиппарх вынужден был взять на веру определенный объем исходной информации; по всей видимости, он не испытывал угрызений совести, используя при создании своей карты некоторые данные и выводы более ранних авторов. Например, для длины окружности Земли он принял величину в 25 200 миль, вычисленную Эратосфеном, что выглядит странно, если учесть низкое мнение его об этом человеке. Гиппарх снизошел даже до того, что принял главную параллель, проложенную Эратосфеном и одобренную другими авторами; он только передвинул Сицилийский пролив к северу и провел эту параллель южнее Сиракуз, что было ближе к истине. Точно так же он заимствовал у Эратосфена главный меридиан, проходящий через Александрию, Сиену и Мероэ, Троаду, Византий и устье Борисфена. Эратосфен разделил свою сферу на 60 частей по 6 градусов каждая; Гиппарх разделил ее на 360 частей и, по всей видимости, сделал это первым.
Гиппарх создал прецедент. Он первым начал описывать разные климаты по наблюдаемым в них звездным явлениям. Он провел границы с шагом в 70 миль; он счел, что такое расстояние достаточно удобно и дает заметные изменения звездного неба. Он смоделировал математически, как именно должны выглядеть звезды на каждом градусе широты (700 стадиев на градус) от экватора до Северного полюса вдоль меридиана Александрии. Источником этих данных стал его собственный каталог, в который вошло 1080 звезд; это была гораздо более полная карта звездного неба, чем все, что составлялось до Гиппарха. В качестве дополнительной проверки для определения разных параллелей он рассчитал для каждой параллели теоретическую продолжительность дня летнего солнцестояния, отношение длины гномона к длине тени, которую он отбросит, высоту Полярной звезды, а в некоторых случаях и прямое восхождение для некоторых ярких звезд. Среди прочих своих наблюдений он заметил, что Коричная страна – самое южное место по эту сторону экватора, где никогда не заходит Малая Медведица; в Сиене видны круглый год большинство из семи звезд Большой Медведицы; к северу же от Византия и Кассиопея полностью попадает в звездный арктический круг. Вся эта информация, несмотря на безусловный интерес, оставалась во всех отношениях чисто теоретической астрономией, и в то время вряд ли можно было надеяться соотнести ее когда‑нибудь с конкретными точками на Земле. Существовало множество мест, где астрономы никогда не бывали, так что невозможно было проверить на практике полученную теоретически информацию – выяснить, как на самом деле выглядит звездное небо на определенной широте и соответствует ли его вид предполагаемым координатам этого места.
Важнейшим вкладом Гиппарха в картографию стали выводы, которые, как казалось в то время, имели к предмету весьма отдаленное отношение; по всей видимости, они находились за пределами изысканий Страбона. Гиппарх и Клавдий Птолемей, действовавший на три столетия позже, «заново сотворили звездную науку» и заложили фундамент тригонометрии, как плоской, так и сферической. Они рассчитали для астрономов таблицы хорд, служившие той же цели, что сейчас таблицы синусов. Гиппарх сумел так составить таблицы, а Птолемей так их усовершенствовал, что в течение 1400 лет они оставались непревзойденным математическим стандартом. Гиппарх без стеснения заимствовал сведения у вавилонской и ассирийской школ астрономии, но усовершенствовал их методы наблюдения. Он зафиксировал длину тропического (солнечного) и сидерического (звездного) года; установил длину различных месяцев и синодические периоды пяти известных планет; определил наклонение эклиптики и лунной орбиты; точку солнечного апогея и эксцентриситет его орбиты вокруг Земли; и все это с необычайной точностью. Он определял положение звезд через прямое восхождение и склонение. Он изучал точку равноденствия и в 130 г. до н. э. заметил ее равномерное обратное движение относительно звезд. Сравнивая свои данные с данными, собранными Тимохарисом на полтора столетия раньше, он оценил «прецессию», или предварение точки равноденствия не меньше чем в 36 секунд и не больше чем в 59 секунд в год. Реальное же значение – 50 секунд! «Если рассмотреть все, что Гиппарх изобрел или довел до совершенства, – писал Деламбр, – и поразмыслить о количестве написанных им работ и массе вычислений, которые они подразумевают, то нам придется рассматривать его как одну из самых поразительных личностей античности и как величайшего ученого во всех тех областях, где не ограничиваются одними лишь рассуждениями и которые требуют сочетания геометрических знаний и знания явлений, которые можно наблюдать лишь с помощью неусыпного внимания и точных инструментов». У Гиппарха, как говорят нам историки, было все, кроме точных инструментов; однако, имея в виду кое‑какие замечательные результаты, им достигнутые, невольно начинаешь сомневаться и в этом, хотя эксперты и продолжают утверждать, что точных инструментов тогда не было.
Трудно представить себе обитаемый мир по Страбону и соотнести его с современной физической географией. Страбона в первую очередь интересовали описательные трактаты; большую часть его собственных идей, среди которых оригинальных не было, можно обнаружить в критических замечаниях, которые он отпускал о работах других ученых. Он забавлялся техническими деталями астрономии и математики, но решительно отказывался вникать в существо дела. Когда ему не хватало информации или он просто не мог понять чужих выводов, он небрежно отбрасывал предмет обсуждения как «не имеющий ценности для географа»; обычно он добавлял при этом, что, если кому‑то интересно узнать об этом больше, можно обратиться к Гиппарху! По этой причине невозможно сказать с уверенностью, был ли Страбон ученым, а если был, то насколько хорошим. Однако при описании разных мест он частенько определял их местонахождение так, как это сделали бы Эратосфен и Гиппарх – то есть использовал звезды как указатель расстояния. Так, например, он писал, что в Бернике, в Аравийском заливе, и в стране троглодитов, к северу от Кавказа, солнце в день летнего солнцестояния поднимается в зенит, а продолжительность самого длинного дня в году составляет 13,5 равноденственного часа, «и почти вся Большая Медведица видна в арктическом круге, за исключением ног, кончика хвоста и одной из звезд квадрата». А если отправиться в Понт Эвксинский (Черное море) «и плыть на север примерно 1400 стадиев, то самый длинный день будет уже 15,5 равноденственного часа… там арктический круг стоит в зените; а звезда на шее Кассиопеи лежит на арктическом круге, тогда как звезда на правом локте Персея – немного к северу от него».
Положение отдаленных районов обитаемого мира описывалось в более общих выражениях. О Цейлоне, например, говорилось, что он находится «значительно южнее Индии», но тем не менее обитаем. «Он возвышается напротив» острова Беглых Египтян и Коричной страны. Аналогично рассказано и об Иберийском полуострове за Геркулесовыми столпами. Священный мыс (мыс Сен‑Винсент), как его называли, лежит примерно на той же параллели, что столпы, Гадес (Кадис), Сицилийский пролив и Родос. Почему? Так как «говорят, что солнечные часы отбрасывают там одинаковые тени, а ветра, дующие в одном направлении, с одного направления и приходят, и одинакова продолжительность самых длинных дней и ночей; ибо и самый длинный день, и самая длинная ночь имеют по четырнадцать с половиной равноденственных часов». Более того, созвездие Кабейри иногда удается увидеть возле берега у Гадеса. Посидоний сообщал, что из высокого дома в городе милях в сорока от этого места он видел звезду, которая, по его мнению, была не что иное, как Канопус. А поскольку Канопус можно увидеть также из обсерватории Евдокса на Книде, которая немногим выше, чем жилые дома к северу от нее, то очевиден вывод – Книд и другие места, включая Родос и Гадес, должны лежать на одной параллели. Подобные рассуждения, включающие в себя немного геометрии, поверхностное знание астрономии и чуть‑чуть логики, приводящей к далеко идущим выводам, вовсю использовались в самых серьезных научных кругах и торжественно заносились во всевозможные труды для потомков.
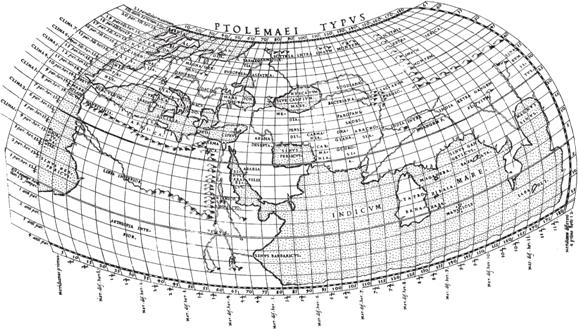
Мир Птолемея в варианте венецианского редактора, 1561 г. Долгота выражается в долях часа на восток от островов Счастья, а широты обозначаются количеством часов в самом длинном дне года
Обитаемый мир Страбона представлял собой сферический четырехугольник, ограниченный с севера арктическим кругом, а с юга экватором. Он «омывается со всех сторон морем и подобен острову… что доказывают наши чувства и разум. Но, – продолжает Страбон, – если кто‑то не верит доводам разума, то, с точки зрения географа, нет никакой разницы, сделаем ли мы обитаемый мир островом или просто признаем то, чему учит нас опыт, а именно что можно проплыть вокруг обитаемого мира с обеих сторон, как с востока, так и с запада, за исключением нескольких промежуточных участков. Что же касается этих участков, то не важно, ограничены ли они морем или необитаемыми землями; ибо географ стремится описать известные части обитаемого мира, но оставляет без внимания неизвестные его части – точно так же, как то, что лежит за его пределами». Поэтому, рассуждает Страбон, географ имеет полное право ограничить мир с востока и с запада двумя прямыми вертикальными линиями. При этом не имеет значения, проходят ли эти линии по океану или по необитаемым землям. Он считает, что сказанного достаточно, и переходитк другому вопросу, предлагая несколько советов по составлению карт.
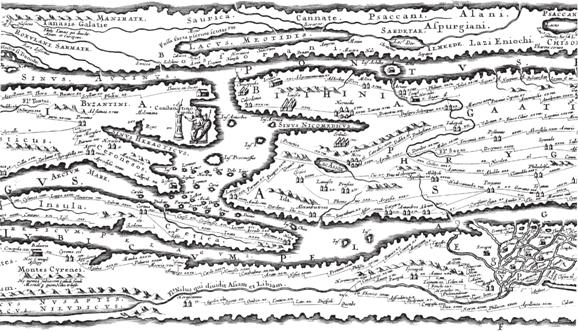
У римлян были как общие, так и топографические карты. Данная карта – один из немногих известных образцов римской картографии – была нарисована в III в. н. э. Несмотря на то что карта сильно укорочена, на ней можно увидеть возле Средиземного моря сложную сеть дорог, размеченных верстовыми столбами. Приведенный участок карты – один из двенадцати; показана территория от Крита до устья Нила
Тот, кто хочет составить наиболее правдивое изображение Земли, пишет Страбон, «непременно должен изготовить Землю в виде шара, подобно глобусу Кратеса, и нанести на него этот четырехугольник, а внутри четырехугольника нарисовать карту обитаемого мира». Глобус должен быть большим, чтобы обитаемая его часть, «будучи лишь малой частью шара», оказалась достаточно большой, чтобы иметь для пользователя практическую ценность; чтобы все важные места можно было нанести на нее, подписать и чтобы все это было ясно различимо. Чтобы размер глобуса оказался достаточным, он должен быть не менее десяти футов[19] в диаметре! Но если изготовить десятифутовый глобус или глобус «ненамного меньше» почему‑то невозможно, то Страбон предлагал такому человеку рисовать свою карту на плоской поверхности площадью по крайней мере в семь квадратных футов. «Ибо разница будет невелика, – объясняет он, – если мы проведем прямые линии, чтобы изобразить окружности, то есть параллели и меридианы, с помощью которых мы ясно обозначаем «климаты», ветры и прочие различия, а также местоположение земных частей по отношению как друг к другу, так и к небесным телам; нужно провести параллельные линии для параллелей и перпендикулярные к ним линии для окружностей перпендикулярных параллелям, ибо наше воображение способно легко перенести на шарообразную и сферическую поверхность фигуру или величину, увиденную глазом на плоской поверхности».
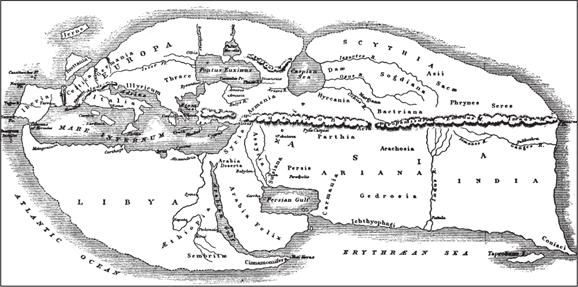
Мир Страбона создавался по рассказам путешественников и трудам «древних». Он представлял собой суммарный итог географических знаний дохристианской эры
Страбон предупреждает будущего картографа о том, что перенос меридианов со сферы, где все они сходятся на полюсах, на плоскую поверхность сделает их более сложными для понимания. Но, добавляет он, во многих отношениях нисколько не хуже изобразить меридианы на карте прямыми линиями, чем пытаться достичь компромисса, то есть использовать для этого слегка изогнутые линии. И хватит об изготовлении карт и глобусов.
Подводя итог развития географии со дней Эратосфена, Страбон выражает оптимизм. «В особенности писатели настоящего времени, – пишет он, – могут лучше рассказать о британцах, германцах, народах, живущих как к северу, так и к югу от Истра, о гетанах, тирегетанах, бастарнианах и, более того, о народах в районах Кавказа, таких как албаны и иберы». Появилась новая информация о Гиркании и Бактриане в трудах авторов парфянской истории (Аполлодора из Артемиты и его школы), «в которых они обозначили границы этих стран более определенно, чем многие другие авторы. Опять же, поскольку римляне недавно вторглись в Аравию Счастливую армией, которой командовал Элий Галл, мой друг и товарищ, и поскольку александрийские купцы уже отплывают целыми флотилиями через Нил и Аравийский залив до самой Индии, эти районы тоже стали значительно лучше известны нам сегодняшним, чем нашим предшественникам. Во всяком случае, когда Галл был префектом Египта, я сопровождал его и поднимался по Нилу до Сиены и до границ Эфиопии, и я узнал, что не меньше 120 судов отправлялись из порта Миос‑Ормос в Индию, куда прежде, при Птолемеях, мало кто осмеливался отправиться за товаром».
«География» Страбона была опубликована, если это можно так назвать, в первое двадцатилетие христианской эры. В ней первый период истории картографии обрел достойное завершение. Пелена суеверий была частично отброшена; географы и картографы наконец узнали, поисками чего занимаются. В их распоряжении оказались и теоретические средства отыскать это. Глаза всех ученых, не только географов, по‑прежнему были обращены на «высокий купол небес»; можно с полным правом добавить, «откуда пришла им помощь», ибо картография научилась во всем полагаться на открытия астрономии и той науки, которую Страбон называл физикой.
Глава III
Мир Клавдия Птолемея
Судя по записям Страбона, в первое двадцатилетие христианской эры отовсюду пускались в путь огромные караваны и торговые флотилии. К 20 г. н. э. обитаемый мир стал больше, чем тот, который он знал молодым человеком. Возникли новые пути сообщения, выросла длина торговых маршрутов, а с ней и надежды человека. Пришли в движение политические и духовные силы, каких мир прежде не видывал, и ни один человек не мог предвидеть долгий перерыв в развитии, который в самом ближайшем будущем уготован был географии и ее вечной спутнице – картографической науке. Никто не мог предвидеть и того, что географическому наследию человечества суждено было 1200 лет дремать в трудах всего двух авторов, дожидаясь нового открытия. Эти два автора – Страбон и Клавдий Птолемей; один снабдил ученых ключом к прошлому, другой – указаниями на будущее.
О Клавдии Птолемее‑человеке почти ничего не известно. Ни даты жизни, ни место его рождения так и не удалось установить наверняка. Некоторые ранние манускрипты указывают на то, что он родился в Пелузии, другие предпочитают считать его родиной Птолемаиду Гермийскую – греческий город в Верхнем Египте. В Средние века возникла легенда о том, что он принадлежал к египетскому царскому дому, и в манускриптах того времени Птолемея изображали в царском платье, в мантии и с короной на голове. Однако имя Птолемей в раннем Египте встречалось нередко, и не существует никаких указаний на то, что в его жилах текла царская кровь. Из его трудов мы узнаем, что он намеревался указывать положение мест на Земле по отношению к параллели Александрии. Олимпиодор в своих заметках к диалогу Платона «Федон» упоминает о том, что Птолемей провел сорок лет за астрономическими наблюдениями в птероне – здании, которое исследователи помещают то в Канопусе, то в Александрии. Последние наблюдения, попавшие в «Альмагест» Птолемея, относятся к 141 г. н. э.; имеются ссылки на живого и здравствующего Птолемея, относящиеся примерно к 150 г. н. э. Наблюдения он проводил во время правления Адриана и Антонина Пия. Самое раннее наблюдение Птолемея, о котором имеются записи, было сделано в одиннадцатый год правления Адриана, то есть в 127 г. н. э., а последнее – в четырнадцатом году правления Антонина, то есть в 151 г. н. э. Таким образом, логика позволяет ограничить даты жизни Птолемея 90–168 гг. н. э.
Птолемей был широко образованным человеком, он обладал исключительно упорядоченным умом и замечательным даром описания. Возможно, как утверждают некоторые авторы, его собственный вклад в науку невелик, но он никогда не занимался плагиатом. Он улучшал большую часть того, что переписывал у других, и развивал заимствованные идеи. Он изложил в своих трудах многие важные теории своих предшественников, причем сформулировал их лучше и понятнее. Птолемей обычно не забывал сослаться на автора излагаемой идеи.
Хотя имя Клавдия Птолемея ассоциируется чаще всего с географией и картографией, он является автором значительных трудов во многих других областях, включая астрономию, астрологию, музыку и оптику. Он составил Канон царей – хронологический список ассирийских, персидских, греческих и римских суверенов от Набонассара до Антонина Пия, биографическую историю царствований. Его «Аналемма» представляла собой математическое описание проекции сферы на плоскость; этот трактат значительно облегчал работу с гномоном и изучение того, что позже стали называть «ортографической проекцией». В работе под названием «Планисфера» Птолемей описал сферу, спроектированную на плоскость экватора с точки зрения наблюдателя на полюсе; эта проекция позже стала известна как «стереографическая». Но величайшие его работы – «Синтаксис», известный под названием «Альмагест», и «География». Оба названия имеют отношение к составлению карт, но если предшественники Птолемея объединяли свои астрономические, математические и географические знания под необъятным покровом философии, то сам Птолемей включил все свои научные теории в «Альмагест», а «Географию» посвятил исключительно вопросу составления карт.
Тринадцать книг «Альмагеста» открывает вступление, в котором говорится о различиях между теорией и практикой и о непреложности математических знаний, «ввиду того что доказательства в ней идут неопровержимыми путями арифметики и геометрии». Птолемей говорит читателям, что при обсуждении свойств Вселенной будет пользоваться открытиями древних и, помимо этого, детально объяснять все то, что не нашло полного объяснения или рассмотрения в прошлом. В первой книге он формулирует общие принципы, на которых построен его «Синтаксис», или система.
Небо, говорит Птолемей, представляет собой сферу и движется так, как подобает сфере. Земля – центр этого сферического неба, и от звезд ее отделяет огромное расстояние. Земля также имеет форму сферы и со своего места в центре Вселенной никуда не сдвигается. Что касается формы Земли, то нет смысла рассматривать математические или философские аспекты этой проблемы, поскольку имеется множество наглядных доказательств ее шарообразности. Очевидно, скажем, что Солнце, Луна и другие небесные тела не встают и не садятся в одно и то же время для всех наблюдателей на Земле; напротив, они встают раньше для тех, кто живет восточнее, и позже для западных регионов. Известно также, что лунные затмения отмечаются в разное время суток относительно местного полудня: на востоке они наблюдаются позже, чем на западе. Так вот, если бы Земля была плоской и имела форму треугольника или прямоугольника, восходы и заходы небесных тел наблюдались бы одновременно во всех ее частях. Есть и другое доказательство. Чем дальше к Северному полюсу, тем больше звезд южного неба скрывается, в то время как из‑под северного горизонта появляются новые звезды. И еще, если плыть в сторону горы – при этом не важно, с какого направления мы будем к ней приближаться, – то она постепенно поднимается из моря, становится все больше и больше, пока не встанет перед нами целиком. И наоборот, если плыть от горы прочь, то процесс идет в обратном порядке, и через некоторое время гора целиком исчезает за горизонтом. Это значит, что поверхность океана должна быть изогнутой. Птолемей упрямо отвергает предположение некоторых ученых о том, что Земля вращается вокруг своей оси. Он признает, что это удобное объяснение поведения небес, но тем не менее считает такое предположение нелепым.
После публикации «Альмагеста» части окружности перестали выражать в неудобных долях. В 9‑й главе первой книги Птолемей объяснил, как образуется таблица хорд. Он начал с круга, окружность которого разделил на 360 градусов. Затем разделил каждую часть еще пополам. Он разделил диаметр круга на 120 равных частей, затем разделил каждую из 60 частей радиуса на 60 равных частей, а затем – еще раз каждую на 60 равных частей. В латинском переводе текста эти части стали называться partes minutae primae и partes minutae secundae, откуда и произошли современные угловые «минуты» и «секунды». Ни деление круга на 360 частей, ни теория хорд не были придуманы Птолемеем. Первое пришло, возможно, из древней Халдеи; таким делением круга пользовались, вероятно, многие предшественники Птолемея. Что касается таблицы хорд, то, как рассказал нам Феон Александрийский, ее изложил в двенадцати книгах Гиппарх, которого Птолемей называл «любителем труда и любителем истины», и в шести книгах – Менелай. Тем не менее Птолемей внес и собственный замечательный вклад, который заключается в нескольких простых теоремах, с помощью которых несложно найти величину любой хорды[20].
В третьей книге «Альмагеста» Птолемей описал, каким образом Гиппарх обнаружил предварение равноденствий. Он описал также наблюдения, с помощью которых Гиппарх подтвердил эксцентриситет солнечной орбиты. Птолемей завершил эту книгу ясным описанием обстоятельств, от которых зависит уравнение времени. Он изложил также принцип, согласно которому для наилучшего объяснения явлений любого рода следует принять простейшую из существующих гипотез, если, конечно, она ни в чем не противоречит результатам наблюдений. Иными словами, никогда не следует придумывать сложное объяснение, если можно ограничиться простым. Этот принцип, открыто объявленный Птолемеем, представлял собой часть кредо, провозглашенного еще Гиппархом; спустя столетия он стал главным законом «первой философии» (philosophia prima) французского философа Огюста Конта. Еще один принцип, детально изложенный Птолемеем и принятый ныне повсеместно во всех науках, состоит в следующем: проводя наблюдения, где требуется огромная осторожность и точность, мы должны брать в качестве результата данные, полученные на протяжении значительного промежутка времени, чтобы уменьшить ошибки (известные как человеческий фактор), неизбежные при любых наблюдениях, даже тех, что проводятся с величайшей тщательностью. Другими словами, многократно повторяйте любые наблюдения; если необходимо, делайте это на протяжении многих лет.
Обоим авторам – и Страбону, и Птолемею – принадлежат обширные труды, которые называют географическими, но их подход к предмету совершенно различен. Страбона интересует местоположение конкретных пунктов и составление точной карты мира, по крайней мере той его части, которая пригодна для жизни. Еще больше его занимает человек в своих отношениях со средой: его история, обычаи, растения и животные, которых он выращивает, и физические особенности характерные для разных регионов мира. Птолемей же подходит к географии строго научно и отстраненно. Его интересует в первую очередь Земля – вся Земля, а не только пригодная для жизни ее часть; он пытался выяснить, какое место Земля занимает во Вселенной. Его интересовали отношения между Землей и Солнцем, Землей и Луной, научная причина и характер изменения климата. Но превыше всего его интересовало по‑научному точное изображение сферической Земли в удобочитаемой форме. Другими словами, его интересовала карта мира. Клавдию Птолемею, больше чем кому бы то ни было из древних, удалось определить элементы и формы научной картографии. С публикацией его «Географии» картография – такая, какой мы ее знаем, – отделилась от географии – такой, как мы ее понимаем.
На самом деле «География» – скорее атлас мира с длинным текстовым введением в предмет картографии, нежели трактат по географии. Здесь впервые были сформулированы обязанности составителя карт, его ограничения и природа материалов, с которыми ему приходится работать. Методы картирования мира, обрисованные Клавдием Птолемеем, представляют собой фундаментальные принципы современной геодезии.
Птолемей открывает свой вводный трактат двумя ценными определениями, во многом определившими курс развития картографии, а именно определениями хорографии и географии. Первое определение, как ни странно, за почти две тысячи лет не слишком изменилось и в существе своем осталось таким же, как его сформулировал Птолемей, зато второе вызывало и вызывает немало проблем. География – предмет ее рассмотрения и пределы компетенции – и сегодня определена не лучше, чем во времена Страбона; даже этот достойный автор в давние времена не сумел решить для себя, какие именно боковые ветви следует включить в состав географии, а какие сложные вопросы передать в руки «геометров», астрономов и физиков. Одно из недавних определений называет географию «множеством специализаций, лишенных всякого логического единства».
Птолемей определяет географию как «представление в виде рисунка всего известного мира вместе с явлениями, в нем содержащимися». Хорография, говорит он, отличается от географии тем, что она региональна и избирательна и «имеет дело даже с самыми мелкими мыслимыми участками земли, такими как гавани, фермы, деревни, речные русла и тому подобное».
Функция хорографии, говорит Птолемей, – иметь дело с маленькой частичкой целого мира, рассматривая ее при этом отдельно от всего остального и очень подробно. Соответственно рассмотрение таких отдельных единиц в мельчайших подробностях не выходит за рамки хорографии и не умаляет ее достоинства; напротив, чем больше подробностей и деталей, тем лучше, вплоть до улиц и общественных зданий. «Ее забота – добиться в изображении подлинного сходства, а не просто указать точное положение и размер». По Птолемею, хорография не нуждается в математике; по крайней мере, ей, в отличие от географии, не нужна сферическая тригонометрия, зато нужен художник, «и никто не в силах создать правильное изображение, не умея рисовать». Современные картографы, обратите внимание!
Далее Птолемей развивает свое определение географии, и становится ясно, что основной функцией этой науки он считает изготовление карт, что для него география – синоним картографии. «Прерогатива географии, – говорит он, – показывать известную пригодную для жизни землю как единое целое, как она расположена и какова ее природа; и она имеет дело с теми чертами земли, которые, скорее всего, были бы упомянуты в общем ее описании, такими как наиболее крупные города, горные хребты и основные реки». Географу не следует отступать от этих фундаментальных вещей, разве что ради «черт достойных особого упоминания по причине их красоты». Введя таким образом весьма растяжимую «поправку» в достаточно жесткий в остальном географический кодекс, Птолемей продолжает в подробностях рассказывать о задаче картографа, который должен исследовать и изображать мир в целом «в его верных пропорциях» – то есть в масштабе. Он сравнивает эту задачу с задачей художника, который должен в первую очередь обрисовать контуры фигуры в верных пропорциях, а уже потом прорисовывать мелкие детали черт и форм. Далее, однако, он говорит, что картография, в самом широком смысле, не нуждается в художнике. Предметом заботы картографии является соотношение расстояния и направления, и любые важные черты земной поверхности можно изобразить на карте простыми линиями и условными знаками; этого вполне достаточно, чтобы указать общий характер и местоположение объекта. Именно поэтому в картографии так важна математика.
В картографии, говорит Птолемей, обязательно нужно рассматривать форму и размеры Земли в целом. Чрезвычайную важность имеет и ее положение под небесами, ибо для того, чтобы описать любую конкретную часть мира, необходимо знать, под какой параллелью звездной сферы эта часть находится. В противном случае как определить продолжительность дней и ночей в этой местности, как узнать, какие звезды там всегда находятся над головой, какие каждую ночь поднимаются из‑за горизонта, а какие вообще не показываются? Все подобные данные следует считать важными для изучения и картирования мира. И, добавляет он, «великим и совершенным достижением математики является то, что она показала человеческому разуму все эти вещи». С помощью астрономии и математики, делает Птолемей окончательный вывод, Землю можно нанести на карту с той же точностью, с какой уже картированы небеса.
Подобно своим предшественникам, Птолемей тоже намеревался ограничиться в своих описаниях «нашей обитаемой землей»; чтобы полученное описание как можно полнее ей соответствовало, он готов был пользоваться всеми возможными источниками информации. Первым и главным, как обычно, являлась огромная масса информации, полученной из рассказов путешественников и исследователей. Конечно, если бы подобные люди были более внимательными и проводили необходимые наблюдения, а также делали подробные записи, то задача по‑научному точного описания самых удаленных окраин обитаемого мира оказалась бы сравнительно несложной; увы, однако, путешественники и исследователи никогда этого не делают. Птолемей жалуется, что из всех мужей, кто заинтересован в этом и обладает нужной квалификацией, один только астроном Гиппарх записал высоту Полярной звезды над горизонтом в разных местах, и даже он измерил эту величину в очень немногих местах по сравнению с множеством мест, известных географам; что же до пунктов, расположенных на одном меридиане, то таких мест известно чрезвычайно мало. Расстояния с запада на восток указывали почти исключительно на основании традиции – и не потому, что они никого не интересовали, а потому, что наблюдателю не хватало необходимых технических знаний. Иногда лунные затмения наблюдались одновременно в двух разных местах – как, например, затмение, которое наблюдали в Арбелле в пятом часу, а в Карфагене во втором, – но их было недостаточно, чтобы дать существенную информацию о долготе разных мест.
К источникам, про которые при картировании обитаемой земли не следует забывать, Птолемей отнес и звездные карты, подобные тем, что составлял теоретически для разных широт Гиппарх. Необходимо тщательно рассмотреть и обдумать все надежные таблицы расстояний между хорошо известными местами, особенно если расстояния измерялись с помощью землемерных инструментов, астрономических инструментов или тех и других одновременно. Кроме того, если расстояния между пунктами очень важны, то не менее важно знать, в каком направлении лежат эти пункты по отношению друг к другу. Поэтому везде, где возможно, следует проверять расстояния и направления с помощью «метеорологических инструментов», под которыми Птолемей, по‑видимому, понимал гномон и астролябию. При надлежащем использовании с помощью подобных инструментов можно определить географическое положение объекта и даже, теоретически, пройденное расстояние.
Птолемей подробно описывает, как изготовить те два инструмента, которые он сам использовал для измерения углов, в частности дуги между тропиком и эклиптикой. Первый из этих инструментов представлял собой медную астролябию, размеченную по внешнему кругу на 360 делений; каждое из делений, в свою очередь, было разделено на столько частей, на сколько хватило места. Вместо того чтобы использовать для прицеливания маленькие отверстия (диоптры), Птолемей закрепил на каждом конце подвижного визира призму и точный указатель для отметки градусов и минут дуги. Инструмент этот закреплялся на пьедестале, «небольшой колонне, удобной в нескольких отношениях». При подготовке к наблюдениям прибор тщательно настраивали, так чтобы плоскость круга была перпендикулярна горизонту; из высшей точки прибора опускали отвес, чтобы надлежащие отметки внешнего круга точно указывали в зенит и на горизонт. «И после такого размещения мы обычно наблюдали продвижение Солнца на юг и на север, двигая в середине дня внутренний круг до того момента, пока нижняя призма не окажется полностью закрыта тенью верхней призмы. И когда это сделано, концы игл указывают нам каждый раз, на сколько делений от зенита отстоит центр Солнца, когда оно стоит на линии меридиана».
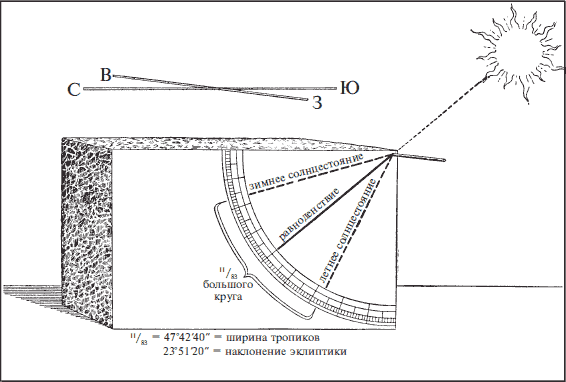
Модель полированного каменного блока, изобретенного Клавдием Птолемеем для измерения 1) наклона эклиптики, 2) ширины тропических зон, 3) широты точки, где находятся наблюдатель и камень
Второй прибор, который Птолемей рекомендует для измерения дуги между тропиками, представляет собой не что иное, как настенный квадрант – солнечные часы повернутые набок. Такой прибор можно изготовить из деревянного или каменного блока, если одну из его граней отшлифовать до совершенно ровной поверхности. На этой поверхности нужно нарисовать четверть круга и закрепить в его центре иглу или маленький перпендикулярный цилиндрик. Линию окружности следует разделить на 90 частей, или градусов, а каждый градус – еще на 30 меньших делений. Затем блок нужно повернуть таким образом, чтобы центральный столбик, теперь торчащий горизонтально, лежал на линии восток– запад, а квадрат – в плоскости меридиана. Затем с помощью отвеса и клиньев блок выравнивают с максимальной точностью. Если зафиксировать его в этом положении, то можно измерять высоту солнца в градусах и минутах, не беспокоясь о длине тени или высоте отбрасывающего тень столбика. Солнце само указывает свою высоту таким образом, что никакие дополнительные вычисления не требуются.
Этот инструмент столь же эффективен, сколь и оригинален. Оставив его на месте на год, несложно измерить величину дуги между двумя тропиками. Наблюдая склонение Солнца во время зимнего и летнего солнцестояния или, как говорит Птолемей, «когда Солнце находится на самих тропиках», он обнаружил, что дуга между двумя тропиками «была всегда больше чем 47 градусов 40 минут, но меньше чем 47 градусов 45 минут. С этим результатом получаем почти то же отношение, которое получил Эратосфен и которым пользовался Гиппарх. Ибо дуга между тропиками оказывается очень близка к 11/83 меридиана».
Птолемей указывает, что широту любого места, где наблюдения проводятся с помощью такого прибора, определить очень легко. Ибо отношение 11/83 остается постоянным, даже если углы двух крайних положений изменяются с широтой наблюдателя. Широта места наблюдений будет соответствовать центральной точке между двумя измеренными крайними положениями – экваториальной точке; иными словами, это дуга между центральной точкой и зенитом.
Птолемей обращал внимание на тот факт, что определение расстояний между точками на Земле путем наблюдения звезд не всегда надежно – не важно, какие при этом используются инструменты. Дело в том, что по земной поверхности практически невозможно путешествовать по прямой. На суше то и дело приходится отклоняться от прямого пути, чтобы обогнуть неизбежные препятствия; а на море, где ветра переменчивы, скорость судна сильно меняется, и это очень затрудняет оценку расстояний по воде с какой бы то ни было степенью точности. Тем не менее он делает вывод, что наиболее достоверный способ определения расстояний – астрономические наблюдения; ни один другой метод не дает возможности точно определить положение точки на поверхности Земли. Традиционная информация о расстояниях должна играть подчиненную роль, особенно это касается примитивной информации – традиции время от времени меняются, и если такую информацию вообще стоит учитывать при составлении карт, то, по крайней мере, целесообразно сравнивать давние записи с новыми, «решая, что вероятно, а что невероятно». В большинстве случаев споры о расстояниях и направлениях возникали по поводу того, кто это сказал и в какой связи. Относится ли та или иная запись к истории или к мифологии? Рассказ о путешествии должен звучать разумно и достоверно и не должен содержать никакого мифологического оттенка, чтобы его можно было внести в записи и принять в качестве более или менее достоверной информации. Сказать, что некое место находится «в стороне летнего восхода» или «в направлении Африки», недостаточно, но только такую информацию обычно и можно получить от неподготовленных людей.
Значительная часть книги Птолемея посвящена обстоятельной критике Марина из Тира, «последнего из географов нашего времени». Марин, расцвет деятельности которого пришелся примерно на 120 г. н. э., оказал значительное влияние на развитие искусства картографии, но, подобно Пифею из Массалии, сам он так и не появился на сцене. По всей видимости, он учился и проводил астрономические наблюдения в Тире, старейшем и крупнейшем городе Финикии, поддерживавшем даже в этот период активные торговые связи с отдаленными районами мира. Его трактат по географии с приложенными к нему картами следует считать одним из важнейших утерянных письменных документов древних – хотя бы потому, что именно на этом фундаменте Клавдий Птолемей построил свою работу.
Марин, если верить Птолемею, был многосторонним человеком; он открыл множество вещей, неизвестных прежде. Он прочел чуть ли не всех историков и исправил многие их ошибки (предположительно, это ошибки, имеющие отношение к географическому положению мест, которые упомянуты в рассказах о путешествиях). Более того, он постоянно редактировал и перерабатывал собственные географические карты; прежде чем они попали в руки Птолемея, успело выйти по крайней мере два «издания». Окончательные варианты были почти свободны от недостатков, а текст его, по оценке Птолемея, был настолько достоверен, что «создается впечатление, что можно полностью описать Землю, на которой мы обитаем, по одним только его комментариям, без всяких других исследований». Почти, но не совсем!
Птолемей в своей критике Марина проявил и терпимость, и мягкость; у каждого из них были свои представления о невероятном, и временами нелегко сделать выбор между двумя концепциями чепухи и достоверного факта. Однако последнее слово осталось за Птолемеем, и он вынужден, разбирая ошибки Марина, предлагать исправления «скорее соответствующие высокому уровню остальной работы и самого автора»; он лишь ненадолго останавливается на каждой из сделанных Марином ошибок. При этом Птолемей демонстрирует и собственную доверчивость.
С точки зрения Птолемея, самая важная черта карты Марина – рост обитаемого мира и изменившееся отношение к незаселенным его частям. Марин – хороший человек, но в своих научных исследованиях он позволил увести себя с пути истины. Мир, конечно, расширился, но не в такой степени, как показал Марин на своей карте. Да, у Марина есть ошибки – либо оттого, что он использовал «слишком много конфликтующих книг, которые все расходятся между собой», либо оттого, что он так и не завершил окончательный вариант своей карты. Как бы то ни было, его карта нуждается в исправлении.
Марин поместил северную оконечность обитаемого мира на параллели Туле, широту которой он определил в 63° выше экватора, если считать, что меридиан состоит из 360 градусов. Ширина его мира от экватора до параллели Туле при этом получилась 3150 миль (каждый градус равен 50 милям). Марин принял окружность Земли равной 18 000 миль (по Посидонию), и это не вызвало никаких комментариев со стороны Птолемея. Но вот на юге он зашел слишком далеко, поместив страну эфиопов, называемую Агисимба, и мыс Прасум на одной параллели значительно южнее линии зимнего солнцестояния (тропика Козерога). Ни то ни другое место не были сколько‑нибудь хорошо известны, и у Птолемея было две причины сомневаться в том, что они находятся в 24° ниже экватора. Во‑первых, Марин ничего не сказал о том, как выглядит небо к югу от экватора, хотя подробно описал звезды и их расположение в регионе между экватором и летним тропиком. Во‑вторых, он привел множество расстояний с севера на юг, полученных от торговцев и моряков, но при этом и сам он, и Птолемей сомневались в точности этих величин, поскольку на море расстояние обычно измеряли исключительно в днях пути. И если учесть все необходимые поправки: время, которое судно провело в дрейфе или на якоре, характер погоды на разных этапах путешествия, силу и направление ветра и непредсказуемые течения, – то двадцатидевятидневное плавание могло означать почти любую величину в стадиях или в градусах и минутах дуги. Однако оба автора, похоже, с уважением прислушивались к мнению некоего моряка по имени Теофил, который оценил дневной путь корабля «при благоприятных обстоятельствах» в сотню миль. В целом Марин с недоверием относился к купеческому сословию, так как их интересуют обычно только торговые дела и они «из‑за своей любви к хвастовству» склонны преувеличивать расстояния и другие вещи. Птолемей тоже сомневался в достоверности этого источника информации, но считал, что при отсутствии научных данных необходимо полагаться на рассказы путешественников и что в некоторых случаях их информация вполне надежна.
Если географу приходится полагаться на рассказы путешественников, ему следует быть очень осторожным и выбирать только самые достоверные источники, а Марин этого не сделал, особенно в отношении расстояний на юге. Так например, он использовал данные о военном походе Септима Флакка на земли эфиопов. Флакк за три месяца прошел маршем от Гараме до Агисимбы (где водятся носороги), и из его отчета о походе Марин сделал определенные выводы о расстояниях север–юг в Африке. Но, говорит Птолемей, «нелепо думать, что царь пойдет через подвластные ему места строго с севера на юг, если население там широко разбросано к востоку и западу, и нелепо также, что он ни разу не остановится, а это сразу изменит результат». В другом примере Марин говорит о морском путешествии некоего индийца по имени Диоген, чей корабль сильный северный ветер двадцать пять суток гнал на юг вдоль берега троглодитов (восточного побережья Африки). В конце концов он высадился на берег на мысе Раптум недалеко от болотистых истоков Нила. Что может рассказ о подобном плавании сообщить картографу? По мнению Птолемея, ничего. Дул ли ветер все это время совершенно одинаково, вставал ли корабль на якорь или пытался ли это сделать? Лежал ли его курс точно на юг или менялся с изменением ветра? Диоген ничего об этом не говорит. Если область зимнего тропика способна поддерживать жизнь и на этой широте действительно живут темнокожие эфиопы и носороги, то почему, рассуждает Птолемей, в Сиене и в других местах у летнего тропика нет ни носорогов, ни эфиопов, и почему там нет слонов? Поскольку вопрос был задан заочно, то ответа не последовало.
Согласно оценке Марина, обитаемый мир простирался на 15 часов долготы, или на 11 250 миль по экватору. С запада его ограничивали острова Фортуны, с востока – три смутно известных места: Сера (Синган?), река Саин и Каттигара (Борнео?). Птолемей говорит, что 15 часов – слишком много, что протяженность обитаемого мира, вероятно, ближе к 12 часам долготы, или 9000 миль по экватору. Анализируя эту ошибку, Птолемей приходит к выводу, что в оценке расстояния от островов Фортуны до Евфрата у Гиераполя (Мембидж) Марин был очень близок к истине, а вот в оценке расстояния от Евфрата до Восточного океана, или до Сера, ошибся. Едва речь заходит о тех местах, как слухи сразу же становятся невероятнее, а расстояния удлиняются. Если в известных местах рассказы путешественников доходили до географов через вторые‑третьи руки, то здесь речь шла обычно о четвертых‑пятых руках, а иногда и вообще никто не мог припомнить в точности, кто это сказал и когда. Марин, очевидно, принял за достоверный рассказ одного македонского торговца, который ездил туда и даже сделал в пути кое‑какие записи. Но стоит немного покопаться, и оказывается, что человек этот вообще никуда не ездил; он послал вместо себя одного из своих слуг, и единственное, что он смог рассказать по возвращении, – что поездка на Дальний Восток заняла у него семь месяцев. Птолемей критически оценивает это сообщение и делает вывод, что человек этот, по всей видимости, вынужден был сильно отклониться к северу, чтобы обойти Каменную Башню (гору) – препятствие, которое, как говорили, преграждает путешественникам путь на восток.
Как мог такой ученый, как Клавдий Птолемей, серьезно рассуждать о всевозможных отдаленных местах, об их расстояниях и направлениях в таких формулировках, как «несколько дней пути» или «четырехмесячный марш по суше», притом что сам он совершенно четко заявил о том, что главными орудиями картографа являются математика и наблюдения за звездами? Ответ на этот вопрос можно найти в самом тексте «Географии». Птолемей признает, что человечество почти ничего не знает об одних районах мира и очень мало знает о других. Поэтому ему, как и всем без исключения картографам до него, приходится пользоваться доступной информацией из наиболее достоверных источников и мечтать о тех временах, когда путешественники будут вести аккуратные записи, а астрономы смогут ездить в разные места и выяснять, как все обстоит на самом деле. Ни в методах, ни в тексте Птолемея нет никаких противоречий; он старался извлечь максимум информации из тех материалов, с которыми ему приходилось работать.
Марин так и не завершил окончательную редакцию своей карты мира, и в последнем ее варианте, если верить Птолемею, не хватало симметрии и некоторых еще более важных вещей. Марин не внес необходимых поправок в климаты и не провел вычислений для зон, где самый длинный день в году продолжается одинаковое число часов. Остальные ошибки вкрались в карту Марина из‑за небрежности копиистов; они воспроизводили общие контуры его карты, но импровизировали в множестве мелких деталей, в результате чего мелкие ошибки оригинала превращались на их копиях в серьезные недостатки. Птолемей считает такую ситуацию весьма прискорбной. Еще один недостаток текста Марина, который Птолемей попытался исправить, – организация информации, относящейся к названиям разных мест. В этой связи Птолемей выдвинул предложение и создал тем самым прецедент. Тому, кто желает найти на карте определенное место, достаточно знать об этом месте две вещи: широту и долготу. Значит, оба эти числа следует помещать в одном месте. Марин же разделил их; широты он привел там, где говорил о параллелях, а долготы в другой части текста. Две координаты у него ни разу не встречаются вместе. Птолемей указывает, что в любых заслуживающих внимания географических комментариях что‑нибудь непременно должно быть сказано и о широте, и о долготе и что важно знать обе величины одновременно; что при работе с географическими данными можно упустить что‑то важное, если читателю придется все время бегать по тексту туда‑сюда, чтобы найти те два фактора, которые необходимо знать для определения географического положения.
Завершив разбор труда Марина, Птолемей сам предпринимает попытку составить географический трактат и серию карт, в которых содержались бы лучшие элементы карты Марина. Кроме того, он хотел добавить те вещи, «которые не были ему известны, отчасти потому, что их история тогда не была еще написана…». В собственном тексте Птолемей заверяет читателей, что уделил особое внимание усовершенствованному методу проведения политических границ и что широта и долгота каждой точки приводятся вместе, так чтобы их можно было увидеть одновременно.
Существует два способа изготовить портрет мира, пишет он; один – воспроизвести его на сфере, и второй – нарисовать на плоской поверхности. У каждого из методов – свои преимущества и недостатки. «Когда Землю схематически изображают на шаре, шар имеет такую же форму, как она сама, и нет никакой нужды что‑нибудь менять». Но при этом на шаре непросто найти достаточно места для изображения всех деталей, которые следует туда включить; более того, если он достаточно велик, чтобы на нем можно было изобразить все необходимое, то шар получается слишком большим и его невозможно охватить глазом. Чтобы рассмотреть другую сторону глобуса, нужно двигать либо глаз, либо сам глобус. Поэтому, если кто‑то хочет изготовить глобус, то в первую очередь он должен решить, какого размера глобус ему нужен, не забывая при этом, что чем больше он будет, тем яснее и полнее получится на нем изображение разных мест на земле. Затем, выбрав сферу подходящего размера и определив положение двух полюсов, он должен подвесить глобус на двух штырях, соединенных полукругом. Полукруг этот должен проходить «на очень маленьком расстоянии от поверхности глобуса» и при вращении глобуса почти касаться его; и он должен быть узким, чтобы не заслонять слишком много. Затем полезно разделить полукруг на 180 частей, причем начать нумерацию следует от экваториальной линии в обоих направлениях. Таким же способом нужно проградуировать равноденственную линию, а нумерацию начать не от меридиана Александрии, а от самого западного меридиана, проходящего через острова Фортуны. Начиная с этого момента, найти любое место на глобусе по его широте и долготе становится очень просто: нужно всего лишь определить его широту и долготу путем сравнительного изучения дневников путешественников, бабушкиных сказок и хвастовства моряков. Чрезвычайно просто.
Если использовать второй способ изображения Земли, то есть рисовать сферическую Землю на плоской поверхности, то необходимо вносить определенные поправки. Марин много думал над этим вопросом. Он отверг все разработанные до него методы получения плоского рисунка, соответствующего сферической поверхности, но, если верить Птолемею, выбрал для себя в конце концов наименее подходящий путь решения этой проблемы. Он построил решетку из равноудаленных прямых линий и для параллелей (то есть по широте), и для меридианов (по долготе). Такое изображение далеко и от истины, и от внешнего сходства, и получившаяся в результате карта оказалась сильно искаженной по расстояниям и направлениям. Ведь если зафиксировать глаз в центре квадранта сферы, который мы считаем нашим обитаемым миром, то легко увидеть, что меридианы изгибаются и сходятся к Северному полюсу, а параллели, хотя на сфере они разделены равными расстояниями, у полюсов визуально сближаются.
Птолемей хорошо понимал, что желательно сохранить пропорции на плоской карте похожими на сферические, но в то же время он решил поступить практично. Он предложил компромиссную проекцию, на которой меридианы следует изображать как прямые линии, равноудаленные на экваторе и сходящиеся в общей точке – точке Северного полюса. Параллели при этом изображаются в виде дуг или окружностей с общим центром в точке Северного полюса. В качестве дополнительного компромисса он предложил, чтобы параллель, проходящая через Туле, проводилась параллельно (в буквальном смысле) линии экватора, «так чтобы стороны нашей карты, представляющие широту, можно было сделать пропорциональными истинным и естественным сторонам Земли». В дополнение к этому Птолемей настаивал на проведении дополнительной параллели через остров Родос, поскольку расстояния очень часто определялись именно от него и он давно уже стал стандартной отправной точкой при составлении карт и вычислении расстояний.
Меридианы должны отстоять друг от друга на «третью часть равноденственного часа, то есть проходить через каждое пятое деление, отмеченное на экваторе». Другими словами, через всю протяженность обитаемого мира, составляющую 12 часов, следовало провести 36 меридианов, отстоящих друг от друга на 5° на экваторе и сходящихся на Северном полюсе. Параллель, обозначающая южную границу населенного мира, должна была отстоять от экватора в южном направлении лишь на такое расстояние, на которое параллель Мероэ отстоит в северном. Птолемей проложил свои параллели от экватора до Туле. 21 параллель расположена через равные линейные интервалы. Каждая из них обозначена 1) числом равноденственных часов и долей часов продолжительности светлого времени самого длинного дня года и 2) числом градусов и минут дуги к северу от экватора. Например, первая широтная параллель к северу от экватора отстоит от него на «четвертую часть часа» и «отстоит от него геометрически примерно на 4 градуса 15 минут». К югу от экватора проведена одна параллель, соответствующая мысу Раптум и Каттигаре и отстоящая от «линии» примерно на 8 градусов 15 минут. Меридианы для Южного полушария отходят вниз от экватора под тем же углом, что и меридианы вверху, но не пересекаются в точке Южного полюса, а обрываются на параллели 8°15' под экватором. Положение всех параллелей севернее экватора определялось теоретически, за исключением трех: параллелей Мероэ, Сиены и Родоса. Первая точка традиционно помещалась на тысячу миль ниже Александрии и в 300 милях от жаркой зоны; она была также известна как царская резиденция и главная столица Эфиопии. Параллель Сиены по‑прежнему считалась одной из очень немногих параллелей, положение которых определено научно – благодаря тому факту, что она, как считалось, лежит на линии летнего тропика, и потому фигурировала в любой дискуссии по поводу параллелей. Параллель Родоса давно уже стала самой известной из всех; по общему согласию ее помещали на 36° с. ш.
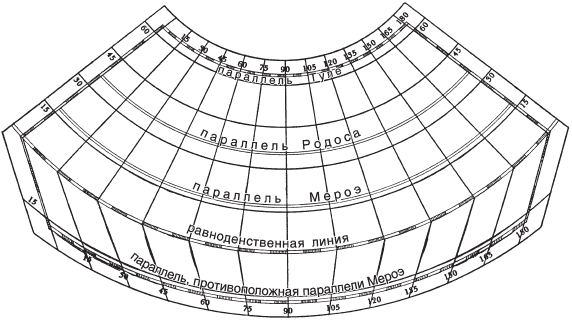
Реконструкция конической проекции Птолемея, предложенной для построения карты обитаемого мира. По копии XVI в.
После подробной инструкции о том, как построить простую коническую проекцию с геометрической точностью, Птолемей замечает, что существует значительно лучший способ изображения обитаемого мира. «Мы сможем, – говорит он, – добиться в нашей карте гораздо большего сходства с известным нам миром, если нарисуем линии меридианов такими, какими мы их видим на глобусе…» После этого он кратко перечисляет шаги необходимые для построения модифицированной сферической проекции обитаемого квадранта земли; как он и утверждает, чрезвычайное сходство, возникающее при такой проекции, очевидно. Очевидно также и то, что сферическую проекцию гораздо сложнее строить; не говоря уже о проблеме поддержания соотношений расстояния и направления, когда дело доходит до поиска важных пунктов на полученной сетке. «Поскольку это так, – пишет Птолемей, – то хотя я лично в данном деле и везде предпочитаю то, что лучше и труднее, тому, что хуже и легче, нужно все же придерживаться обоих установленных способов, имея в виду людей, которых праздность влечет к более легкому».
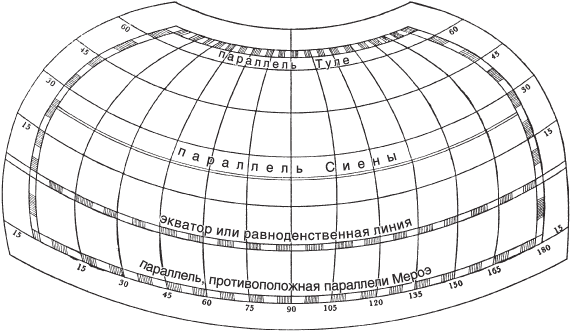
Модифицированная сферическая проекция Птолемея, позволяющая добиться на листе бумаги замечательного сходства с поверхностью Земли. Птолемей признается, что, хотя такая проекция предпочтительнее конической, строить ее гораздо сложнее
Вторая книга «Географии» открывается прологом, состоящим из «подробных описаний» карт, которые автор собирается представить, и общего заявления по поводу принципов, которых он придерживался при составлении карт. Широты и долготы, присвоенные хорошо известным местам, более или менее верны, так как традиционные описания этих мест сходятся. Но вот места, о которых мало что известно или в данных о которых присутствует значительная неопределенность, представляют проблему. Практически все, что, по мнению Птолемея, здесь можно сделать, – это нанести их на карту насколько возможно точно по отношению к хорошо известным местам, поскольку на карте всего мира очень желательно назначить каждому месту – как бы мало ни было о нем известно – определенную позицию. Это Птолемей делает в заметках на полях, оставляя место для любых необходимых исправлений.
Каждая карта сориентирована таким образом, что север оказывается вверху, а восток справа; наиболее известные места мира располагаются в северных широтах, и на плоской карте их будет проще изучать, если они будут нарисованы в верхнем правом углу. Определились три континента: Азия, Европа и Ливия. Из них важнее всего Европа, и ее следует отделять от Ливии по Геркулесовым столпам, а от Азии по реке Танаис (Дон) и по меридиану, проведенному через Танаис к terra incognita на юге. Ливия лежит у моря и продолжается на восток до Аравийского залива; вставляют ее следующей. Ливию следует отделять от Азии по перешейку, который проходит от внутренней части Героополя до Средиземного моря и отделяет Египет от Аравии и Иудеи. «Мы поступим таким образом, – говорит Птолемей, – чтобы не делить Египет, что произойдет, если мы проведем границу континентов по Нилу. Континенты правильнее ограничивать, где возможно, морями, а не реками». Последней следует вставлять Азию, которая занимает остальную часть обитаемого мира.
После того как на карте появились контуры континентов, необходимо разграничить разные области и провинции земли; при этом Птолемей рекомендует отвергать с презрением «многочисленную чепуху в отношении необычных качеств их обитателей, разве что, в случае если эти качества общепризнаны, мы делаем краткое и приличествующее случаю примечание о религии и обычаях». Завершая свои наставления, Птолемей замечает, что всякий, кто захочет, может изготовить отдельные карты префектур и провинций, или даже их группы, вместо того чтобы пытаться собрать их все на одном листе, – ведь при этом каждой области следует придать надлежащую форму и размер и отразить ее отношение к большой карте по расстоянию и направлению. Птолемей считает, что если меридианы на маленьких картах изобразить в виде параллельных прямых, а не изогнутых линий, то это не будет иметь особого значения, если мы расположим их на правильном расстоянии друг от друга (в градусах и минутах дуги). Следуя своим предварительным замечаниям, Птолемей затем (в главе 1‑й второй книги) переходит к вопросу изображения главных составных частей мира; он помещает под каждым заголовком список важных мест в пределах названной части мира и приводит широту и долготу (к востоку от островов Фортуны) каждого из них.
Приведенные ниже списки названий подразделяются географически на «книги» и «главы», но содержат очень мало текста или даже тех самых «кратких и приличествующих случаю» примечаний о религии и обычаях, которые сам Птолемей предлагает делать. Тем не менее именно этот материал воплощает в себе представления Птолемея о том, каким должно быть описание обитаемого мира. Может быть, это и к лучшему, так как в его тексте немало запутанных и противоречивых мест, которые не добавляют блеска его репутации как ученого и достойного доверия географа. Так, например, он приводит краткое описание мира, в котором говорит, что обитаемая часть Земли ограничена с юга неизвестной землей, которая окружает Индийское море, и что эта земля охватывает Эфиопию к югу от Ливии, иначе называемой Агисимба. С запада обитаемая часть Земли ограничена неизвестными землями, окружающими Эфиопский залив Ливии, и Западным океаном, омывающим западные окраины Африки и Европы; с севера – «непрерывным океаном, именуемым Дукалидонским или Сарматским и окружающим Британские острова и северные окраины Европы, и неизвестной землей, которая граничит с самыми северными частями Большой Азии, то есть с Сарматией, Скифией и Серикой». Существует три моря, со всех сторон окруженные сушей. Самое большое из них – Индийское море, далее идет Средиземное, и самое маленькое – Каспийское (Гирканское) море. Среди наиболее известных островов мира – Тапробан, остров Альбион («один из Британских островов»), Золотой Херсонес (Крым), Гиберния («один из Британских островов»), Пелопоннес (Морея); затем идут Сицилия, Сардиния, Корсика (называемая также Кирнос), Крит и Кипр.
В восьмой книге «Географии» Птолемей возвращается к обсуждению карт и способов их изготовления; те авторы, кто утверждает, что текст Птолемея не содержит карт, игнорировали, по всей видимости, эту книгу. В ней Птолемей говорит: «Нам остается показать, как мы наносим на карту разные места, так чтобы, когда придется делить одну карту на несколько, мы могли бы точно определить положение всех известных мест путем применения легких для понимания и строгих измерений».
Далее Птолемей объясняет, как можно избежать самых распространенных ошибок картографов. Так, например, при построении карты, охватывающей весь мир, картографы имеют обыкновение жертвовать пропорциями, то есть масштабом, ради того, чтобы на карте поместилось все необходимое. В хорошо известных районах названий больше, в менее известных их почти нет, и если карта нарисована не слишком тщательно, на ней обязательно окажутся одновременно переполненные названиями районы, где ничего невозможно прочесть, и районы, где расстояния растянуты без необходимости. Некоторые картографы преувеличивают размеры Европы, поскольку это самая населенная часть света, и преуменьшают протяженность Азии, поскольку о ее восточной части мало что известно. Другие окружают землю со всех сторон океаном, «помещая ошибочное описание, а также незаконченное и глупое изображение».
Птолемей говорит, что очевидный способ избежать излишней скученности названий – составлять отдельные карты самых населенных районов или секционные карты, в которых можно совместить густонаселенные районы и страны, где жителей мало, – если такое совмещение реально. Если для пояснения общей карты мира изготавливается несколько региональных карт, то в них не обязательно «отмерять то же расстояние между окружностями», то есть не обязательно рисовать их в том же масштабе, достаточно лишь сохранять верное соотношение между расстоянием и направлением. Птолемей вновь повторяет, что замена окружностей на прямые линии при изображении меридианов и параллелей не уведет нас слишком далеко от истины. Что же до его собственных карт, то он говорит: «На отдельных картах мы покажем сами меридианы не наклонными и изогнутыми, а на равных расстояниях один от другого, и поскольку концы окружностей широты и долготы на границах обитаемого мира, если провести вычисления для больших расстояний, отклоняются не чрезмерно, то и на любой из наших карт не возникнет большой разницы». Поскольку дело обстоит именно так, продолжает он, «давайте приступим к задаче разделения следующим образом.
Мы изготовим десять карт для Европы; мы изготовим четыре карты для Африки; для Азии мы изготовим двенадцать карт, чтобы включить ее целиком, и мы обозначим, к какому континенту относится каждая карта, а также как много и насколько велики районы на каждой…». Будут приведены широта каждой точки, а также продолжительность самого длинного дня в равноденственных часах. Долготы будут определяться от меридиана Александрии, по восходу или по закату солнца, и представлять собой разницу в равноденственных часах между Александрией и второй точкой, какой бы она ни была.
Авторство 27 карт, сопровождающих текст «Географии» – любимый предмет дискуссий. Птолемей ли лично их изготовил, или рисовальщик под его руководством, или их вообще добавил чуть ли не в 1450 г. некий энергичный издатель, решивший, что текст нуждается в каком‑то графическом сопровождении? Из текста Птолемея явствует, что он сопроводил свой текст и таблицы расстояний (широт и долгот) картами – 27 картами, в числе которых общая карта мира и еще 26 карт, распределенных так, как говорится в главе 2‑й восьмой книги. Изготовили ли их по его заказу, или он нарисовал их собственноручно – вопрос чисто академический. Сторонники теории о том, что Птолемей вообще не делал карт для своей «Географии», основывают свою теорию на записях, обнаруженных в нескольких рукописных копиях этого труда; в них говорится, что карты изготовлены Агатодемоном из Александрии. Возможно, это действительно так; однако внутренние свидетельства указывают на то, что текст писался на базе уже изготовленных карт или одновременно с их изготовлением. Более того, границы карт, проекции, в которых они изготовлены, и географические названия на них – все полностью соответствует тексту. Нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное Агатодемону, да и подпись в упомянутых кодексах говорит, что он «нарисовал их в соответствии с восемью книгами Клавдия Птолемея». Однако эту подпись так и не удалось датировать, да и о призрачном Агатодемоне ничего не известно. Самый ранний из известных рукописных экземпляров «Географии» – в монастыре Ватопеди на горе Афон – датируется XII или XIII в. Поэтому единственное, что мы можем сказать на основании этой надписи – что в какой‑то момент между 150 и 1300 гг. человек по имени Агатодемон изготовил комплект карт «в соответствии с восемью книгами Клавдия Птолемея». Только это, и ничего больше.
Карты Птолемеевой «Географии» – или «Атласа мира» – весьма далеки от идеала, который он подробно описывает в своем тексте. Первая из них, общая карта мира, построена в той проекции, которую Птолемей рекомендовал ленивым, – в модифицированной конической, а не в сферической проекции, которая, по его словам, позволяет правдиво отобразить земную поверхность[21]. 26 региональных карт, которые во всех сохранившихся рукописных экземплярах несут на себе явные черты фамильного сходства, нарисованы в проекции, которой, по всей видимости, пользовался Марин, – проекции на основе равнобедренных трапеций. Обычно все эти карты одинаковы по размеру, но, естественно, сильно различаются по масштабу – в зависимости от изображенного района, количества надписей, характера географических названий и использованных условных обозначений. На каждой из карт главный регион изображен во всех подробностях, а примыкающие к нему районы по краям листа – только контурно; такой метод до сих пор применяется настолько же широко, насколько он полезен и практичен. Еще одна заметная современная черта всех карт Птолемея – отсутствие украшений. В ранних рукописных экземплярах «Географии» отсутствуют морские чудовища, корабли и дикари, которые добавили в печатные издания картоиздатели XVI столетия. Метод разграничения и различения земли и воды, рек и городов с помощью штриховки или различных цветов, примененный Птолемеем, по своей концепции вполне современен, настолько, что современный человек принимает и понимает его с первого взгляда, даже не задумываясь о том, откуда он взялся.
Географические ошибки, допущенные Птолемеем в тексте и в картах, послужили темой множества трудов и служат ученым неиссякающим источником веселья. Тем не менее большинство его ошибок возникло исключительно от недостатка информации. Ему не хватало фактов. Ни у кого во всем мире тогда не было фундаментальных данных необходимых для составления точной карты. Единственная причина, по которой мы не можем оставить без внимания несколько самых вопиющих ошибок «Географии», – тот факт, что эта книга более 1400 лет представляла собой каноническое произведение географической науки. Географы XV и XVI вв. настолько полагались на нее и настолько упорно игнорировали новые открытия морских исследователей, что в конце концов труд Птолемея оказал на развитие картографии мощное сдерживающее влияние. «География» была одновременно и ключевым, и пробным камнем, достижением, пережившим свое время. И все же очень мало найдется книг, которым удалось оказать на развитие цивилизации более глубокое стимулирующее влияние[22].
Первую свою ошибку Птолемей совершил, когда вслед за Посидонием и Страбоном выбрал в качестве окружности Земли величину 18 000 миль и отверг вариант Эратосфена. Длина его градуса составляла 50 миль вместо 70; таким образом, любое расстояние, вычисленное на основании астрономических наблюдений, оказывалось слишком маленьким. Эта первоначальная ошибка особенно сильно отразилась на расстояниях в направлении юг–север, где реально можно было проводить астрономические измерения. Если бы в распоряжении Птолемея было значительное количество широтных наблюдений, сделанных в разных местах, то суммарным результатом стал бы равномерно укороченный мир и ошибки не были бы столь катастрофичными; по крайней мере, получилось бы что‑то похожее на относительную пропорциональность. На самом же деле Птолемей признает, что подобных наблюдений очень мало, а расстояния на карте по большей части вычислены по дневникам путешественников и лишь позже переведены в градусы и минуты дуги; то есть численные математические выводы сделаны на основании не слишком достоверных слухов.
Значение этой фундаментальной ошибки можно очень наглядно проиллюстрировать попытками Птолемея установить на карте положение экватора. Теоретическое расположение этой линии было ему хорошо известно; никто лучше его не знал, каким образом можно определить ее астрономически. Но сам Птолемей никогда не бывал на экваторе, а его теоретические знания мало помогали, когда нужно было провести линию экватора на карте. Наилучшей отправной линией казалась Сиена, лежавшая, по общему мнению, на Южном тропике. Итак, Птолемей отложил от тропика Рака (от Сиены) вниз необходимые 23 градуса, считая каждый градус за 50 миль. В результате его экватор оказался на 400 миль севернее, чем нужно. Под экватором между вариантами Марина и Птолемея выбирать нечего – в них обоих ни расстояния, ни направления не внушают доверия; кроме того, никто там на самом деле не бывал, так что вопрос о том, возможна ли в этом районе жизнь, по‑прежнему оставался открытым.
Второе принципиальное решение, которое отнюдь не повысило точность Птолемеевых карт, – его отношение к расстояниям восток–запад. Вслед за Марином Птолемей установил свой начальный меридиан на островах Фортуны (в настоящее время это, грубо говоря, Канарские острова вместе с Мадейрой), считая, что они лежат дальше к западу, чем любая точка на западном побережье Европы и Африки. Об этих островах почти ничего не было известно; однако и Марин, и Птолемей поместили свой нулевой меридиан в 2 градусах 30 минутах к западу от Священного мыса (мыса Сен‑Винсент), который все, за исключением Пифея, считали самой западной точкой Европы. На самом деле эту линию следовало провести еще примерно на 7 градусов западнее. Кроме того, Птолемей вычислял долготы двумя способами, что, безусловно, добавляло в картину путаницы. Продвигаясь на восток от островов Фортуны, он вычислял гипотетические долготы, выражаемые в градусах и минутах дуги. Фактические же меридианы и расстояния, полученные из рассказов путешественников, рассчитывались на запад от Александрии – центра научного мира. Эти и многие другие особенности построения карт представляют собой тщетную попытку примирить научную теорию с совершенно неадекватным объемом фактического материала. Гипотетическая карта Птолемея была превосходна, но реальность внесла в нее множество ошибок.
Знания Птолемея об окраинах цивилизации и обитаемого мира были шире, чем знания Страбона, но во многих отношениях в них царила путаница. В северных районах, например, Птолемей принял на веру ложные сведения об Ирландии и поместил ее полностью севернее Уэльса. Аналогично Шотландия так перекручена, что на карте Птолемея она оказалась вытянута чуть ли не в направлении восток–запад. Скандинавский полуостров изображен в виде двух островов – Скандии и Туле. Северное побережье Германии за Данией (Херсонес Кимбрийский) показано как граница Северного океана и ориентировано в общем направлении восток–запад. Северное побережье Азии не показано вообще.
Южный предел обитаемого мира Эратосфеном и Страбоном в свое время установили на параллели, проходящей через восточную оконечность Африки (мыс Гвардафуй), Коричную страну и страну сембритов (Сенаай). Эта параллель проходила также через Тапробан (Цейлон и, возможно, Суматра), который обычно считали самой южной частью Азии. Вопрос о том, продолжается ли Африка ниже этой параллели, оставался открытым.
Птолемей пишет, вслед за Марином, о проникновении римских экспедиций в землю эфиопов, в Агисимбу – район Судана за пустыней Сахара, возможно, бассейн озера Чад; кроме того, он излагает и новые сведения о внутренней части Северной Африки, но большая часть этой информации в высшей степени неопределенна и запутанна. Что касается истоков Нила, то и греки, и римляне в свое время пытались их обнаружить, но безуспешно. Император Нерон посылал экспедицию в район Верхнего Египта, и ей удалось проникнуть до Белого Нила – примерно до 9° с. ш. До истоков Нила, однако, она не добралась. Птолемей утверждает, что Нил возникает из двух потоков, которые берут начало в двух озерах, лежащих чуть южнее экватора. Это ближе к истине, чем все предположения, которые выдвигались и до, и после Птолемея – вплоть до нового времени, до открытия озер Виктория и Альберт.
Восточное побережье Африки было известно значительно лучше, чем западное, – греческие и римские купцы добирались вдоль него до самой Рапты (полуостров Раптум напротив Занзибара?); Птолемей помещает эту точку примерно на 7° ю. ш. Далее у него находится залив, который тянется до мыса Прасум (Дельгадо?) на 15,5° ю. ш. Примерно на этой же параллели он размещает регион под названием Агисимба, населенный эфиопами и изобилующий носорогами; открыл его, предположительно, Юлий Матерн, римский военачальник. Птолемей считает это место южным пределом мира; северным его пределом по‑прежнему остается Туле. Таким образом, он расширил полосу обитаемого мира с менее чем 60 градусов (Эратосфен и Страбон) до почти 80 градусов.
Греческая традиция требовала, чтобы с увеличением ширины обитаемого мира на 20° его длина также пропорционально увеличилась. Птолемей, не мелочась, нарисовал западное побережье Африки совершенно произвольно; хотя он больше чем наполовину урезал площадь, выделенную под Африку Марином, приведенный им контур все равно не имел никакого отношения к реальности. Более подходящим местом для увеличения длины мира в тот момент представлялась Восточная Азия, где виделись обширные еще неисследованные пространства. Шелковая торговля с Китаем принесла слухи об обширных землях к востоку от Памира и Тянь‑Шаня, которые греки считали восточным пределом Азии. Птолемей не принял всерьез семимесячное путешествие в Серу и отказался вслед за Марином считать расстояние от Каменной Башни до Серы равным 3620 миль; тем не менее он готов, из общих соображений, принять значение равное половине этой величины.
Птолемей лучше, чем картографы до него, представлял себе обширный регион от Сарматии до Китая. Он впервые демонстрирует довольно ясное представление о великом разделительном горном массиве Центральной Азии, проходящем в направлении север–юг. Он называет эти горы Имаус, но помещает их чуть ли не на 40° восточнее, чем нужно, что заставляет делить Скифию на две части: «перед горами Имаус» и «за горами Имаус» (Scythia Intra Imaum Montem и Scythia Extra Imaum Montem). Он продлил Азию и Африку на восток и юг гораздо дальше, чем на любых более ранних картах, причем сделал это не без оснований. Эти искажения представляли собой результат реального расширения географических знаний и базировались, несомненно, на преувеличенных рассказах путешественников. Вся подобная информация имела сомнительное происхождение, поэтому Птолемей, проводя линию восточного побережья Азии, рисует ее достаточно грубо, примерно в направлении север–юг. Вместо того чтобы продолжить эту линию до земли Линаэ (приморского Китая), он выгибает ее на восток и юг, образуя огромный залив (Sinus Magnus) – что‑то вроде Сиамского залива. Продолжая береговую линию Азии дальше на юг до самой Terra Incognita в южных пределах населенного мира, он превращает Индийский океан в озеро (Indicum Mare).
Предпринятое Птолемеем расширение Азии на восток уменьшило протяженность неизвестной части земли – между восточной оконечностью Азии и западной оконечностью Европы – на 50 градусов, или 2500 миль. Именно эта ошибка вкупе с принятой им ошибочной оценкой окружности Земли стала величайшим вкладом Птолемея если не в картографию, то в историю человеческой цивилизации. Окружность Земли составляет всего лишь 18 000 миль; это сказал Посидоний, подтвердил Страбон и увековечил на своих картах Птолемей. Через тринадцать с лишним столетий эта заниженная оценка зажгла в некоем Христофоре Колумбе мечту добраться до Индии, плывя все время на запад; при этом Птолемеево Западное море не показалось августейшим спонсорам Колумба слишком широким или слишком непреодолимым.
В изображении Южной Азии у Птолемея можно обнаружить немало ошибок, несмотря на то что Александрия уже больше ста лет активно торговала с Западной Индией. Сохранился интересный документ, озаглавленный «Перипл Эритрейского [Индийского] моря» (ок. 80 г. н. э.). В нем содержатся инструкции по плаванию из Красного моря к Инду и Малабару; из этого перипла можно понять, что линия побережья от Баригазы (ныне Бхаруч) отклоняется к югу и идет так до самого мыса Корами (Коморин) и дальше, что заставляет предположить, что Южная Индия представляет собой полуостров. Птолемей, следуя, по всей видимости, Марину, проигнорировал этот документ – а может, никогда и не видел его, – и в результате его Индия получилась слишком широкой и короткой. Эратосфен, судя по тексту Страбона, утверждал, что южная оконечность Индии лежит напротив Мероэ. По большей части земли за Гангом оставались почти неизвестными еще тысячу лет, пока братья Поло первыми не познакомили Западную Европу с большими островами, расположенными в этой части мира. Хороших карт Восточно‑Индийского архипелага не существовало вплоть до начала плаваний в Индию португальцев. Легендарный остров Тапробан, размер которого всегда сильно преувеличивали, в руках Птолемея не претерпел изменений к лучшему – Птолемей растянул его на 15 градусов по долготе и на 12 градусов по широте и сделал тем самым примерно в четырнадцать раз больше, чем на самом деле; кроме того, он протянул его южную оконечность на два с лишним градуса дальше экватора.
Даже на более знакомой территории Средиземноморского бассейна у Птолемея можно обнаружить множество ошибочных картографических деталей. Его Средиземное море примерно на 20 градусов длиннее, чем на самом деле; даже если исправить ошибочное соотношение расстояния и градуса дуги, море все равно окажется примерно на 500 географических миль длиннее, чем нужно. Ширина его Mare Nostrum от Марселя до противоположной точки африканского побережья составляет 11 градусов широты (на самом деле 6,5 градуса).
Самая известная широтная параллель (36° с. ш.) в изображении Птолемея вовсе не параллель[23]. Она пересекает весь обитаемый мир от пролива возле Геркулесовых столпов до залива Исса, проходит через Каралис (ныне Кальяри) на Сардинии и Лилибаум на Сицилии (39°12' и 37°50' с. ш.). Карфаген Птолемей поместил на 1 градус 20 минут южнее параллели Родоса; на самом деле он находится на один градус севернее. Византий изображен на той же широте, что и Массалия, что больше чем на два градуса севернее его реального положения. Из‑за этой конкретной ошибки весь Понт Эвксинский, общие очертания и размеры которого были достаточно хорошо известны, оказался целиком сдвинут на север на эту величину – больше чем на сто миль. Завышение размеров Palus Maeotis (Меотийское болото, то есть Азовское море) вкупе с изменением его общей ориентации на север–юг привело к тому, что его северная оконечность вместе с эстуарием Танаиса (Дона) оказалась на 54°30' с. ш. – на широте южного берега Балтики! Однако Птолемей, по всей видимости, был первым из географов древности, кто имел более или менее верные представления о взаимном положении Танаиса, который обычно считали северной границей между Европой и Азией, и Ра (Волги), впадавшей, по его словам, в Каспийское море. Он также стал первым географом, не считая Александра Великого, который вернулся к правильному мнению, высказанному еще Геродотом и Аристотелем, о том, что Каспий представляет собой внутреннее море и не имеет связи с океаном.
Неоднократно указывалось, что расстояния, приведенные Птолемеем в таблицах для средиземноморских стран – подлинного центра обитаемого мира – ошибочны сверх всяких разумных пределов, имея в виду тот факт, что доступны были римские путевые дневники и итинерарии. Но были ли эти документы действительно доступны невоенным людям вроде Марина и Птолемея? Очень маловероятно, если принять во внимание секретность, которая всегда окружала карты и результаты топографической съемки Римской империи. Если Марину, насколько можно судить, в отношении морских расстояний приходилось полагаться на записи Тимосфена Родосского (адмирала Птолемея Филадельфа, действовавшего около 260 г. до н. э.), то у Клавдия Птолемея, должно быть, вообще не было доступа к информации такого рода – ведь он не имел никаких оснований вести исследования, кроме непонятного стремления к знаниям. И очень вероятно, что Птолемей‑астроном, которого географы обычно критикуют за его методы и за характер собранной им информации, занимал в среде своих влиятельных современников не лучшее положение, чем он занял бы сегодня в наиболее авторитетных географических кругах цивилизованного мира.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
[1] Пергамент или папирус, который отскребли или отмыли от старых записей и использовали вновь (обычно при этом писали поперек прежних строк), называют палимпсестом. Существуют даже двойные палимпсесты – шкурки, которые использовали трижды. Поиск и исследование палимпсестов представляют собой высший пик библиографических изысканий, поскольку под верхними надписями на старых пергаментах было обнаружено несколько очень значительных рукописей, которые прежде считались утраченными; их удалось прочесть при помощи химикатов и инфракрасной лампы. Например, так называемый Ефремов кодекс представляет собой фрагменты греческого текста Ветхого и Нового Завета V в., поверх которых в XII в. были записаны сочинения Ефрема Сирина. (Здесь и далее примеч. авт.)
[2] Вудс Роджерс (ум. в 1732 г.), морской капитан, одно время губернатор Багамских островов, вел весьма интересную жизнь. Некоторые из его биографов возражают против характеристики «пират», которую неизменно добавляли к его имени после грабительской экспедиции 1708–1709 гг., которой он командовал. Кроме общего командования, Роджерс быт еще и капитаном «Дюка» – одного из двух судов флотилии (второе судно назыиалось «Дучесс»). Эти два частных военный корабля снарядили бристольские купцы для действий против испанцев в южных морях. Штурманом на «Дюке» и лоцманом экспедиции быт Уильям Дампир, позже также завоевавший известность.
[3] 1 миля = 1,609 км.
[4] Главный специалист по Страбону, его происхождению, воспитанию и образованию – сам Страбон. Все ссылки на Страбона в этой книге взяты из лондонского издания 1917 г. в восьми томах на английском языке.
[5] Даты жизни Анаксимандра, по Аполлодору, – 611–547 гг. до н. э.
[6] Анаксимен Милетский жил и работал во второй половине VI в. до н. э.
[7] Гекатей, философ и историк, жил и работал в VI и V вв. до н. э.
[8] Пифагор родился, по‑видимому, на Самосе около 582 г. до н. э.
[9] Аристотель (384–322 гг. до н. э.) родился в г. Стагира на побережье залива Стримоникас.
[10] Современные эквиваленты древних мер длины всегда вызывали в научном мире серьезные разногласия. Аттический стадий удостоился особенно пристального внимания, но безрезультатно.
[11] Г н о м о н – древнейший астрономический инструмент.
[12] До экспедиции Жана Ришера в Кайенну в 1672 г. (см. главу VIII).
[13] Д и к е а р х – философ‑перипатетик, географ и историк. Говорили, что он первым придумал способ измерения высоты гор.
[14] В этом месте автор, очевидно, допускает терминологическую небрежность. Ось вращения Земли и ось воображаемой небесной сферы параллельны, как и их экваториальные плоскости, в то время как плоскость эклиптики действительно наклонена к плоскости земного и небесного экватора. (Здесь и далее звездочкой обозначены примеч. пер.)
[15] Эклиптика как существительное определяется следующим образом: «Большой круг небесной сферы, представляющий собой видимый путь Солнца среди звезд, или путь Земли, как его видно с Солнца. Пересечение плоскости орбиты Земли с небесной сферой». В 1940 г. наклонение эклиптики составляло 23°26'49,5", а в 1950 г. оно должно составить 23°26'44,8". На земном глобусе эклиптика представляет собой большой круг, нарисованный под углом около 23°27' к экватору.
[16] Открытие наклона эклиптики приписывается Энопеду из Хиоса, геометру и астроному. Ему же приписывается вычисление длительности «большого года» (59 лет). Согласно его вычислениям, продолжительность обычного года составляла 365 и 22 /59 суток.
[17] Слово «арктический» происходит от греческого слова «арктос» – медведь, которым обозначалось и созвездие Медведицы. Для понимания дальнейших рассуждений важно помнить, что во времена расцвета греческой астрономии ближайшей к Северному полюсу мира яркой звездой была бета Малой Медведицы (Кохаб), а альфа Малой Медведицы (Киносура, нынешняя Полярная) была как раз самой далекой от полюса яркой звездой этого созвездия. Полюс находился значительно ближе к Большой Медведице, чем сейчас.
[18] Последнее замечание ошибочно. Арктический круг, как он определен выше, на полюсе будет охватывать все видимое небо, так как все видимые на полюсе звезды – незаходящие.
[19] 1 фут = 0,3048 м.
[20] Х о р д а П т о л е м е я – это по существу тригонометрическая функция угла равная двум синусам половинного угла. Птолемей вычислил точно хорду угла в 1,5 градуса и оценил с достаточной точностью хорды углов 1 градус и 0,5 градуса, что и позволило ему составить таблицу хорд с шагом 0,5 градуса.
[21] Это верно как в отношении сохранившихся рукописных экземпляров «Географии», так и, что более важно, в отношении ее печатный изданий.
[22] Ошибки Птолемея лучше всего изучать путем непосредственного сравнения его карты с хорошей современной картой того же района.
[23] Птолемей делал множество астрономических вычислений для параллели Родоса; их можно найти во второй книге «Альмагеста». Теон из Александрии привел три возможные причины привязанности Птолемея к этой параллели. 1) Высота полюса там составляла 36 градусов – целое число, в то время как в Александрии она составляла, по общему мнению, 30 градусов 58 минут; 2) Гиппарх провел на Родосе много наблюдений, точность которых Птолемей мог проверить; 3) Родос представлял средний климат из семи описанных климатических поясов.
Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 93; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
