НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ 4 АВГУСТА 1864 г.
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землею -
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Стихотворение это, написанное в канун первой годов-
щины со дня смерти Е. А. Денисьевой, занимает опреде-
ленное - и очень значительное - место в "Денисьевском
цикле". Безусловной предпосылкой понимания текста явля-
ется биографический комментарий. Он неоднократно давал-
ся в тютчевской литературе. И все же необходимо под-
черкнуть, что если мы представим себе двух читателей -
одного, ничего не знающего об отношениях поэта и Е. А.
Денисьевой, но воспринимающего текст как произведение
искусства, и другого, рассматривающего стихотворение
лишь как документ в ряду других - художественных, эпис-
толярных, дневниковых и пр., - освещающих эпизод из би-
ографии Тютчева, то дальше от понимания значения этого
произведения будет, конечно, второй, при всем богатстве
его сведений. Здесь уместно сослаться на самого Тютче-
ва, писавшего: "...вы знаете, как я всегда гнушался
этими мнимо-поэтическими профанациями внутреннего
чувства, этою постыдною выставкою напоказ своих язв
|
|
|
сердечных.., боже мой, боже мой! да что общего между
стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и
тем... страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в
эту самую минуту на душе происходит..."', Рассмотрим,
как мысль Тютчева воплощается в тексте стихотворения.
Как и "Два голоса", анализируемый текст отчетливо чле-
нится на параллельные сегменты. Композиционный и смыс-
ловой параллелизм составляющих его трех строф очевиден
и составляет интуитивную читательскую данность, Повторы
последнего стиха каждой строфы, повторы лексических
единиц в аналогичной позиции, параллелизм интонаций
позволяют рассматривать три строфы как три парадигмати-
ческих формы некоторой единой смысловой конструкции.
Если это так, то лексика этих строф должна образовывать
соотнесенные замкнутые циклы. Каждый текст имеет свой
мир, грубым, но адекватным слепком которого является
его словарь. Перечень лексем текста -
Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1957. С.
448-449.
это предметный перечень его поэтического мира. Монтаж
лексем создает специфическую поэтическую картину мира.
|
|
|
Попробуем составить микрословари строф, расположив
их параллельно, и сделаем некоторые наблюдения над лек-
сикой текста.
| I | II | III |
| ангел | ангел (2) | |
| бреду | б | |
| большой | ||
| в | ||
| вдоль | ||
| видеть | видеть | видеть |
| витать | ||
| вот | вот | |
| все | ||
| гаснущий | ||
| где | где | |
| день | день | день(2) |
| дорога | ||
| друг | ||
| душа | ||
| жить | ||
| завтра | завтра(2) | |
| замирать | земля | |
| и | ||
| ли | ли | ли |
| милый | мир | |
| мой | мой | мой(2) |
| молитва | ||
| мы | ||
| над | ||
| ни | ||
| ноги | ||
| отблеск | ||
| память | ||
| печаль | ||
| последний | ||
| роковой | ||
| с | ||
| свет | ||
| темнее (2) | ||
| тихий | ||
| тот | ||
| ты (2) | ты | |
| тяжело | ||
| улететь | ||
| я (3) | я | я |
1 Включенные в словарь лексемы даны в исходных грамма-
тических формах.
|
|
|
Выделяется устойчивая группа повторяющейся лексики,
большинство слов встречается более чем один раз, что
для столь краткого списка является очень большой час-
тотностью. Повторяются "я", "ты" (с окказиональными си-
нонимами "ангел", "друг мой милый"), "видеть", "день",
"завтра". Таким образом, выделяется инвариантная струк-
турная схема: два семантических центра - "я" и "ты" - и
два возможных типа отношения между ними:
разлука ("завтра день молитвы и печали") или свида-
ние ("ты видишь ли меня?"). Вся остальная лексика сос-
тавляет "окружение" этих персонажей и их встречи-разлу-
ки. Однако эта общая схема в каждой строфе варьируется.
Прежде всего, меняется характер окружения. В первой
строфе - это реальный, земной пейзаж: большая дорога и
гаснущий день. В центре картины как пространство, дос-
тупное зрению автора, находятся дороги - часть земной
поверхности. Объем картины соответствует обычному восп-
риятию человека. Пространство второй строфы определяют
иные имена: "земля" и "мир", а в третьей строфе прост-
ранственные показатели вообще исчезают, поэтический мир
|
|
|
имеет нулевую пространственную характеристику - он вне
этой категории. В связи с этим меняется семантика слова
"день": в первой строфе "гаснущий день" - это вполне
реальный закат, во второй - отблеск дня затухает "над
землею", игра тьмы и света приобретает космический ха-
рактер, а в третьей - "день" вообще лишается связи с
противопоставлением "свет - тьма", выступая предельно
абстрактно, как синоним понятий "срок", "время".
Таким образом, пространство этих поэтических миров
последовательно расширяется, включая вначале бытовое
окружение, затем - космическую протяженность и, нако-
нец, универсум, который будучи всем, столь обширен, что
пространственных признаков уже не имеет.
Соответственно окружению меняется и облик персона-
жей, и их соотнесенность. В первой строфе "я" - малая
часть земного пространства. Земная дорога (двойная се-
мантика этого образа очевидна) ему кажется несоизмеримо
огромной и утомительной. Передвижение его по дороге
охарактеризовано глаголом "бреду", а огромность ее для
"меня" передана через усталость, вызванную движением
("тяжело мне, замирают ноги"). При такой структуре
пространства "друг мой милый", к которому обращается
"я" в четвертой строке, должен находиться вне этой про-
тяженности, видимо, вверху, и вопрос:
"Видишь ли меня?" - подразумевает взгляд сверху
вниз.
Вторая строфа, обобщая пространство "земли" и "ми-
ра", исключает из него говорящего. Частица "вот" (на
фоне имеющей совсем иную семантику побудительной части-
цы "вот" в первой строфе) обнажает свою указательную
природу, отделяя тем самым в пространстве указывающего
от указываемого. С этим же связано то, что мир характе-
ризуется указательным местоимением "тот", а не "этот".
Вынесенность поэтического "я" в надземное пространство
совпадает с характерной сменой (относительно первой
строфы) глаголов. Глаголы, обозначающие конкретные
действия и состояния (подчеркнуто "приземленные", конк-
ретные по семантике): "бреду", "замирают (ноги)", -
сменяются наиболее общим для человека экзистенциальным
по значению глаголом "жить". Еще более интересно дру-
гое: глаголы первой строфы даны в настоящем времени;
вторая строфа разделяет "я" и мир, в котором оно жило в
прошлом. Достигается это временным отделением действо-
вателя от действия - употреблением прошедшего времени.
Вот тот мир, где жили мы...
Параллельно с отделением "я" от мира происходит
сближение его с "ты". Стих:
Вот тот мир, где жили мы с тобою -
приписывает "я" и "ты" общую - внешнюю - точку зре-
ния по отношению к миру.
Последние стихи каждой из строф несут особую струк-
турную функцию - они ломают ту конструкцию мира, кото-
рую создают три предшествующие, сюжетом первых трех
стихов каждой строфы они максимально не подсказываются
и не могут объединиться с предшествующей им строфой в
единой структурной картине мира. Так, последний стих
первой строфы структурно вырывается из того двумерного
мира с линеарным движением внутри него ("бреду я
вдоль... дороги"), образ которого создают три предыду-
щие.
По такому же "взрывному" принципу построена и чет-
вертая строка второй строфы: весь текст утверждает
пространственное единство, совмещенность точек зрения
"я" и "ты" (вплоть до конструирования "я", которое "жи-
ло", т. е. уже не живет). Казалось бы, теперь препятс-
твий к контакту нет. Но последний стих (на фоне всей
строфы его вопросительная интонация звучит как отрица-
ние) уничтожает впечатление контакта: "я" не видит
"ты", а относительно "ты" неизвестно, видит ли оно "я".
Бросается в глаза еще одна особенность. Первая стро-
фа, декларирующая пространственный разрыв между "я" и
"ты", выделяет их одинаковую природу ("ты" для "я" -
Друг, существо одной с ним природы, только разлука пре-
пятствует им видеть друг друга). Вторая строфа соедини-
ла "я" и "ты" в пространстве, но изменила природу "ты":
"ты" из "друга" для "я" стало "ангелом". В сопоставле-
нии "друг" - "ангел" можно выделить вторую степень эмо-
ционального переживания той же семантики (дважды повто-
ренное "ангел мой" в третьей строфе дает превосходную
степень). Однако и семантика не совсем однородна: обра-
щения к возлюбленной типа "друг мой", "сердце мое",
"ангел мой", "богиня" (особенно в поэтическом тексте с
его тенденцией к семантизации формальных элементов) да-
ют некоторые смысловые сдвиги в пределах общей синони-
мики. "Друг мой" дает отношение равенства, близости,
одинаковости "я" и "ты", "сердце мое" - частичности
("ты" есть часть "я") и инклюзивности: "ты" в "я" (ср.
у Пастернака использование шекспировского образа: "Я
вас в сердце сердца скрою"). "Ангел мой", "богиня" не-
сут в себе семантику субстанционального неравенства "я"
и "ты" и пространственной размещенности: "ты" выше "я"
в общей модели мира. Таким образом, "ангел мой" вместо
"друг мой" вводит противоречащую всей строфе семантику
разрыва между "я" и "ты" и делает обоснованным высказы-
ваемое сомнение. Третья строфа, отвечая на сомнение в
возможности встречи на земле и над землей, порывает с
миром любого пространства переносится в не-пространс-
тво. Одновременно меняется конструкция времен. В первой
строфе земное время есть время текста. Во второй - зем-
ные действия даны в прошедшем, а неземные - в настоя-
щем. В третьей - земные события еще будут совершаться
("завтра день молитвы и печали"), вводится условное
действие, противопоставленное индикативу всех предшест-
вующих глаголов, со значением всеобщности, "где б души
ни витали" (ср. семантическую лестницу нагнетания зна-
чения всеобщности: "брести" - "жить" - "витать").
И снова четвертый стих приносит неожиданность: возв-
ращение к исходной глагольной форме - индикативу насто-
ящего времени, структурное отделение образа "витающей"
души от "я" и, следовательно, возврату к исходному
-земному - переживанию личности. И если вся последняя
строфа создает образ вневременной и внепространственной
встречи, то последний стих предъявляет ей безнадежный
ультиматум: встреча должна произойти на земле. Так
строится модель необходимости невозможного, составляю-
щая смысловую основу конструкции текста. При этом, пос-
кольку каждый четвертый стих одновременно выступает как
рифма строфы и, возвращая читателя к предыдущему текс-
ту, поддерживает в его памяти намеченные там смысловые
структуры, перед нами возникает не одна картина мира, а
три различных, как бы просвечивающих друг сквозь друга.
Смена образов мира (расширение самоотрицание) и движе-
ние поэтического "я" внутри этого мира придает тексту
ту динамичность, которая, по мнению исследователей, ха-
рактерна для лирики Тютчева. Однако полученный резуль-
тат - еще далеко не все, что можно сказать о содержа-
тельной структуре этого стихотворения. От рассмотренно-
го уровня можно пойти к более низким - описать ритми-
ческую фонологическую структуры (для краткости опускаем
их в данном случае но можно обратиться и к более высо-
ким.
Стихотворение можно рассматривать как сообщение на
некотором его специально организованном художественном
языке. До сих пор мы конструировали этот язык из данных
самого текста. Однако такая конструкция буде неполной.
Естественно, что не все элементы языка проявляются в
тексте, который всегда есть в равной мере реализация
одних и нереализация других, потенциально возможных
структурных компонентов. Учитывая только то, что имеет-
ся в данном тексте, мы никогда не обнаруживаем случаев
неупотребления. А семантически они не менее активны,
чем любые случаи употребления2.
Для того чтобы полнее понять тот художественный
язык, на котором нами говорит автор, необходимо выйти
за пределы текста. Решение это задачи в полном объеме
потребовало бы колоссальных усилий: тютчевский текст
может быть рассмотрен как материализация таких абс-
трактных систем, как: "русская лирика середины XIX ве-
ка", "русская философская поэзия, "европейская лирика
прошлого века" или многие другие. Построение подо-
1 Ср.: Берковкий Н. Я. Ф. И. Тютчев // Тютчев Ф. И.
Стихотворения. М.; Л., 196:
С. 25-27.
2 См. с. 41-44.
бных функциональных структур, бесспорно, является
целью науки, но следует сознаться, в достаточной мере
отдаленной. Поставим задачу более узко: возьмем лишь
два типа внетекстовых связей - связь текста с традицией
русского пятистопного ямба и его отношение к близким по
времени другим тютчевским стихотворениям "денисьевского
цикла" и посмотрим, какие новые семантические отношения
текст получит на их фоне.
1. Стихотворение Тютчева написано пятистопным хоре-
ем. Размер этот сравнительно редок в русской поэзии.
Автор специальной монографии, посвященной этому вопро-
су, Кирилл Тарановский, отмечает, что "вплоть до соро-
ковых годов XIX века пятистопный хорей в русской поэзии
исключительно редок"'. Распространение его автор связы-
вает с воздействием поэзии Лермонтова, убедительно ар-
гументируя этот тезис почти исчерпывающим стиховедчес-
ким материалом. Особенное значение он придает здесь
последнему лермонтовскому стихотворению "Выхожу один я
на дорогу...", которое, по его утверждению, "получило
совершенно исключительную известность у широкой публи-
ки. Оно было положено на музыку, по всей вероятности,
П. П. Булаховым, вошло в народный обиход в качестве
песни, не только в городской, но и в крестьянской среде
и пользуется широкой популярностью до наших дней. Оно
вызвало не только целый ряд "вариаций на тему", в кото-
рых динамический мотив пути противопоставляется статис-
тическому мотиву жизни, но и целый ряд поэтических раз-
думий о жизни и смерти, о непосредственном соприкосно-
вении одинокого человека с равнодушной природой"2.
Перечисляя поэтические рефлексы лермонтовского текс-
та, К. Тарановский упоминает и интересующее нас стихот-
ворение Тютчева: "Единственное стихотворение Тютчева,
написанное пятистопным хореем, "Накануне годовщины 4
августа 1864 г.", т. е. дня смерти Е. А. Денисьевой,
является уже прямой вариацией на лермонтовскую тему"3.
Таким образом, и для автора, и для читателя широко из-
вестное лермонтовское стихотворение своей структурой
задавало некоторый частный язык, традицию, определенную
систему ожидания, в отношении к которым воспринимался
текст Тютчева.
Рассмотрим же его общую структуру, разрешая себе,
однако, лишь ту степень подробности, которая необходима
для наших дальнейших целей.
Стихотворение Лермонтова4 вводит нас в отчетливую
семантическую систему, основной оппозицией которой яв-
ляется противопоставление соединенного - разъединенно-
му. "Коммуникативность - неспособность к контактам",
"союз - одиночество", "движение - неподвижность", "пол-
нота -
1 Тарановский К. О взаимоотношении стихотворного
ритма и тематики // American
Contributions to the Fifth International Congress of
Slavists. C. 343.
2 Там же.
3 Там же.
4 Стихотворение "Выхожу один я на дорогу..." неод-
нократно рассматривалось в
исследовательской литературе. См., в частности, мо-
нографический анализ Д. Е. Максимова в сб.: Русская
классическая литература: Разборы и анализы. М., 1969.
С. 127-141.
ущербность", "жизнь - смерть" будут конкретными мани-
фестациями этой основной оппозиции. Уже первый стих
указывает на широкий круг проблем, По сути дела, каждое
слово в нем - знак некоторых идейных структур, хорошо
известных читателю лермонтовской поры из предшествующе-
го культурного опыта,;
Однако сложность состоит в том, что эти, активизиру-
емые в тексте, семантические структуры находятся в от-
ношении взаимоисключения: уже первый стих ставит перед
читателем задачу, предлагая совместить несовместимое.
"Выхожу один я на дорогу" - "выхожу" и "на дорогу"
задает представление о движении, направленном в даль.
"Дорога" и "идущий" - достаточно общезначимые культур-
ные символы. Еще в античной и средневековой литературе
они связывались с семантикой контакта: идущий - или
странник, наблюдающий. жизнь и нравы людей (контакт с
окружающим миром), или пилигрим, ищущий спасения и ис-
тины (контакт с богом). Идущий по дороге продвигается к
цели - этим он отличается от "скитальца" - человека,
вручившего свою судьбу неведомым силам. Связь движения
с контактом обнажена в стихотворении Тютчева "Стран-
ник"'. Разрыв с людьми означает здесь не обрыв контак-
тов, а переход к другим, значительно более ценным свя-
зям, связям с природой и богом.
Домашних очагов изгнанник,
Он гостем стал благих богов!..
Чрез веси, грады и поля,
Светлея, стелется дорога, -
Ему отверста вся земля,
Он видит все - и славит бога!..
По этой же схеме построен и "Пророк" Лермонтова, ви-
димо, синхронный "Выхожу один я на дорогу...": разрыв с
людьми ("В меня все ближние мои / Бросали бешено ка-
менья") - плата за единение с тем миром, который, по
своей словарной характеристике, почти дословно совпада-
ет с миром интересующего нас текста:
И вот в пустыне я живу...
Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.
Ту же понятийную схему мы встречаем и в "Иоанне Да-
маскине" А. К. Толстого, и в ряде других текстов. Види-
мо, она соответствовала некоторому типовому культурному
стандарту, имея ближайшим предшественником, вероятно,
"Исповедание веры савоярдского викария" из "Эмиля" Рус-
со.
Однако образ "идущего" имеет и другой устойчивый
смысл: динамика в пространстве - не только знак контак-
та, но и знак внутреннего изменения. В очень широком
круге текстов, создававших для Лермонтова фон, движу-
щийся
1 Будучи написано в 1830 г., оно не могло учитывать
специфически лермонтовское понимание "дороги", и этим -
в данном случае - для нас особенно интересно.
герой - это герой или возрождающийся, или погибающий.
Поскольку каждый шаг его - изменение внутреннего состо-
яния, он всегда дается в отношении к прошедшему и буду-
щему. Дорога неотделима от движения во времени. Как мы
увидим, лермонтовский текст дает не модель движения, а
схему его отрицания. Если, как мы уже отмечали, "выхо-
жу" и "дорога" задают семантические стереотипы движе-
ния, то сразу же подчеркнутое "один я" противоречит
связанному с динамикой состоянию контактности, тем бо-
лее что в дальнейшем выясняется, что одиночество среди
людей не компенсируется единством с природой, а, напро-
тив, служит лишь проявлением полной изолированности от
всего мира.
Но не менее существенно и другое: лирическое "я"
текста не включено в поток временного развития - оно
отвергает и прошлое, и будущее:
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть...
Вырванность из цепи изменений ставит героя вне вре-
мени. Ср.:
Мое грядущее в тумане,
Былое полно мук и зла...
Зачем не позже иль не ране
Меня природа создала?
Этим вопрос о развитии в корне снимается, а тем са-
мым снимается и проблема движения. Лермонтовский текст
вводит то, что К. Тарановский называет "динамическим
мотивом пути", лишь затем, чтобы отвергнуть движение
как форму бытия своего героя.
Звуковой повтор - полиндром:
один я на дорогу
одна - надо -
закрепляет антитезу: дорога - не мой мир, а мой ан-
тимир. Возникает сложное семантическое отношение анало-
гичного типа: как вначале было предложено, а затем оп-
ровергнуто родство "я" и "дороги", так здесь намечено
сближение "я" и "пустыни". Оно закрепляется и фонологи-
ческим параллелизмом о-д-и-н-я у-т-ы-н-я2, и этимологи-
ей слова "пустыня", наталкивающей на семантическую бли-
зость к понятию одиночества (ср.: "пустынник" в значе-
нии
Разновидностью такого "антидвижения" будет "беспо-
лезный путь", "бесцельная дорога", характерные для "Пу-
тешествия Онегина" и "Героя нашего времени". Здесь
пространственное перемещение героя становится знаком
его внутренней неподвижности (ср. рефрен "Тоска, тос-
ка", сопровождающий Онегина, внутреннюю неизменность
Печорина).
2 Параллелизм этих рядов ощущается как
несомненное родство фонологической
базы с постоянной активизацией дифференцирующего
признака: "о - у" - активизируется лабиализованность,
"д - т" - звонкость - глухость; "и - ы" - признак ряда.
Ср.: Толстая С. О фонологии рифмы // Учен. зап. Тартус-
кого гос. ун-та. 1965. Вып. 181. (Труды по знаковым
системам. Т. 2).
"монах"'). Но "пустыня" находится в состоянии контакта
("внемлет богу"), она включена, как и дорога, в тот
мир, из которого "я" выключено. Мир открытый во все
стороны: в длину (дорога), ширину (пустыня), высоту
(небеса), противостоит "я", составляющему особый изоли-
рованный микрокосм. Мир пронизан связями: блестящая до-
рога сближает близкое и далекое, "верх" связан с "ни-
зом" - пустыня внемлет богу, земля залита "сияньем го-
лубым", огромность пространств - не помеха для контакта
("звезда звездою говорит"). Мир расширенный - взаимос-
вязан, а сжатый - вырван из связей. При этом космичес-
кий мир наделен признаком жизни - "спит", "внемлет",
"говорит". Что касается "я", то отношение его к оппози-
ции "жизнь - смерть" весьма сложно2.
Оппозиция "торжественно и чудно" - "больно и трудно"
создает контраст между миром единым, полным, и в силу
этой полноты не имеющим внешних целей, пребывающим, а
не движущимся (ср. полное отсутствие глаголов движения
и обилие указаний на состояние покоя: "ночь тиха "в не-
бесах торжественно" - без глагола! - "спит земля"), - и
миро ущербным и ищущим цели вне себя. В связи с этим
возникает странное для Лермонтова с его постоянным
отождествлением жизни с борьбой порывом, движением
представление о жизни как неподвижной полноте, характе-
ризующейся внутренним покоем. "Я" стихотворения имеет
интенцию от внешнего движения к внутреннему. "Выхожу" в
начале стихотворения - "я ищу" в третьей строфе, где
дано движение, цель которого - неподвижность: "Я ищу -
свободы и покоя! / Я б хотел - забыться и заснуть! "Я",
ведущее жизнь, похожую на смерть, мечтает о смерти, по-
хожей на жизнь. Это будет состояние, не имеющее ни про-
шедшего, ни будущего, лишенное памяти ("забыться"),
выключенное из цепи событий земной жизни ("свобода и
покой" - перефраз пушкинского "покой и воля"). И вместе
с тем это будет смерть ("навеки... заснуть"), не отни-
мающая полноты внутренней жизни ("в груди дремали жизни
силы"), внутреннего движения ("дыша,
1 "Веди меня, пустыни житель, / Святой анахорет"
(Жуковский), "пустынножительствовать" - жить в одино-
честве (древнерусск.).
2 Ср. два возможных соотношения элементов земного
пространства в поэзии Лермонтова:
I. Оппозиция: город - путь и пустыня
(выступают как синонимы). Так, в "Пророке" - уход,
путь - это перемещение из города в пустыню:
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу...
II. Оппозиция: город и пустыня - путь
(синонимы в оппозиции подвижность неподвижность)
Пойдешь ли ты через пустыню
Иль город пышный и большой,
Не обижай ничью святыню,
Нигде приют себе не строй.
("Когда, надежде недоступный...")
вздымалась тихо грудь"). И именно эта полнота уст-
ремленной в себя внутренней жизни превратит "я" в подо-
бие мира, а не в инородное ему тело и наделит его глав-
ным свойством природы - способностью к контактам. Имен-
но здесь появляется голос, поющий о любви (а "я" "внем-
лет" ему, как пустыня богу1), и символ бессмертия -
дуб, соединяющий микрокосм - могилу - со вселенной.
Стихотворение дает, таким образом, сначала несовмести-
мость "я" и живого мира, затем уничтожение "я" и иде-
альное возрождение в новом виде - внутренней полноты и
органичности, подобной миру и поэтому способной всту-
пить с этим миром в связь.
Построив модель преодоления трагической разорваннос-
ти, Лермонтов создал текст, резко отличающийся от той
картины мира, которая возникает из большинства его сти-
хотворений. Если воспринимать "Выхожу один я на доро-
гу..." как тот культурный фон, на который проецировался
текст Тютчева, то отчетливо обнажаются некоторые осо-
бенности тютчевского стихотворения.
В первую очередь следует отметить подчеркнутую нес-
веденность стихотворения к гармоническому целому: оно
заканчивается вопросом, на который не может быть дано
ответа. Построенное из разнородных семантических струк-
тур, оно утверждает невозможность сведения их воедино.
Именно в свете этой традиции рельефно выступает то, что
мир Тютчева - не романтическая разорванность, строящая-
ся на соединении контрастов, лежащих в одной плоскос-
ти2, а близкое к поэтике XX в. соединение того, что не
может быть соединено ни в одной рациональной системе. И
поэт не предлагает никаких "снимающих" эту невозмож-
ность моделей. Приведем лишь два примера:
I
Вечер мглистый и ненастный...
Чу, не жаворонка ль глас?..
Ты ли, утра гость прекрасный,
В этот поздний, мертвый час?
Гибкий, резвый, звучно-ясный,
В этот мертвый, поздний час,
Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс!
II
Впросонках слышу я - и не могу
Вообразить такое сочетанье,
А слышу свист полозьев на снегу
И ласточки весенней щебетанье.
Первое стихотворение написано в 1836, второе - 1871
г., но ни в одном, ни в другом Тютчев не объясняет, как
же можно осмыслить такое сочетание. Он просто сопостав-
ляет несовместимое.
1 Ср. песнь рыбки в "Мцыри".
2 Типа: "И ненавидим мы, и любим мы случайно", где
"ненавидеть" и "любить" - антонимы, легко нейтрализую-
щиеся в единой схеме более высокого уровня.
Почти полное совпадение первых строф стихотворений Тют-
чева и Лермонтова как будто задает общность семантичес-
ких структур и сразу удостоверяет, что один текст дол-
жен восприниматься в отношении ко втором1
I
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
II
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?
"Бреду" на фоне "выхожу", "большая дорога" - просто
"дорога", да "вдоль" вместо "на" выглядит гораздо более
приземленно, вещественно реально. Это же сгущение "ре-
альности" - с явным указанием на старчески возраст "я"
вместо неотмеченности этого признака у Лермонтова - в
замен "ночь тиха..." на "тяжело мне". Поскольку общий
облик окружающего "я" мира дан в сходных чертах:
Сквозь туман кремнистый путь блестит...
В тихом свете гаснущего дня... -
можно предположить, что именно материальный, земной
облик тютчевского "я" - главное препятствие к свиданию.
Но тогда, следуя лермонтовской схеме, трагизм первой
строфы должен быть постепенно снят: между личностью
возлюбленной, влившейся в космос, и поэтом контакт ста-
нет возможным когда и он преодолеет мертвенное одино-
чество и, проникнувшись общей жизнью, обретет способ-
ность слышать ее голос.
Вторая строфа стихотворения Тютчева соответствует
второй и третьи строфам лермонтовского текста, но дает
решительно иной ход мысли: разрыв с земным "я" не при-
носит гармонии. В результате - трагическая последняя
строфа вместо двух умиротворяющих в конце стихотворения
Лермонтова.
Стихотворение Тютчева строится как отказ от надежд
на гармонию. Поэтому троекратно повторенный заключи-
тельный вопрос усиливает сомне-
Необходимо иметь в виду, что подобная "умиротво-
ренность" возникала в связи с отдельным бытованием лер-
монтовского текста: как часть всей лирики поэта, в от-
ношении к ней, стихотворение раскрывало трагические ас-
пекты в такой же мере, в какой трагичен голос рыбки в
"Мцыри", поющий усыпительные песни о любви в момент
краха надежд героя на деятельную жизнь. Трагедия без-
действия обнажаете в этом тексте лишь в его отношении к
другим произведениям Лермонтова. В связи с этим и тют-
чевский текст будет раскрываться по-разному для читате-
ля, проецирующего его на изолированное стихотворение
Лермонтова или на то ж стихотворение как часть лирики
Лермонтова.
ние. Вопросы построены так, что требуют нагнетания ин-
тонации, которая при совпадении общеязыковых значений
становится основным смыслоразличающим элементом. Если
во втором стихе замена "друг" на "ангел", кроме уже от-
меченной смысловой разницы, несет с собою повышение
эмоции ("ангел" - этап на пути движения от "друг", с
его вполне реальным семантическим содержанием, к междо-
метию), то последний повтор дает не только эмфатическое
удвоение (мы уже говорили, что повтор типа "далеко-да-
леко" воспринимается как увеличение степени качества),
но и обдуманное нарушение логического синтаксиса,
вплоть до сознательного затемнения рационального смысла
последних двух стихов.
На фоне лермонтовского текста в стихотворении Тютче-
ва видна еще одна особенность - тем более примечатель-
ная, что Лермонтов и Тютчев здесь как бы меняются мес-
тами, поскольку и стихотворение Лермонтова, и стихотво-
рение Тютчева, взятые изолированно от их остального
творчества, во многом не совпадают с "типовым" предс-
тавлением о художественной позиции этих поэтов. Само
понятие контакта в сопоставленных текстах глубоко раз-
лично. У Лермонтова это контакт с природой (скорее,
"тютчевская" проблема), а у Тютчева - с человеком -
вопрос типично лермонтовский. При этом у Лермонтова
слияние с природой заменяет невозможный контакт с дру-
гим человеком - у Тютчева земная, человеческая бли-
зость не может быть заменена ничем.
2. Иные аспекты раскрываются в анализируемом стихотво-
рении при сопоставлении его с контекстом тютчевской ли-
рики. Не претендуя на решение сложной задачи построения
даже самой приблизительной модели лирики Тютчева, ука-
жем на некоторые ее стороны, важные для понимания инте-
ресующего нас текста. При всем многообразии тютчевского
представления о мире, оно включает несколько в доста-
точной мере стабильных конструкций. Так, очень сущест-
венные оппозиции:
| пошлость | поэзия |
| толпа | я |
| день | ночь |
| шум | тишина (молчание) |
| человеческое | природа - |
| общество |
организованы по оси "верх-низ", так что путь от пош-
лости к поэзии, от толпы к "я" и т. д. моделируется как
путь вверх.
Ср. письмо Тютчева через три дня после похорон Е.
А. Денисьевой: "Пустота, страшная пустота. И даже в
смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле
нужна, а не там где-то". Дочь Тютчева с осуждением пи-
сала, что он "повергнут в ту же мучительную скорбь, в
то же отчаяние от утраты земных радостей, без малейшего
проблеска стремления к чему бы то ни было небесному"
(цит. по: Тютчевский сборник. Пг., 1923. С. 20, 29).
См. также: Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. С. 445.
В этом смысле характерно, что в ряде текстов движение
снизу вверх -перемещение из дня в ночь. Так, в разби-
раемом нами стихотворении по мере подъема авторской
точки зрения вверх сгущается темнота. В стихотворении
"Душа хотела б быть звездой..." на земле - день, кото-
рый сделал незримой царящую в вышине ночь. В стихотво-
рении "Кончен пир, умолкли хоры..." - внизу не только
"светлая зала", "тускло-рдяное освещение", " и шум,
вверху - ночь и тишина.
В связи с этим там, где работает подобная пространс-
твенная схема, сюжет строится как движение снизу вверх
или как стремление к этому. Невозможность подняться
воспринимается как трагическая власть пошлости над поэ-
том.
О, как тогда с земного круга
Душой к бессмертному летим...
...Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло.
Но, ах не нам его судили
Мы в небе скоро устаем, -
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.
...Вновь упадаем...
("Пробуждение")
Так создается существенная для Тютчева схема:
А. Пейзаж. Поскольку он здесь выступает как "низ" и,
следовательно изоморфен (подобен) не природе, а толпе,
в нем подчеркиваются пестрота назойливость, шум, яр-
кость.
Б. Полет (птица).
В. "Я" (невозможность полета). "Я" стремится к Б, но
пребывает в А"
Приведем два текста, из которых второй относится к
"денисьевскому
циклу" и хронологически непосредственно предшествует
интересующему на стихотворению, а первый написан в 1836
г. Хронологический диапазон свидетельствует об устойчи-
вости данной пространственной модели в лирике Тютчева.
С поляны коршун поднялся,
Высоко к небу он взвился;
Все выше, дале вьется он,
И вот ушел за небосклон.
Природа-мать ему дала
Два мощных, два живых крыла -
1 Это не исключает наличия в других текстах иной
направленности. Семантика темноты и света в поэзии Тют-
чева - очень большая и вполне самостоятельная тема
А я здесь в поте и в пыли,
Я, царь земли, прирос к земли!..
II
О, этот Юг! о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет - и не может...
Нет ни полета, ни размаху;
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...
Если не касаться всего, что в этих стихотворениях
принадлежит их тексту - их индивидуального (в первую
очередь создаваемого грамматико-фонологическим уров-
нем), а говорить лишь об интересующем нас аспекте,
нельзя не отметить, что в организующем тексты лиричес-
ком движении "верх" и "даль" выступают как синонимы:
Все выше, дале вьется он...
Нет ни полета, ни размаху...
Движение снизу вверх - это перемещение из области
сжатых границ в сферу их расширения.
"Юг", "Ницца", "блеск" - синонимы "праха", "поляна"
- "пота" и "пыли". С такого рода схемой связано устой-
чивое у Тютчева помещение более ценного выше в лиричес-
ком пространстве. Агрессия пошлости совершается в одном
пространстве, победа над ней - в другом.
В "Чему молилась ты с любовью..." борьба "ее" и
"толпы" трагически завершается победой последней, пос-
кольку обе борющиеся силы расположены на уровне земли,
"людского суесловия":
Толпа вошла, толпа вломилась...
Победа возможна лишь в случае "полета":
Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!
Очень интересно в этом отношении стихотворение "Она
сидела на полу". Вначале уровень героини в тексте дан
ниже уровня "горизонта текста":
Она сидела на полу.
1 Постоянный у Тютчева эпитет "живые крылья" вводит
в эту же систему: смерть (низ) - жизнь (верх).
Затем точка зрения героини выносится вверх, над ее фи-
зической точкой зрения: она смотрит на все происходящее
и на себя самое - извне и сверху.
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...
После этого точка зрения автора (горизонт текста),
который вначале воспринимался как стоящий перед сидящей
на полу героиней, опускается вниз, подчеркивая безмер-
ное возвышение "ее" над "я".
Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени.
И наконец, возлюбленная перемещается в надземный мир
теней (стихотворение написано при жизни Денисьевой),
оставляя поэта в земном пространстве.
Не менее существенна для нашего текста другая прост-
ранственная модель, которая также характерна для лирики
Тютчева. Здесь мы сталкиваемся не с перемещением внутри
пространственной конструкции мира, а с ее расширением.
Точка зрения текста, идеальное, желаемое положение ли-
рического "я" - неподвижно, но мир вокруг него беспре-
дельно расширяется.
Оппозиция "верх - низ" заменяется другой; "ограни-
ченное - безграничное", причем в пространстве "ограни-
ченный" мир помещен в середину. Это - земной мир, со
всех сторон окруженный опрокинутой бездной.
Небесный свод, горящий славой звездной
Таинственно глядит из глубины, -
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
С этим связан и существенный для Тютчева пейзаж ночи
на море с двойным отражением:
И опять звезда ныряет
В легкой зыби невских волн.
Таким образом, если ценность героя в модели первого
типа определяется близостью его к "верху", то во втором
случае речь идет о границах окружающего мира: иерархии
героев соответствует иерархия расширяющихся пространств
- от самого сжатого до безграничного. Характерно сти-
хотворение "Лебедь", где сознательно сопоставлены обе
охарактеризованные пространственные модели. Орел - пер-
сонаж "верха", противопоставлен Лебедю - герою безгра-
нично распахнутого мира.
ЛЕБЕДЬ
Пускай орел за облаками
Встречает молнии полет
И неподвижными очами
В себя впивает солнца свет.
Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего.
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией божество.
Она, между двойною бездной,
Лелеет твой всезрящий сон -
И полной славой тверди звездной
Ты отовсюду окружен.
Показательно, что при таком сопоставлении "орел"
оказался совмещенным с днем, а "лебедь" - с ночью.
В связи с представлением о том, что герои одного
уровня совмещаются в однотипном пространстве, возникает
ощущение контакта как слияния или растворения меньшего
в большем:
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.
Как мы видим, в интересующем нас тексте представлены
обе пространственные модели:
| я (низ)___________________________ | ты (верх) |
| я и ты ___________________________ | земной мир |
| (безграничное пространство) | (тесное пространство) |
Но обе модели, утверждаемые по очереди текстом, сняты
его вопросительной концовкой, которая воспринимается
как жажда "простого", нетеоретического, реального и бы-
тового свидания в земном ("пошлом" и "ограниченном" с
точки зрения обеих этих моделей) пространстве.
Таким образом, текст говорит на языке систем тют-
чевской лирики, но реализует "антисистему", разрушающую
этот язык. Он раскрывает двойную трагедию: краха "плохо
устроенных" теорий перед лицом "простой жизни" и плохую
устроенность этой "простой жизни", исключающей счастье.
Н. А. Некрасов
| ПОСЛЕДНИЕ ЭЛЕГИИ I Душа мрачна, мечты мои унылы, Грядущее рисуется темно, Привычки, прежде милые, постылы, И горек дым сигары. Решено! Не ты горька, любимая подруга Ночных трудов и одиноких дум — Мой жребий горек. Жадного недуга Я не избег. Еще мой светел ум, Еще в надежде глупой и послушной Не ищет он отрады малодушной, Я вижу все… А рано смерть идет, И жизни жаль мучительно. Я молод, Теперь поменьше мелочных забот, И реже в дверь мою стучится голод: Теперь бы мог я сделать что-нибудь. Но поздно!.. Я как путник безрассудный, Пустившийся в далекий, долгий путь, Не соразмерив сил с дорогой трудной: Кругом все чуждо, негде отдохнуть, Стоит он, бледный, средь большой дороги. Никто его не призрел, не подвез: Промчалась тройка, проскрипел обоз — Все мимо, мимо!.. Подкосились ноги, И он упал… Тогда к нему толпой Сойдутся люди — смущены, унылы, Почтят его ненужною слезой И подвезут охотно — до могилы… II Я рано встал, не долги были сборы, Я вышел в путь, чуть занялась заря; Переходил я пропасти и горы. Перетыкал я реки и моря; Боролся я, один и безоружен, С толпой врагов; не унывал в беде И не роптал. Но стал мне отдых нужен И не нашел приюта я нигде! Не раз, упав лицом в сырую землю, С отчаяньем, голодный, я твердил: «По силам ли, о боже! труд подъемлю?» И снова шел, собрав остаток сил. Все ближе и знакомее дорога, И пройдено все трудное в пути! Главы церквей сияют впереди — Не далеко до отчего порога! Насмешливо сгибаясь и кряхтя Под тяжестью сумы своей дырявой, Голодный труд, попутчик мой лукавой, Уж прочь идет: теперь нам ровный путь. Вперед, вперед! Но изменили силы — Очнулся я на рубеже могилы… И некому и нечем помянуть! Настанет утро — солнышко осветит Бездушный труп: все будет решено! И в целом мире сердце лишь одно — И то едва ли — смерть мою заметит… III Пышна в разливе гордая река, Плывут суда, колеблясь величаво, Просмолены их черные бока, Над ними флаг, на флаге надпись: слава! Толпы народа берегом бегут, К ним приковав досужее вниманье, И, шляпами размахивая, шлют Пловцы родному берегу прощанье, — И вмиг оно подхвачено толпой, И дружно берег весь ему ответит. Но тут же, опрокинутый волной, Погибни челн — и кто его заметит? А если и раздастся дикий стон На берегу — внезапный, одинокий, За криками не будет слышен он И не дойдет на дно реки глубокой… Подруга темной участи моей! Оставь скорее берег, озаренный Горячим блеском солнечных лучей И пестрою толпою оживленный, — Чем солнце ярче, люди веселей, Тем сердцу сокрушенному больней! |
Стихотворный цикл из трех элегий во многом характерен для поэтики Некрасова.
Непосредственное читательское восприятие стиля Некрасова неразрывно связано с ощущением простоты, разговорности, «прозаичности». Подобная читательская репутация, закрепившаяся за творчеством поэта в сознании многих поколений, не может быть случайной — она отражает сознательную авторскую установку, стремление поэта выработать стиль, который воспринимался бы как непосредственный, сохраняющий живые интонации разговорной речи.
Успех, с которым Некрасов решил задачу, породил иллюзорное представление о «непостроенности», художественной аморфности его текстов. Происходило характерное смешение: прозаическая, разговорная речь, ее бытовые интонации были для Некрасова объектом изображения — из этого часто делали наивный вывод, что Некрасов якобы непосредственно переносил в поэзию реальную речь в ее разговорных формах. На самом деле, стиль Некрасова отличался большой сложностью. Кажущаяся простота возникала как определенный художественный эффект и не имела ничего общего с элементарной аморфностью текста. «Последние элегии» удобны для наблюдений над организацией стилистического уровня текста. Именно этим аспектом мы и ограничим наше рассмотрение.
Еще в 1922 г. Б. М. Эйхенбаум указал на наличие в поэтике Некрасова сознательного неприятия норм «высокой» поэзии предшествующего периода: «Часто Некрасов прямо демонстрирует свой метод отступления, контрастно противопоставляя системе старых поэтических штампов свои “грубые“ слова или подчеркивая прозаичность своих сюжетов и образов»1. Еще раньше Ю. Н. Тынянов установил связь, существующую между ритмико-синтаксическими формами Жуковского, Пушкина и Лермонтова, с одной стороны, Некрасова — с другой2. В дальнейшем вопрос этот привлекал К. Шимкевича, В. В. Гиппиуса, К. И. Чуковского3.
Работы этих исследователей выявили структурную сложность стиля Некрасова. Поэзия Некрасова рассчитана на читателя, живо ощущавшего поэтические нормы «романтического», пушкинского и послепушкинского стилей, на фоне которых делаются эстетически активными стилистические пласты, до Некрасова не включавшиеся в поэзию.
При этом следует оговорить, что в научной литературе часто подчеркивается пародийный, разоблачительный характер включений романтических штампов (иногда в виде прямых цитат) в некрасовский текст. Однако не следует забывать, что пародия и прямая дискредитация «поэтического» слова представляют лишь предельный случай отношения «поэзии» и «прозы» внутри некрасовского стиля; возможны и иные их соотношения. Постоянным и основным является другое: наличие внутри единой стилистической системы двух различных подструктур и эффект их соотнесенности. А для того, чтобы этот эффект был стилистически значим, нужно, чтобы каждая из этих подсистем была активной, живой в сознании читателя, непосредственно переживалась как эстетически ценная. Читатель, утративший восприятие поэзии русской романтической школы начала XIX в. как художественной ценности, не воспримет и новаторства Некрасова. Поэтому стиль Некрасова не только «пародирует», «разоблачает» или иным способом дискредитирует предшествующую поэтическую традицию, но и постоянно апеллирует к ней, напоминает о ее нормах, воссоздает новые художественные ценности в ее системе. Наличие двух несовместимых систем, каждая из которых внутри себя вполне органична, и их, вопреки всему, совмещение в различных стилистико-семантических отношениях составляют специфику стилевой структуры Некрасова.
«Последние элегии» представляют собой три формально самостоятельных стихотворения, по сути дела, посвященных одной теме: смерти поэта в момент, когда он уже преодолел тяготы голодной и одинокой юности и равнодушия толпы. Единство ритмико-синтаксического строя этих произведений и общность стилистического решения также (вместе с общим заглавием и единством цифровой нумерации) закрепляют представление о цикле как едином тексте. Рассмотрим сначала каждую элегию в отдельности.
Первая элегия распадается на две части в отношении к принципам семантической организации: до середины шестнадцатого стиха идет прямое описание душевного состояния автора, причем слова употребляются почти исключительно в их прямом (общеязыковом) смысле. Со слов: «Я как путник безрассудный…» — текст представляет собой развернутое сравнение, каждый из элементов которого имеет два значения: общеязыковое, свойственное данной лексеме, и второе — контекстно-поэтическое.
Подобное противопоставление привычно настраивает читателя на ожидание определенных стилистических средств: аллегорическая картина «жизнь — путь», принадлежащая к наиболее традиционным литературным образам, настраивает на ожидание «литературности», а описание переживаний поэта в этом отношении нейтрально — оно оставляет автору свободу выбора и может решаться как условно-поэтическими, так и «прозаическими» средствами. При этом на фоне заданного «поэтизма» второй части такая свобода уже воспринимается как некоторая упрощенность художественной системы.
Однако ожидание не реализуется. Вторая часть, в свою очередь, делится на три по-разному организованных в лексико-семантическом отношении отрезка. Первый содержит образы пути, выраженные такими лексическими средствами, которые утверждают в сознании читателя инерцию литературно-аллегорического его восприятия. Это — фразеологизм, широко встречающийся и в поэтической традиции XVIII–XIX вв., и в восходящей к библейской образности морально-аллегорической прозе. Второй отрезок включает в себя слова и фразеологизмы, окрашенные в отчетливо бытовые тона, связанные с представлениями о реальной русской, хорошо известной читателю дороге:
| первый отрезок: | второй отрезок: |
| путник безрассудный долгий путь трудная дорога кругом все чуждо | большая дорога никто не подвез промчалась тройка проскрипел обоз |
Установившаяся инерция стилистического ожидания нарушается бытовым характером картины и тем, что отдельные ее детали («промчалась тройка, проскрипел обоз») вообще лишены второго плана и не подлежат аллегорической дешифровке. Однако стоит читателю принять положение о том, что ожидание было ложным и текст не подлежит интерпретации в духе условно-литературной аллегории, как и это, второе, ожидание оказывается ложным, и текст возвращает его к первой стилистической инерции. Составляющий третий отрезок последний стих:
И подвезут охотно — до могилы… —
вводит образ пути, кончающегося могилой, то есть возвращает всю картину к семантике аллегории. При этом синтезируются условно-поэтическая лексика в духе первого отрезка («могила») и дорожно-бытовая — второго («подвезут охотно»). Таким образом, двуплановость семантики второй части текста создается в конфликтном построении, утверждающем в сознании читателя и определенные структуры ожидания и невыполнение этого ожидания. Этот закон распространяется и на всю вторую часть в целом: вместо ожидаемой условной аллегории здесь доминирует бытовая картина.
Зато первая часть, которая задана как антитеза «поэтической» второй, против всякого ожидания строится с самого начала как подчеркнутое нагнетание поэтических штампов: «душа мрачна» (ср.: «Душа моя мрачна» Лермонтова), «мечты унылы» (ср.: «Унылые мечтанья» Пушкина); «грядущее темно» — цитата из «Думы» Лермонтова, а «привычка милая» — из объяснения Онегина с Татьяной4.
Как видим, Некрасов начинает стихотворение целой цепью поэтических штампов, причем наиболее обнаженных, связанных со многими хорошо известными читателю текстами. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что цепь литературных штампов составлена из функционально разнородных звеньев. «Душа мрачна», «мечты унылы» создают определенную, полностью традиционную стилистическую инерцию. «Грядущее рисуется темно» выступает на этом фоне несколько более индивидуализированию: «грядущее иль пусто, иль темно» — не подразумевает какой-либо зрительной реализации метафоры. Добавка «рисуется» функционально меняет всю ее основу: грядущее, которое еле вырисовывается в темноте, подразумевает зрительную конкретизацию штампа и тем самым выводит его из ряда полностью автоматизированных фразеологизмов. «Привычки, прежде милые, постыли» — другой вид такой же деавтоматизации штампа. «Привычке милой не дал ходу» — в этом случае «привычка милая» — галантная замена «науки страсти нежной», неразложимый на лексемы фразеологизм. У Некрасова «привычки» означают «привычки», а «милые» — «милые». И это делает словосочетание одновременно и поэтическим штампом, и разрушением штампа. Весь ряд завершается «сигарой», которая уже решительно не может быть введена в цепь поэтизмов и как предмет, вещь, и как деталь внепоэтического мира (и бедность, и богатство могли быть предметом поэтизации — комфорт решительно располагался вне сферы искусства). То, что на одном конце цепочки расположены романтические штампы, а на другом «сигара» — деталь реального быта с определенным социальным признаком, раскрывает относительность самого принципа организации семантики вокруг оси «поэтизм — прозаизм».
Однако с этого места нацеленность семантической структуры меняется в противоположном направлении: сигара — любимая подруга ночных трудов и одиноких дум — горький жребий — жадный недуг. «Любимая подруга» отсылает читателя к пушкинским стихам:
Подруга думы праздной,
Чернильница моя…
Стихи эти были для эпохи Пушкина резким нарушением традиции, вводя быт поэта в категорию поэтического быта. Однако для некрасовской эпохи они уже сами стали стилистическим нормативом, с позиций которого «сигара» выглядела как еще не канонизированная деталь поэтического быта. Цепь завершается высоким поэтизмом, причем сопоставление «горек дым сигары» и «горек жребий» обнажает именно антитезу «поэтическое — бытовое».
Далее следуют пять центральных стихов, в которых поэтизмы и прозаизмы функционально уравнены. При этом в стихах:
Теперь поменьше мелочных забот,
И реже в дверь мою стучится голод —
общеязыковое содержание в определенном отношении совпадает (если их пересказать формулой: «Теперь нужда не препятствует серьезным занятиям», то в отношении к ней оба стиха выступят как синонимы, разными способами реализующие одну и ту же мысль). «Поэтический» и «прозаический» типы стиля выступают как два взаимосоотнесенных метода воссоздания некоторой реальности. При этом нельзя сказать, что «поэтический» выступает как объект пародии или разоблачения. Одна и та же реальность оказывается способной предстать и в облике житейской прозы, и как реальное содержание поэтических формул. Здесь пролегает коренное различие между поэтикой Некрасова и романтической традицией. Система поэтических выражений с точки зрения последней создавала особый мир, отделенный от каждодневной реальности и не переводимый на ее язык (всякий случай такого «перевода» порождал комический эффект). Для Некрасова поэтические и антипоэтические формулы — два облика одной реальности.
Отношение текста к реальности становится художественно отмеченным фактом. Но для этого такое отношение не должно быть автоматически заданным. Только в том случае, если данная художественная система допускает несколько типов семантических соотношений определенным образом построенного текста и отнесенной к нему внетекстовой реальности, это соотношение может быть художественно значимо. Привлекающий наше внимание текст интересен именно потому, что каждый из входящих в цикл отрывков реализует особую семантическую модель, а их взаимное соотнесение обнажает принципы семантической структуры. Поэтика Некрасова подразумевает множественность типов семантической структуры.
Все три анализируемых текста отнесены к одной и той же жизненной ситуации: в период создания цикла Некрасов был болен и считал свою болезнь смертельной. Для читателей, знавших Некрасова лично, текст, бесспорно, соотносился с фактами биографии автора. Для читателей, незнакомых с реальной биографией Некрасова, между личностью автора и поэтическим текстом создавался некоторый образ поэта-бедняка, сломленного трудами и лишениями и обреченного на преждевременную кончину. Образ этот лежал вне текстов, возникая частично на их основе, частично как обобщение многих биографий поэтов и литераторов-разночинцев и, может быть, собственной биографии читателя. Он мог выступать как опровержение традиционного романтического идеала гонимого поэта, но мог восприниматься и как его содержание. Этот внетекстовой конструкт личности поэта выступал как ключ к отдельным текстам5.
Вторая элегия тесно связана с первой и образом «жизнь — путь», и единством отнесенной к ним внетекстовой ситуации. Однако принцип семантической организации текста здесь иной: если стихотворение в целом рассчитано на отнесение к определенной конкретной ситуации, то этого нельзя сказать про сегменты его текста. Литературные штампы подобраны здесь таким образом, чтобы непосредственные зрительные их переживания читателем исключались. Они должны остаться подчеркнуто книжными оборотами, которые перекодируются, благодаря некоторой известной читателю культурной традиции, на определенную жизненную ситуацию, но не перекодируются на зримые образы, представляемые в языке данными лексемами. Всякая попытка представить автора с сигарой в руках, каким он изображен в предыдущем тексте, переходящим «пропасти и горы» или переплывающим «реки и моря» может создать лишь комический эффект. К. И. Чуковский, в связи с этой особенностью некрасовского стиля, писал: «Чтобы сказать, что в груди какого-нибудь человека находится трон, нужно отвлечься от реального значения этих слов…»6. В этом смысле существенно сопоставление второй и третьей элегий. Может показаться, что в стилистико-семантическом отношении они построены сходным образом: обе реализуют одну и ту же традиционную метафору «жизнь — путь», обе широко используют утвержденные литературным обиходом фразеологизмы, и обе отнесены к одной и той же жизненно-биографической ситуации. Однако расположение их рядом не случайно. Оба текста совсем не тавтологически повторяют друг друга: в то время как вторая элегия построена так, что слова в ней соотносятся с определенной синтагматической структурой стиля и с вне текста лежащей биографией поэта, третья элегия дает каждому слову еще одну соотнесенность — зрительный образ обозначаемого им предмета.
Традиционные, сознательно банальные знаки метафоризма (типа: «На флаге надпись: слава!») поддерживают в читателе ощущение условности всей картины. Но нагнетание зримых деталей, полностью отсутствующих во второй элегии, меняет самую природу метафоризма, обнажая один из важнейших элементов некрасовского стиля — создание особым образом организованного зримого ряда, который составляет второй ряд структуры, пролегая между уровнями текста и реальности. В этом смысле ни один из поэтов XIX в. (пожалуй, исключая Фета) не подходил так близко к поэтике кино и образного монтажа, как Некрасов. В таких стихотворениях, как «Утро», монтаж зрительных образов, представленных в разнообразии ракурсов и планов, обнажен — стихотворение построено по законам сценария кинематографа. Но создание подобного стиля могло быть осуществлено лишь в произведениях типа «Последних элегий» с их сложной соотнесенностью разных типов текстовых построений и внетекстовых структур различной глубины.
Чисто кинематографическим является принцип чередования планов. Так, в «Утре» перед нами развертывается ряд картин, которые образуют некоторый монтажный ряд, причем сменяется не только содержание, но и величина плана: «Даль, сокрытая синим туманом» — общий, «Мокрые, сонные галки, что сидят на вершине стога» — крупный план; «Из крепости грянули пушки! Наводненье столице грозит» — общий, «Дворник вора колотит — попался!» — средний, «Кто-то умер: на красной подушке Первой степени Анна лежит» — крупный план и т. д. То, что между текстом и реальностью в поэзии Некрасова возникает еще один ряд, напоминающий монтаж кинематографических образов, доказывается характерным примером: в лирике Некрасова, как и в кинематографе, величина плана воспринимается как коррелят метафоры (или метонимии) в словесном ряду. Детали, поданные крупным планом, воспринимаются как особо значимые, символические или суггестивные, отнесенные не только к их непосредственному денотату (реальному предмету, обозначаемому этими словами). «Галки» или «орден на красной подушке» в словесном ряду не только не являются метафорами, но и, по принципу семантической организации, ничем не выделяются на общем фоне. Однако то, что вызываемые ими зрительные образы укрупнены (и, в силу контрастных чередований в ряду, это укрупнение заметно), придает им особую значимость, а то, что в зрительном ряду отдельные «кадры» обладают различной суггестивностью, создает дополнительные возможности для передачи значений.
«Последние элегии» с точки зрения структуры стиля — произведение экспериментальное. Создание «поэтического просторечия» не в результате простого отбрасывания отвергаемой традиции (в этом случае просторечие не могло бы стать эстетическим фактом), а путем включения ее как одного из элементов стиля и создания контрастных эффектов на основе соотношения прежде несовместимых структур — таков был путь Некрасова.
Такой путь был одновременно и путем всей последующей русской поэзии. Не уклонение от штампованных, традиционных, опошленных стилистических форм, а смелое их использование как контрастного фона, причем не только с целью насмешки или пародии. Для романтизма пошлое и поэтическое исключали друг друга. Некрасовский стиль раскрывал пошлость поэтических штампов, но не отбрасывал их после этого, обнаруживая поэтическое в пошлом. Именно эта сторона стиля Некрасова будет в дальнейшем существенна для Блока.
«Последние элегии» вызвали известную пародию Добролюбова («Презрев людей и мир и помолившись богу…»). Однако Добролюбов, хотя, пародируя, и обнажал самые основы стиля Некрасова (в частности, обилие поэтических штампов), конечно, имел в виду сюжет стихотворения. Его не удовлетворяла поэтизация усталости, мысль о безнадежности и бесцельности жизненной борьбы. Тем более интересно обнаружить воздействие структуры некрасовского стиля на поэтическую систему лирики Добролюбова.
Сошлемся лишь на один пример. Стихотворение «Пускай умру — печали мало…» воспринимается как непосредственное выражение горьких размышлений Добролюбова накануне смерти. Простота, непосредственность, «нелитературность» стихотворения в первую очередь бросаются в глаза читателю. Однако при ближайшем рассмотрении в стихотворении легко выделить два контрастных стилистических пласта: 1) фразеологизмы и штампы отчетливо литературного происхождения («ум больной», «холодный труп», «горячие слезы», «бескорыстные друзья», «могильная земля», «гробовая доска», «отрадно улыбнулся», «жадно желать»); характерно, что признак штампованности приписывается не только определенным лексемам и фразеологизмам, но и некоторым грамматико-синтаксическим структурам, так, например, сочетание «существительное — эпитет» в тексте Добролюбова может быть только штампом.
2) Обороты, воспринимавшиеся в эпоху Добролюбова как «антипоэтизмы» («печали мало», «разыграть шутку», «глупое усердье»). Сюда же следует отнести конкретно-вещественную лексику, нарочито очищенную от «знаковости» (принести цветы на гроб глупо, потому что это знак, а люди нуждаются — живые — в вещах, а мертвые — ни в чем). Ср. также «предмет любви» — фразеологизм, из области поэтизмов уже в пушкинскую эпоху перешедший в разряд «галантного стиля» мещанского круга (ср. в «Метели»: «Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик» — стилистическое совмещение точек зрения автора и героини: «прапорщик — предмет»). В добролюбовский текст «предмет любви» входит уже не как поэтизм, а как ироническая отсылка к разговорному языку определенного — не высокого — круга.
Различные соотношения этих стилистических пластов образуют ткань стихотворения. Так, например, строфа:
Боюсь, чтоб над холодным трупом
Не пролилось горячих слез,
Чтоб кто-нибудь в усердье глупом
На гроб цветов мне не принес —
содержит не только развитие некоторой мысли («боюсь, чтобы над моей могилой не было слез, чтобы кто-нибудь не принес цветов»), но и является соединением двух способов выражения мысли. С точки зрения общеязыкового содержания здесь соединены в одну цепочку две различные мысли (боязнь слез + боязнь цветов), способ их выражения не активизируется. Однако стоит сформулировать мысль более обще («боязнь ненужных мертвому знаков внимания»), как строфа разобьется на две параллельно-синонимические половины. Активизируется способ выражения мысли. В первых двух стихах обнажится не только нагнетание поэтической лексики, но и риторическая антитеза: «холодное тело — горячие слезы». Во второй части строфы нарочитая разговорность и аморфность выступают на этом фоне как структурно активный факт. Попутно следует отметить, что «в усердье глупом» — видимо, перефразировка «в надежде глупой» из «Последних элегий». Это интересно: то, что в тексте выполняет функцию «антилитературы», оказывается цитатой, но из другого типа источников. Влияние некрасовского принципа здесь очевидно.
Таким образом, анализ даже на одном лексико-семантическом уровне дает определенную характеристику стиля и позволяет наметить вехи традиционной преемственности.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Эйхенбаум Б. Сквозь литературу: Сб. статей. Л., 1924. С. 246.
2 Тынянов Ю. Стиховые формы Некрасова // Летопись дома литераторов. Пг., 1921. № 4 (ср.: Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 399–411).
3 См.: Шимкевич К. Пушкин и Некрасов // Пушкин в мировой литературе. Л., 1926; Гиппиус В. В. Некрасов в истории русской поэзии XIX века // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л.. 1966; Чуковский К. Мастерство Некрасова. 4-е изд. М., 1962.
4 В свою очередь, «привычка милая» у Пушкина имеет отчетливо литературный и цитатный характер. А. Ахматова отметила что это — перевод выражения из «Адольфа» Констана (см.: Ахматова А. А. «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // Пушкин: Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 109). Сам Пушкин указал на иной источник. В «Метели» он вложил в уста Бурмина слова: «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно», — и заметил, что при этих словах Марья Гавриловна «вспомнила первое письмо St.-Preux», то есть «Новую Элоизу» Руссо. Л. Н. Штильман не нашел соответствующей цитаты в романе Руссо, но, обнаружив упоминание привычки и ее опасностей для влюбленных в XVIII письме романа Руссо, заключил: «Вероятнее всего, что у Пушкина мы имеем дело с реминисценцией из романа Констана и что цитированные строки из этого романа, в свою очередь, восходят к “Новой Элоизе”» (Штильман Л. Н. Проблемы литературных жанров и традиций в «Евгении Онегине» Пушкина // American Contributions to the Fourth International Congress of Slavists. Mouton’s-Gravenhage, 1958). Думается, что дело все же проще: Пушкин просто ошибся. Но как раз характер ошибки наиболее интересен: он забыл, что это цитата из «Адольфа», но не забыл, что это цитата. Действительно, здесь не так важен источник, как то, что текст выполняет функцию чужого — книжного — слова.
5 См.: Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.
6 Чуковский К. Мастерство Некрасова. 4-е изд. М., 1952. С. 225.
А. К. Толстой
| * * * Сидит под балдахином Китаец Цу-Кин-Цын И молвит мандаринам: «Я главный мандарин! Велел владыко края Мне ваш спросить совет: Зачем у нас в Китае Досель порядка нет?» Китайцы все присели, Задами потрясли, Гласят: «Затем доселе Порядка нет в земли, Что мы ведь очень млады, Нам тысяч пять лишь лет; Затем у нас нет складу, Затем порядку нет! Клянемся разным чаем, И желтым и простым, Мы много обещаем И много совершим!» «Мне ваши речи милы, — Ответил Цу-Кин-Цын, — Я убеждаюсь силой Столь явственных причин. Подумаешь: пять тысяч, Пять тысяч только лет». И приказал он высечь Немедля весь совет. 1869 |
Сатира А. К. Толстого, написанная в конце шестидесятых годов прошлого века, может быть прокомментирована несколькими способами. Прежде всего здесь следует указать на те возможности смыслового истолкования, которые таятся во внетекстовых сопоставлениях. Так, например, возможны соотнесения анализируемого текста с внетекстовой политической реальностью эпохи А. К. Толстого, а также соотнесения его с другими текстами:
1. Нехудожественными — здесь возможны различные аспекты исследования:
а. Сопоставления с историко-философскими идеями, распространенными, начиная с Белинского и Герцена, в русской публицистике, философии и исторической науке 1840–1860-х гг. Имеются в виду представления, согласно которым крепостное право и самодержавная бюрократия являют в русской государственной жизни «восточное» начало, начало неподвижности, противоположное идее прогресса. Можно было бы привлечь цитаты из Белинского и других публицистов о Китае, как стране, в которой стояние на месте заменило и историю, и общественную жизнь, стране, противоположной историческому динамизму Европы.
б. Сопоставления с исторической концепцией самого А. К. Толстого, сближавшего Киевскую Русь с рыцарской романской Европой, а в последующей русской истории усматривавшего черты «азиатчины» и «китаизма», нанесенные владычеством монголов.
в. Сближение А. К. Толстого со славянофильской мыслью в разных ее проявлениях и отталкивания от нее.
г. Многие аспекты историко-философской концепции А. К. Толстого удивительно близки к мыслям А. В. Сухово-Кобылина. Сопоставление текстов дало бы здесь ощутимые результаты.
д. Установление исторических корней концепций А. К. Толстого (здесь, в первую очередь, напрашивается тема «H. M. Карамзин и А. К. Толстой») и их последующей судьбы (А. К. Толстой и Вл. Соловьев, сатирическая традиция поэзии XX в. и др.).
2. Художественными:
а. Сопоставление текста с другими сатирическими произведениями А. К. Толстого.
б. Сопоставление с несатирическими произведениями А. К. Толстого, написанными приблизительно в то же время («Змей Тугарин», «Песня о Гаральде и Ярославне», «Три побоища» и др.).
в. Сопоставление текста с сатирической и исторической поэзией 1860-х гг. Все эти методы анализа можно назвать контекстными: произведение включается в различные контексты, сопоставления, противопоставления; построения инвариантных схем позволяют раскрыть специфику структуры данного текста.
Однако мы ставим перед собой значительно более узкую задачу, ограничиваясь анализом внутритекстовых связей. Мы будем рассматривать только те структурные отношения, которые могут быть выявлены анализом данного текста. Однако и эта задача еще очень широка. Сужая ее, мы ограничимся суперлексическими уровнями: теми поэтическими сверхзначениями, которые возникают в данном тексте на тех уровнях, для которых слово будет выступать в качестве элементарной единицы.
Сформулированная таким образом задача может быть иначе определена как анализ лексико-стилистического механизма сатиры. При этом следует подчеркнуть, что сатира создается здесь внутренней структурой данного текста и не определена, например, жанром, как это бывает в басне1.
Семантическая структура анализируемого текста построена на несоответствиях. Именно смысловые несоответствия становятся главным носителем значений, основным принципом художественно-смысловой конструкции. В интересующем нас стихотворении мы сталкиваемся с несколькими стилистическими и смысловыми конструкциями, совмещение которых в пределах одного произведения оказывается для читателя неожиданным.
Первый пласт значений может быть условно назван «китайским». Он сознательно ориентирован на «Китай» не как на некоторую географическую и историческую реальность, а имеет в виду комплекс определенных, подчеркнуто тривиальных представлений, являющихся сигналами средних литературных представлений о Китае, распространенных в эпоху А. К. Толстого. Однако, несмотря на всю условность характеристик, адрес читателю дан вполне определенный. Приведем список слов, которые могут быть связаны в тексте только с темой Китая:
балдахин
китаец (китайцы)
Китай
мандарин (мандарины)
чай
Если прибавить два описания «обычаев»: «все присели» и «задами потрясли» и имя собственное Цу-Кин-Цын, то список «китаизмов» окажется исчерпанным. На 95 слов стихотворения их приходится 8. Причем, как это очевидно из списка, все они принадлежат одновременно и к наиболее тривиальным, и к наиболее отмеченным признакам того условно-литературного мира, который А. К. Толстой стремится вызвать в сознании читателей. Интересные наблюдения можно сделать и над распределением этих слов в тексте.
| № строфы | количество лексических «китаизмов» |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 5 1 1 — 1 1 — |
Приведенные данные с очевидностью убеждают, что «китайская» лексика призвана лишь дать тексту некоторый семантический ключ. В дальнейшем она сходит на нет. Все «китаизмы» представлены именами. Специфические «экзотизмы» поступков образуются на уровне фразеологии. Это сочетание «все присели, задами потрясли», рассчитанное на внесение в текст элемента кукольности2. Комическая условность клятвы «разным чаем» обнажается введением в формулу присяги указания на сортность, принятую в русской торговле тех лет.
Другой основной семантический пласт текста — ведущий к образам, идейным и культурным представлениям Древней Руси. «Древнеруссизмы» даны демонстративно, и их стилистическая активность рассчитана на чувство несовместимости этих пластов. «Древнеруссизмы» также распределены неравномерно: сгущены они во второй, третьей и четвертой строфах. При этом они также даны в наиболее прозрачных и тривиальных проявлениях. Это особенно заметно на фоне общей структуры «древнеруссизмов» в поэзии А. К. Толстого. В его исторических балладах встречаются такие задающие стилю окраску именно своей редкостью слова, как «дони», «дуб» (в значении «ладья»), «гуменцы» («Боривой»); «кут», «дром», «коты из аксамита», «бëрца», «обор», «крыжатый меч» («Сватовство») и др. При этом эффект их построен на том, что, будучи явно читателю неизвестными, они употреблены как общепонятные, без каких-либо пояснений или толкующих контекстов. Это вводит читателя в незнакомый ему мир и одновременно представляет этот мир как для себя обыденный. Но и в современной политической сатире (например, «Порой веселой мая… ») А. К. Толстой, используя архаизмы, нарочито выбирает наименее тривиальные.
В «Сидит под балдахином…» архаизмы сводятся к самым общеупотребительным в стилизованной поэзии славянизмам. Их всего три: «молвить», «гласить», «младой». К ним примыкает грамматический славянизм «в земли», архаизм «владыко» и просторечия, функционально выполняющие роль «русизмов»: «досель», «склад», «подумаешь». Основная «древнерусская» окраска придается выражением «досель порядка нет», которое представляет собой цитацию весьма известного отрывка из «Повести временных лет». В 1868 г. А. К. Толстой превратил его в рефрен «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Эпиграфом к тому же стихотворению он поставил: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет (Нестор. Летопись, стр. 8)».
Из сказанного можно сделать вывод, что ни «китаизмы», ни «руссизмы» сами по себе не выходят за пределы нарочитой тривиальности и, взятые в отдельности, не могут обладать значительной художественной активностью. Значимо их сочетание. Невозможность соединения этих семантических пластов в каком-либо предшествующем тексту структурном ожидании делает такое сочетание особенно насыщенным в смысловом отношении. Центром этого соединения несоединимого является собственное имя Цу-Кин-Цын, в котором скрещение пластов приобретает каламбурный характер.
Однако какую же идейно-художественную функцию выполняет это смешение стилистико-семантических пластов?
Для того чтобы текст воспринимался нами как «правильный» (например, был «правильным текстом на русском языке»), он должен удовлетворять некоторым нормам языкового употребления. Однако правильная в языковом отношении фраза типа «солнце восходит с запада» осознается как «неправильная» по содержанию, поскольку противоречит каждодневному опыту. Одной из форм осмысленности, позволяющей воспринимать текст как «правильный», является его логичность, соединение понятий в соответствии с нормами логики, житейского опыта, здравого смысла. Однако возможно такое построение текста, при котором поэт соединяет не наиболее, а наименее вероятные последовательности слов или групп слов. Вот примеры из того же А. К. Толстого:
а. Текст строится по законам бессмыслицы. Несмотря на соблюдение норм грамматико-синтаксического построения, семантически текст выглядит как неотмеченный: каждое слово представляет самостоятельный сегмент, на основании которого почти невозможно предсказать следующий. Наибольшей предсказуемостью здесь обладают рифмы. Не случайно текст приближается в шуточной имитации буриме — любительских стихотворений на заданные рифмы, в которых смысловые связи уступают место рифмованным созвучиям:
Угораздило кофейник
С вилкой в роще погулять.
Набрели на муравейник;
Вилка ну его пырять!
б. Текст делится на сегменты, равные синтагмам. Каждая из них внутри себя отмечена в логико-семантическом отношении, однако, соединение этих сегментов между собой демонстративно игнорирует правила логики:
Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Делярю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю».
Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал.
А Делярю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Нарушение какой-либо связи представляет один из испытанных приемов ее моделирования. Напомним, что огромный шаг в теоретическом изучении языка сыграл анализ явлений афазии, а также давно отмеченный факт большой роли «перевертышей» и поэзии нонсенса в формировании логико-познавательных навыков у детей3.
Именно возможность нарушения тех или иных связей в привычной картине мира, создаваемой здравым смыслом и каждодневным опытом, делает эти связи носителями информации. Алогизмы в детской поэзии, фантастика в сказочных сюжетах, вопреки опасениям, высказывавшимся еще в 1920-е гг. рапповской критикой и вульгаризаторской педагогикой, совсем не дезориентируют ребенка (и вообще читателя), который не приравнивает текст к жизни. «Как бывает», он знает без сказки и не в ней ищет прямых описаний реальности. Высокая информативность, способность многое сообщить заключается в сказочном или алогическом текстах именно потому, что они неожиданны: каждый элемент в последовательной цепочке, составляющей текст, не до конца предсказывает последующий. Однако сама эта неожиданность покоится на основе уже сложившейся картины мира с «правильными» семантическими связями. Когда герой пьесы Островского «Бедность не порок» затягивает шуточную песню «Летал медведь по поднебесью…», слушатели не воспринимают текст как информацию о местопребывании зверя (опасения тех, кто боится, что фантастика дезориентирует читателя, даже детского, совершенно напрасны). Текст воспринимается как смешной, а основа смеха — именно в расхождении привычной «правильной» картины мира и его описания в песне. Таким образом, алогический или фантастический текст не расшатывает, не уничтожает некоторую исходную картину связей, а наслаивается на нее и своеобразно укрепляет, поскольку семантический эффект образуется именно различием, то есть отношением этих двух моделей мира. Но возможность нарушения делает и необращенную, «правильную» связь не автоматически данной, а одной из двух возможных и, следовательно, носителем информации. Когда в народной песне появляется текст: «Зашиб комарище плечище», то соединение лексемы, обозначающей мелкое насекомое, с суффиксом, несущим семантику огромности, обнажает признак малого размера в обычном употреблении. Вне этой антитезы признак малых размеров комара дан автоматически и не ощущается.
В интересующем нас стихотворении нарушенным звеном является логичность связей. То, что привычные соотношения предметов и понятий — одновременно и логичные соотношения, обнажается для нас только тогда, когда поэт вводит нас в мир, в котором обязательные и автоматически действующие в сфере логики связи оказываются отмененными. В мире, создаваемом А. К. Толстым, между причиной и следствием пролегает абсурд. Действия персонажей лишены смысла, бессмысленны их обычаи:
Китайцы все присели,
Задами потрясли…
Лишены реального значения их клятвы и обязательства, на которые «владыко края», видимо, собирается опираться, и т. д.
Алогизм этого мира подчеркивается тем, что нелепое с точки зрения логики утверждение подается и воспринимается как доказательство: оно облечено в квазилогическую форму. Причина того, что «доселе порядка нет в земли», формулируется так:
… мы ведь очень млады,
Нам тысяч пять лишь лет…
Соединение понятий молодости и пяти тысяч лет читателем воспринимается как нелепое. Но для Цу-Кин-Цына это не только истина, но и логическое доказательство:
Я убеждаюсь силой
Столь явственных причин.
Таким образом, читателю предлагают предположить, что существует особая «цу-кин-цыновская» логика, нелепость которой видна именно на фоне обычных представлений о связи причин и следствий. Характер этой «логики» раскрывается в последней строфе:
Подумаешь: пять тысяч,
Пять тысяч только лет!»
И приказал он высечь
Немедля весь совет.
Стихи «Я убеждаюсь силой…» и «И приказал он высечь…» даны как параллельные. Только в них дан ритмический рисунок 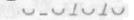 , резко ощущаемый на фоне ритмических фигур других стихов. Сочетание смыслов и интонаций этих двух стихов создает ту структуру абсурдных соединений, на которых строится текст.
, резко ощущаемый на фоне ритмических фигур других стихов. Сочетание смыслов и интонаций этих двух стихов создает ту структуру абсурдных соединений, на которых строится текст.
В общей картине абсурдных соединений и смещений особое место занимают несоответствия между грамматическим выражением и содержанием. В стихе «И приказал он высечь… » начальное «и», соединяющее два отрывка с доминирующими значениями «выслушал — повелел», должно иметь не только присоединительный, но и причинно-следственный характер. Оно здесь имитирует ту сочинительную связь в летописных текстах, которая при переводе на современный язык передается подчинительными конструкциями причины, следствия или цели. Можно с уверенностью сказать, что в созданной схеме: «Правитель обращается к совету высших чиновников за помощью — совет дает рекомендации — правитель соглашается — правитель приказывает…» — продолжение «высечь совет» будет наименее предсказуемо на основании предшествующей текстовой последовательности. Оно сразу же заставляет нас предположить, что здесь речь идет о каком-то совсем другом мире — мире, в котором наши представления о том, что правительственные распоряжения должны отличаться мудростью и значимостью, а государственный совет — сознанием собственного достоинства, — так же не действуют, как не действуют в нем правила логики и нормы здравого смысла.
В этом мире есть еще одна особенность — время в нем стоит (следовательно, нет исторического опыта). Это выражается и в том, что большие для обычного сознания числительные («пять тысяч лет») употребляются как малые («подумаешь»!). Но интересно и другое: в стихотворении употреблены три грамматических времени: настоящее («сидит», «клянемся»), прошедшее («присели», «ответил» и др.) и будущее («совершим»). Однако все они в плане содержания обозначают одновременное состояние. Фактически действие происходит вне времени.
Следует отметить, что если на лексико-семантическом уровне текст делился на два несоединимых пласта, то в отношении к логике и здравому смыслу они выступают едино. Контраст оказывается мнимым, он снят на более высоком уровне.
Так лексико-семантический и стилистический типы построения текста создают сатиру — художественную модель бюрократической бессмыслицы и того «китаизма», черты которого А. К. Толстой видел в русском самодержавии.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Отсутствие сатирического момента в басне («Сокол и голубка» В. А. Жуковского) воспринимается как некоторая неполнота, нарушение ожидания, которое само может быть источником значений. Сообщение же о наличии в басне сатирического элемента вряд ли кого-либо поразит — оно содержится в самом определении жанра. Между тем анализируемое нами произведение А. К. Толстого, взятое с чисто жанровой точки зрения (неозаглавленное стихотворение песенного типа, катрены трехстопного ямба), абсолютно в этом отношении нейтрально: оно с равной степенью вероятности может быть или не быть сатирой.
2О семантике «кукольности» в сатире второй половины XIX в. см.: Гиппиус В. В. Люди и куклы в сатире Салтыкова // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.
3 См.: Чуковский К. И. От двух до пяти // Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 1. О структуре текста в поэзии нонсенса см.: Цивьян Т. В., Сегал Д. М. К структуре английской поэзии нонсенса (на материале лимериков Э. Лира) // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1965. Вып. 181. (Труды по знаковым системам. Т. 2).
А. А. Блок
| АННЕ АХМАТОВОЙ «Красота страшна» — Вам скажут, — Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи, Красный розан — в волосах. «Красота проста» — Вам скажут, — Пестрой шалью неумело Вы укроете ребенка, Красный розан — на полу. Но, рассеянно внимая Всем словам, кругом звучащим, Вы задумаетесь грустно И твердите про себя: «Не страшна и не проста я; Я не так страшна, чтоб просто Убивать; не так проста я, Чтоб не знать, как жизнь страшна». 16 декабря 1913 г. |
В анализе этого стихотворения мы сознательно отвлекаемся от внетекстовых связей — освещения истории знакомства Блока и Ахматовой, биографического комментария к тексту, сопоставления его со стихотворением А. Ахматовой «Я пришла к поэту в гости…», на которое Блок отвечал анализируемым произведением. Все эти аспекты, вплоть до самого общего: отношения Блока к зарождающемуся акмеизму и молодым поэтам, примыкавшим к этому течению, — совершенно необходимы для полного понимания текста. Однако, чтобы включиться в сложную систему внешних связей, произведение должно быть текстом, то есть иметь свою специфическую внутреннюю организацию, которая может и должна быть предметом вполне самостоятельного анализа. Этот анализ и составляет нашу задачу.
Сюжетная основа лирического стихотворения строится как перевод всего разнообразия жизненных ситуаций на специфический художественный язык, в котором все богатство возможных именных элементов сведено к трем основным возможностям:
1. Тот, кто говорит — «я»
2. Тот, к которому обращаются — «ты»
3. Тот, кто не является ни первым, ни вторым — «он».
Поскольку каждый из этих элементов может употребляться в единственном и множественном числе, то перед нами система личных местоимений. Можно сказать, что лирические сюжеты — это жизненные ситуации, переведенные на язык системы местоимений естественного языка1.
Традиционная лирическая схема «я — ты» в тексте Блока в значительной мере деформирована. Авторское «я» как некоторый явный центр организации текста вообще не дано. Однако в скрытом виде оно присутствует, обнаруживаясь прежде всего в том, что второй семантический центр дан в форме местоимения второго лица — того, к кому обращаются. А это подразумевает наличие обращающегося — некоторого другого центра в конструкции текста, который занимает позицию «я». При этом местоимение второго лица дано не в форме «ты», традиционно утвержденной для лирики и поэтому нейтральной2, а в специфической «вежливой» форме «Вы». Это сразу же устанавливает тип отношений между структурными центрами текста. Если формула «я — ты» переносит сюжет в абстрактно-лирическое пространство, в котором действующие персонажи — сублимированные фигуры, то обращение на «Вы» совмещает лирический мир с бытовым (ýже: реально существующим в эпоху Блока и в его кругу), придает всему тексту характер неожиданной связанности с бытовыми и биографическими системами. Но то, что они поставлены на структурное место лирики, придает им и более обобщенный смысл: они не копируют бытовые отношения, а моделируют их.
Произведение построено так, что «я» автора, хотя отчетливо выступает как носитель точки зрения, носителем текста не является. Оно представляет собой «лицо без речей». Это подчеркнуто тем, что диалог идет не между «я» и «Вы», а между «Вы» и некоторым предельно обобщенным и безликим третьим лицом, скрытым в неопределенно-личных оборотах «вам скажут» и упоминании «слов, кругом звучащих».
Две первые строфы, посвященные речам этого «третьего» и реакции на них «Вы», построены с демонстративной параллельностью.
«Красота страшна» — Вам скажут, —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.
«Красота проста» — Вам скажут, —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан — на полу.
В параллельно построенных строфах «они» говорят противоположные вещи, а героиня стихотворения, о которой Блок в черновом наброске писал «покорная молве»3, молчаливым поведением выражает согласие с обеими «их» оценками, каждая из которых трансформирует всю картину в целом.
Если «красота страшна», то «шаль» становится «испанской», а если «проста» — «пестрой» («страшна» связывается с «испанской» только семантически, а в паре «проста — пестрой» помимо семантической связи есть и звуковая — повтор «прст — пстр»); в первом случае ее «лениво» накидывают на плечи, во втором — ею «неумело» укрывают ребенка. В первом случае «Вы» стилизует себя в духе условной литературно-театральной Испании, во втором — в милой домашней обстановке раскрывает свою юную неумелость.
Первые две строфы нарочито условны: вводятся два образа-штампа, через призму которых осмысляется (и сама себя осмысляет) героиня. В первом случае это Кармен, образ, исполненный для Блока в эти годы глубокого значения и влекущий целый комплекс добавочных значений. Во втором — Мадонна, женщина-девочка, соединяющая чистоту, бесстрастность и материнство. За первым стоят Испания и опера, за вторым — Италия и живопись прерафаэлитов.
Третья строфа отделяет героиню от того ее образа, который создают «они» (и с которыми она не спорит) в предшествующих строфах.
Диалог между героиней и «ими» протекает специфически. Стихотворение композиционно построено как цепь из трех звеньев:
I. «Они» — словесный текст; «Вы» — текст-жест4.
Отношение между текстами: полное соответствие.
II. «Они» — словесный текст; «Вы» — текст-жест, поза (указан, но не приведен).
Отношение между текстами: расхождение.
III. «Они» — нет текста; «Вы» — словесный текст.
Отношение между текстами: «Вы» опровергаете «их».
Словесный текст в I и III сегментах дан в первом лице. Поведение героини дано с нарастанием динамики: жест — поза — внутренний монолог. Однако движение везде замедленное, тяготеющее к картинности. Это передается значениями слов «рассеянно внимая», «задумаетесь грустно».
Четвертая строфа — итоговая. Спор с «ними» совершается не как отбрасывание «их» мыслей, а как раскрытие большей сложности героини, ее способности сочетать в себе различные сущности. Последняя строфа строится на отрицании элементарной логики во имя более сложных связей. Заключительные три стиха последней строфы отрицают так же, как и первый, «их» слова. Однако при этом уравниваются два различных утверждения:
| «Я не страшна» | = | «Я не так страшна, чтоб…» |
| «Я не проста» | = | «Я не так проста, чтоб…» |
Однако это лишь часть общего принципа построения строфы. Значения слов в последней строфе по отношению к остальным несколько сдвигаются. Те же самые слова употребляются в других смыслах. Это расширяет самое понятие значения слова, придает ему большую зыбкость. Резкое повышение роли локальной, возникающей лишь в данном тексте, семантики — поскольку последняя строфа всегда занимает в стихотворении особое место — приводит к тому, что именно эти, необычные значения начинают восприниматься как истинные. Текст вводит нас в мир, где слова значат не только то, что они значат.
Прежде всего, когда на утверждение «Красота страшна» следует ответ «не страшна <…> я», мы оказываемся перед характерной подменой: «я», которое связывается с понятием предельной конкретности, заменяет собой абстрактное понятие (только из этого контекста делается ясно, что в первом и втором случаях «красота» представляла собой перифрастическую замену лично-конкретного понятия). Уже потому, что «страшна» или «проста» в каждом из этих случаев выступают как компоненты различных сочетаний, семантика их несколько сдвигается. Но это лишь часть общей системы сдвигов значений. «Проста я» позволяет истолковывать «проста», включая его в такие контексты, которые при преобразовании выражения «красота проста» будут неправильными5. Но выражения «просто убивать» и «не так проста я, / Чтоб не знать, как жизнь страшна» дают совершенно различные значения для «простой», «просто». И хотя обе эти группы значений могут быть подставлены в выражение «не проста я», заменять друг друга они не могут. Именно омонимичность раскрывает здесь глубину семантических различий. Слово «страшна» употреблено в последней строфе три раза и все три раза в исключающих однозначность контекстах. Дело не только в том, что в первых двух случаях оно связывается с отрицанием, а в последнем — с утверждением, но и в том, что контексты «я страшна» и «жизнь страшна» подразумевают совершенно различное наполнение этого слова.
Созданный в последней строфе мир сложности, понимания жизни во всей ее полноте, мудрости построен в форме монолога героини. Это противоречит женственности и юности6 мира героини в первых строфах. Контраст этот становится активным структурным фактором благодаря тому, что первые строфы построены как диалог двух точек зрения — героини и «их», а последняя строфа — ее монолог. Точки зрения поэта в тексте как будто нет. Однако лексический уровень вступает здесь в противоречие с синтаксическим. Он сообщает нам, что, хотя авторского монолога в тексте нет, вопрос этот более сложен. Монолог героини — это ведь не ее реальные слова, а то, что она могла бы сказать. Ведь их она «твердит про себя». Откуда их знает автор? Ответ может быть только один: это его слова, его точка зрения.
Следовательно, все стихотворение представляет диалог. В первых строфах — это разговор «Вас» и «их», причем «они» доминируют, а «Вы» следует за «ними». В последней строфе — два голоса: «мой» (автора) и «Ваш», но они слиты настолько, что могут показаться одним. Из этого следует, что «Вы» на протяжении текста не равно само себе, и его сложная многогранность, возможность одновременно быть мудрым, как автор, прекрасным женской (и светской, и театрально-испанской) прелестью, овеянной обаянием юного материнства и поэзии, наивно зависимым от чужого мнения и полным превосходства над этим мнением, создает смысловую емкость текста на уровне лексики и синтаксико-композиционного построения.
Сложный полифонизм значений на этом уровне дополняется особой структурой низших элементов. Читательское восприятие текста — ощущение его крайней простоты. Однако простота не означает «непостроенность». Малая активность ритмического и строфического уровней и отсутствие рифмы компенсируются активной организацией фонологии текста. Поскольку вокализм и консонантизм дают здесь разные схемы организации и в общую сумму значений входит возникающий при этом конфликт, рассмотрим каждую из систем в отдельности.
Ударные гласные в тексте располагаются следующим образом:
| I | а | а | а | ||
| и | и | ||||
| а | а | е | |||
| а | о | а | |||
| II | а | а | а | ||
| о | а | е | |||
| о | о | ||||
| а | о | у | |||
| III | е | а | |||
| а | о | а | |||
| у | у | ||||
| и | и | ||||
| IV | а | а | |||
| а | а | о | |||
| а | а | а | |||
| а | ы | а |
Распределение ударных гласных дает следующую картину:
| А | И | Е | О | У | Ы | ||
| колич. | 25 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | всего — 42 |
| % | 59,5 | 7,1 | 7,1 | 16,7 | 7,2 | 2,4 |
Для сравнения приведем данные по стихотворению «На улице — дождик и слякоть…», написанному в тот же период и близкому по основным показателям (количество стихов и ударных гласных в стихе):
| А | И | Е | О | У | Ы | ||
| колич. | 17 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | всего — 48 |
| % | 35,4 | 20,8 | 14,6 | 16,7 | 10,4 | 2,1 |
Сознавая, что, конечно, надо было бы сопоставить эти данные с соответствующими статистическими показателями во всей лирике Блока (таких подсчетов пока не имеется) и со средними статистическими данными распределения гласных в русской непоэтической речи, мы можем, однако, заключить, что для ощущения фонологической организованности текста этих данных вполне достаточно.
Проследим некоторые особенности этой организованности.
В пределах вокализма ведущей фонемой является «а». Первый стих не только дает подчеркнутую инерцию этой доминации (рисунок вокализма первого стиха выглядит так: «а-а-а-а-а-а-а-у»7), но и играет роль фонологического лейтмотива всего стихотворения; дальнейшие модификации — вплоть до полного разрушения этой инерции — возможны именно потому, что она так открыто задана в начале. Ударное «а» прошивает, как нитью, ряд слов, образуя цепочку понятий, которые выступают в тексте как семантически сближенные (подобно тому, как мы говорим о локальных синонимах и антонимах поэтического текста, можно было бы говорить и о локальных семантических гнездах, играющих в поэтическом тексте такую же роль, какую однокоренные группы — в нехудожественном):
красота
страшна
красный
Сближение этих понятий создает новые смыслы, некоторые из традиционных актуализирует, другие — гасит. Так, на перекрестке понятий «страшный» и «красный» возникает отсутствующее в тексте, но явно влияющее на его восприятие — «кровь». Вне этого подразумевающегося, но неназванного слова было бы совершенно непонятно неожиданное появление в последней строфе «убивать».
Вместе с тем в первой строфе образуется некоторый диалог на фонологическом уровне. Одну группу составляют гласные заднего ряда (доминирует «а»), вторую — гласные переднего ряда + «ы». Доминируют в этом ряду «и/ы». Здесь тоже образуется «родственный» ряд:
Вы
лениво
плечи
Любопытно, что в этой связи пара «Вам — Вы» выглядит не как две формы одной парадигмы, а как противоположные реплики в диалоге. «Красный», «страшный» и «красивый» мир — это мир, который «Вам» навязывают «они» («они» — определенный тип культурной традиции, определенный штамп для осмысления жизни). Группа «и/ы» строит поэтическое «Вы» — реакцию героини: «накинете» — «лениво» — «плечи». При этом «накинете» и «испанскую» представляют синтез этого звукового спора: «накинете» — «а — и — и — е» — переход от первой группы ко второй, а «испанскую» — «и — а — у — у» — переход от второй группы к ряду, заданному в первом стихе, — «а — у». В этом же особая роль слова «красный», которое выступает как слияние группы «красота» — «страшна», построенной только на «а», и «Вы» с единственным гласным «ы».
Предлагаемый «ими» объясняющий штамп привлекателен, многозначим и страшен, а героиня пассивна и готова его принять.
Вторая строфа начинается таким же по звуковой организации стихом. Правда, уже в первом стихе есть отличие. Хотя вокализм его произносится так же:
а — а — а — а — а — а — а — у,
но не все эти «а» равнозначны: некоторые из них — фонемы, другие лишь произносительные варианты фонемы «о». В определенной мере это имело место и в первом стихе первой строфы, но разница очень велика. Дело не в том, что там один такой случай на семь, а здесь — два. В ведущем слове первой строфы — «страшна» — оба «а» фонемные, а второй — «проста» — первое «а» — лишь «замаскированное» «о». Это очень существенно, поскольку фонема «о» в этой строфе из группы «заднерядных», противопоставляясь «а», получает самостоятельное структурное значение. Если в выражении «красота страшна» (а — а/о —а — а — а) «а/о» скрадывается под влиянием общей инерции, то в случае «красота проста» мы получаем симметричную организацию «а — а/о — а — а/о — а», что сразу же делает ее структурно значимой. Консонантной группой, как мы увидим дальше, «проста» связывается с «пестрой» (прст — пстр), а вокализмы образуют группу:
пестрой
неумело
укроете
ребенка.
Поскольку особая роль «красного» в первой строфе задала инерцию высокой «окрашенности», антитетичность общей структуры уже настраивает нас на поиски цветового антонима. Здесь им оказывается «пестрый», который конденсирует в себе значения домашности, неумелости, юности и материнства. Особую роль в этой строфе приобретает «у». Оно встречается в сочетаниях не с «а», а с группой «е — и — о» («неумело»: е — у — е — о, «укроете»: у — о — е — е). При антитетическом противопоставлении стихов:
Красный розан — в волосах,
Красный розан — на полу —
оппозиция конечных ударных «а» — «у» приобретает характер противопоставления «верх — низ», что на семантическом уровне легко осмысляется как торжество или унижение «красного розана» — всей семантической группы красоты, страшного и красного.
Поскольку первая строфа противостоит второй как «красная» — «пестрой», особое значение получает то, что первая строится на повторах одной фонемы (именно «а»), а вторая — на сочетаниях различных. То есть в первом случае значима фонема, во втором — ее элементы. Это, при установлении соответствий между фонологическими и цветовыми значениями, осмысливается как иконический знак пестроты.
Третья строфа «не окрашена». Это выражается и в отсутствии цветовых эпитетов, и в невозможности обнаружить вокальные доминанты строфы.
Последняя строфа, образуя композиционное кольцо, строится столь же демонстративно на основе «а», как и первая (это приобретает особый смысл, поскольку на уровне слов она отрицает первую)8. Диссонанс представляет лишь ударное «ы» в слове «жизнь». Оно тем более значимо, что это единственное ударное «не-а» в строфе. Оно сразу же связывается в единую семантическую группу с «Вы». И то, что «жизнь» — наиболее емкое и значимое понятие — оказывается на уровне синтаксиса антонимом героини (страшна не я, а жизнь), а на уровне фонологии синонимом (вернее, «однокоренным» словом), придает образу героини ту сложность, которая и является конструктивной идеей стихотворения.
Консонантизмы текста образуют особую структуру, в определенной мере параллельную вокализмам и одновременно конфликтующую с ней. В консонантной организации текста отчетливо выделяются, условно говоря, «красная» группа и группа «пестрая». Первая отмечена: 1) глухостью; здесь скапливаются «к», «с», «т», «ш», «п»; 2) концентрацией согласных в группы. Вторая — 1) звонкостью; здесь преобладают плавные; 2) «разряженностью»; если в первой группе соотношение гласных и согласных 1 : 2 или 1 : 3, то во второй — 1 : 1.
Фонологические повторы согласных образуют определенные связи между словами.
| красота | страшна ————→ | красный |
| крст | стршн | крсн |
| красота | проста —————→ | пестрый |
| крст | прст | пстр |
Звуковые трансформации совершаются в данном случае вполне закономерно. При этом активизируются, с одной стороны, фонемы, включенные в повторяющееся звуковое ядро, а с другой — неповторяющиеся, такие, как «ш» в первом случае или «к» во втором. Они выполняют роль дифференциальных признаков. Отсюда повышенная значимость сочетаний «ш» с доминантным «а» в слове «шаль» (третий стих первой строфы) и «кр» во второй строфе, где это сочетание повторяется и в отброшенном (и сюжетно — «на полу», и конструктивно) «красный», и в противопоставленных ему «укроете» и «ребенка».
Однако, при всей противопоставленности «красный — пестрый», эти понятия (слова) складываются в нейтрализуемую на метауровне пару не только потому, что образуют архисему «цвет», но и поскольку имеют ощутимое общее фонологическое ядро. Этому скоплению согласных с сочетанием взрывных и плавных, глухих и звонких противостоит употребление одиночных консонант на вокальном фоне. Центром этой группы становится «Вы». В ней большое место занимают сонорные и полугласные. Это такие слова, как «неумело», «внимая», «задумаетесь». Семантическое родство их очевидно — все они связаны с миром героини. В последней строфе эти две тенденции синтезируются. Так, поставленное в исключительное в стихе синтаксическое положение слово «убивать» (единственный перенос) по типу консонантной организации принадлежит группе с «домашней» семантикой, и это способствует неожиданности, то есть значимости его информационной нагрузки.
Если суммировать полученную таким образом картину не до конца совпадающих упорядоченностей на различных структурных уровнях текста, то можно получить приблизительно следующее:
Первая строфа — взятая в кавычки речь некоторого общего собирательного наблюдателя и описание семантически однотипного с ним поведения героини. Героиня согласна с этим голосом. Так же строится и вторая строфа. Разница состоит лишь в том, что в каждой из них «голос» говорит противоположное и, соответственно, поведение героини строится противоположным образом. Авторского суда, его «точки зрения» в тексте, как кажется, нет.
Третья строфа — переход. По всем структурным показателям она снимает проблематику первых двух.
Четвертая представляет собой возврат, заключающий одновременно повтор и отрицание первых строф. Синтез дан в форме прямой речи героини, то есть, бесспорно, дает ее точку зрения. Однако эта прямая речь — не реальный, а внутренний монолог, который известен автору лишь потому, что совпадает с авторским объяснением личности героини (синтаксически он однотипен обороту: «В ответ на это Вы могли бы сказать»), то есть одновременно является и прямой речью автора. Если в первых строфах точка зрения героини совпадает с общим мнением, то во второй она совмещается с голосом Блока.
Образ поэтического «Вы» раскрывается в следующем движении:
| Кармен ——→ Мадонна ——→ человек, чей внутренний мир не поддается стандартным объяснениям (поэт) |
Очевидно, что происходит сближение этого «Вы» с поэтическим «я» автора. Но важно и следующее: первые два звена цепочки даны как нечто для Блока внешнее — «их» и «Ваша» (а не «моя») оценка. Однако мы знаем, сколь существенны для лирики Блока символы Кармен и Мадонны, в какой мере они принадлежат его поэтическому миру. Противоречие это имеет не внешний и случайный, а внутренний, структурно осмысленный характер.
Образы Кармен и Мадонны в лирике Блока — разновидности женского начала и неизменно противостоят лирическому «я» как страстное земное или возвышенное небесное, но всегда внешнее начало. Образ поэта в лирике отнесен к внутреннему миру «я», и поэтому признак «мужской» / «женский» для него нерелевантен (как для лермонтовской сосны и пальмы). Образ усложнен и приближен к лирическому «я» Блока.
В отмеченной нами цепочке происходит ослабление специфически женского (очень ярко подчеркнутого в первых звеньях) и одновременное перемещение героини из внешнего для «я» мира во внутренний.
Но кольцевая композиция приводит к тому, что опровержение первых звеньев не есть их уничтожение. Обаяние женственности и отделенность героини от автора сохраняются, образуя лишь структурное напряжение с синтетическим образом последней строфы.
Специфика построения текста позволяет Блоку донести до читателя мысль значительно более сложную, чем сумма значений отдельных слов. При этом переплетение разных точек зрения, выраженных прямой речью, идущей от нескольких субъектов, оказывается сложно построенным монологом автора.
И то, что авторский текст дан в форме монолога героини (иначе это было бы еще одно истолкование со стороны, которое «Вам» предлагают посторонние), не умаляет его связи именно с блоковским миром. Заключительное «жизнь страшна» — явная отсылка к фразеологизмам типа «страшный мир». И это созданное Блоком объяснение, что есть Ахматова, содержит отчетливые признаки перевода мира молодой поэтессы, представительницы и поэтически, и человечески нового, уже следующего за Блоком поколения, на язык блоковской поэзии. И подобно тому, как в альтмановском портрете виден Альтман, а у Петрова-Водкина — сам художник, переведший Ахматову на свой язык, в поэтическом портрете, созданном Блоком, виден Блок. Но портреты — это все же в первую очередь изображенная на них поэтесса. И блоковский портрет связан многими нитями с поэтикой молодой Ахматовой, которая становится здесь объектом истолкования, изображения и перевода на язык поэзии Блока.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Показательно, что система сюжетов в лирике варьируется в зависимости от строя языка. Наличие двойственного числа и соответствующих форм местоимений в древнерусском языке определило возможность сюжетного хода в «Слове о полку Игореве»: «Ту ся брата разлучиста» — тем более показательного, что князей было не два, а четыре. Но реальная жизненная ситуация деформируется, переходя в систему типовых сюжетов (следует помнить, что между двойственным и множественным числом разница на уровне местоимений не только количественная: местоимения множественного числа представляют собой нерасчлененный объект, противостоящий единственному числу, местоимения двойственного же числа состоят из двух равноправных объектов).
В языках, в которых отсутствует грамматическое выражение рода местоимений (например, в эстонском), в принципе возможны лирические тексты, построенные по схеме: «местоимение первого лица — местоимение третьего лица», которые в равной мере позволяют подставить под один и тот же текст в обе позиции персонажей мужского и женского пола; в русской поэзии для этого требуются специальные тексты. Ср. бесспорную связь между известным спором об адресате сонетов Шекспира и невыраженностью категории грамматического рода в английском языке. См.: Jakobson R., Jones L. G. Shakespeare’s Verbal Art in Th’expense of Spirit Mouton. The Hague; Paris, 1970. P. 20–21.
2 Ср. распространенный в поэзии случай, когда автор стихотворения обращается на «ты» к женщине, степень интимности в отношениях с которой отнюдь не допускает такого обращения в жизни. Это лирическое «ты» более абстрактно, чем соответствующее ему местоимение в разговорной речи, и не обязательно подразумевает указание на степень близости, поскольку, в отличие от нехудожественного языка, оно не имеет в качестве альтернативы «далекого» второго лица «Вы».
3 Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 550.
4 Показательно, что «ответы» как бы напрашиваются для перекодировки в зрительные образы, иллюстрации. Их и можно рассматривать как иллюстрации к словам «их».
5 Например, для изолированного выражения «я проста» вполне возможна подстановка семантики типа «простота хуже воровства». Любая перефразировка выражения «красота проста», которая исходила бы из требования сохранить основное значение высказывания (семантика типа «глупая красавица» в данное высказывание явно не входит), исключает подстановку таких значений.
6 Ср. в черновиках: «Вас страшит расцвет Ваш ранний».
7 Клаузула дает характерное нарушение инерции, но в пределах фонем заднего ряда.
8 Здесь впервые героиня именуется не «Вы», а «я», входя в группу «а».
М. И. Цветаева
***
Напрасно глазом - как гвоздем,
Пронизываю чернозем:
В сознании - верней гвоздя:
Здесь нет тебя - и нет тебя.
Напрасно в ока оборот
Обшариваю небосвод:
- Дождь! дождевой воды бадья.
Там нет тебя - и нет тебя.
Нет, никоторое из двух:
Кость слишком - кость, дух слишком - дух.
Где - ты? где - тот? где - сам? где - весь?
Там - слишком там, здесь - слишком здесь.
Не подменю тебя песком
И паром. Взявшего - родством
За труп и призрак не отдам.
Здесь - слишком здесь, там - слишком там.
Не ты - не ты - не ты - не ты.
Что бы ни пели нам попы,
Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть -
Бог - слишком Бог, червь - слишком червь.
На труп и призрак - неделим!
Не отдадим тебя за дым
Кадил,
Цветы
Могил.
И если где-нибудь ты есть -
Так - в нас. И лучшая вам честь,
Ушедшие - презреть раскол:
Совсем ушел. Со всем - ушел.
5 -7 января 1935 г.
Стихотворение входит в цикл "Надгробие", посвященный
смерти Н. П. Гронского.
Чрезвычайно интересное в структурном отношении, это
стихотворение Цветаевой представляет яркий пример поэ-
тической семантики: словарное значение отдельных слов
предельно редуцируется, слово приближается к местоиме-
нию2 заполняясь окказиональной, зависящей от данной
структуры текста, семантикой.
Стихотворение отчетливо делится на целую систему па-
раллелизмов, которые складываются в смысловые парадиг-
мы, выявляя семантическую конструкцию текста.
Непосредственная читательская интуиция при внима-
тельном чтении позволяет выделить параллельные строфы:
1 и 2, 3 и 5, 4 и 6. Непарной остается седьмая. Для
этого, как увидим, есть глубокие идейно-композиционные
основания.
Рассмотрим выделенные параллельные сегменты текста.
Первые две строфы отмечены полным параллелизмом син-
таксических и интонационных конструкций. Ритмическая же
структура строф выглядит следующим образом:

Н. П. Гронский (19(M-1934) - поэт, погибший в па-
рижском метро в результате несчастного случая. Цветаева
высоко ценила Гронского как человека и художника:
"Юноша оказался большим поэтом" (Цветаева М. И.
Письма к Анне Тестовой. Прага, 1969. С. 117). В вышед-
шей после гибели Гронского рецензии на его книгу "Стихи
и поэма", помещенной в "Современных записках" (1936. ь
61), Цветаева
противопоставила его творчество эмигрантской "моло-
дой поэзии".
2 См.: Зарецкий А. О местоимении // Русс-
кий язык в школе. 1940. № 6.
И в данном случае можно отметить наличие параллелиз-
ма (вариативность создается ритмической аномалией в
третьем стихе второй строфы). Любопытна смена степени
неожиданности стихов. Первые стихи I и II строф принад-
лежат (по Тарановскому, терминологией которого мы уже
пользовались) к IV ритмической фигуре. Это самая расп-
ространенная разновидность русского четырехстопного ям-
ба. По таблицам К. Тарановского, в лирике Пушкина
1830-х гг. она составляет 44,9 % от всех случаев упот-
ребления этого размера (самая многочисленная группа).
Ведущее место она сохраняет и в поэзии XX в., хотя аб-
солютные цифры частотности употребления несколько сни-
жаются. В поэзии Блока, по тому же источнику, она дает
38,7 % всех четырехстопных ямбов.
Дважды повторенная во вторых стихах обеих строф раз-
новидность четырехстопного ямба (V форма, по К. Тара-
новскому1) принадлежит к очень редким. В. В. Иванов на-
зывает ее "необычной... формой ямба" (в его терминоло-
гии она называется VII)2.
В пушкинской лирике 1830-х гг. она совсем не встре-
чается, у Блока дает цифру 0,7 %. Третий стих в первой
строфе принадлежит к редкой, но все же менее уникальной
разновидности (III, у Пушкина 30-х гг. - 4,7 %, у Блока
- 11,6%). Таким образом, создается некоторая закономер-
ность ожидания: от самой частой - к самой редкой, с
последующим смягчением резкости этого перехода. Однако,
как только такая закономерность возникает, тотчас же
возникает и ее нарушение - на фон третьей строки первой
строфы проектируется третий стих второй, который вообще
не является правильным ямбом и потому кажется непредс-
казуемым в данном ритмическом контексте. Обе строфы за-
вершаются стихом, который, как мы увидим, может быть в
равной мере прочтен и как I, и как II, и как III ритми-
ческая фигура. Но у этих фигур резко различная вероят-
ность (в "пушкинской норме" 1830-х гг. - соответственно
34,3, 44,9 и 4,7 %). Это придает особую значимость то-
му, какой из вариантов будет актуализован читательской
декламацией, а какой остается отвергнутым.
Однако в наибольшей мере параллелизм первой и второй
строф раскрывается на уровне лексической конструкции.
Напрасно глазом - как гвоздем...
Напрасно в ока оборот...
Анафорическое начало "напрасно" устанавливает паралле-
лизм между стихами. Однако параллелизм - не тождество.
И в дальнейшем отличия столь же значимы, как и сходс-
тва: они взаимно активизируются на фоне друг друга.
"Глазом - гвоздем" и "ока - оборот" отчетливо образуют
две фонологически связанные пары. Этим устанавливается
и семантическая связь между ними.
1 Тарановски К. Руски дводелни ритмови. С. 85 и
табл.
2 Иванов В. В. Ритмическое строение "Баллады о цир-
ке" Межирова // Poetics.
Poetyka. Поэтика. Warszawa, 1966. Т. 2. С. 285.
Методику выявления семантической общности можно предс-
тавить в следующем виде: задается полный список сем -
элементарных смысловых единиц - для каждого из двух
слов. Общие семы составят то пересечение семантических
полей, которое активизируется сравнением, звуковыми
повторами, соседством в поэтической строке.
Можно предложить и менее громоздкий путь: задать
список возможных в естественном языке фразеологизмов
для каждого из этих слов. Контексты, в которых оба сло-
ва возможно соединить с одним и тем же третьим, дадут
значение, активизируемое в рассматриваемом тексте. В
данном случае это будут:
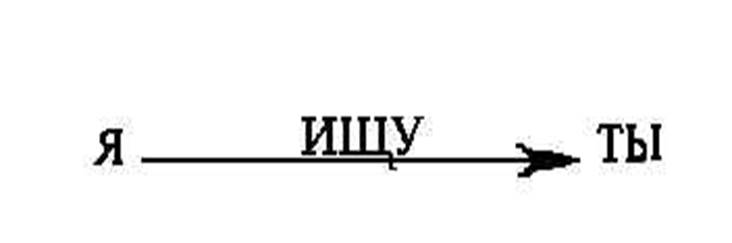
Значения эти поддерживаются глаголами "пронизываю" в
первом и "обшариваю" во втором случае, продолжающими
активизировать антитезу "острое - круглое", перерастаю-
щую в пространственное противопоставление действия,
сконцентрированного в одном направлении (пространство
"луча"), и действия, направленного во все стороны
(пространство "круга").
Может создаться впечатление, что на фоне заданного
синтаксико-интонационного и ритмического параллелизма
происходит нарастание противопоставления (по мере повы-
шения уровня разница все более обнажается:
интонация дает полное совпадение, ритмика - некото-
рые отличия, а лексика - неуклонный рост противопостав-
ления строф). "Глаз" и "око" дают только стилистическое
противопоставление, далее возникает уже семантическое
противопоставление "острый" - "круглый" и антитеза:
"действие в пространстве луча" - "действие в пространс-
тве круга". Завершается параллель противопоставлением
"небосвод - чернозем", дающим и стилистическую оппози-
цию "поэтическое - непоэтическое", и пространственную
("верх - низ"), и вещественную ("земля - воздух", "за-
полненное пространство - пустое пространство"). Парал-
лель переходит в крайние точки противопоставления. А в
следующем стихе нарушается сама основа сопротивопостав-
ления - синтаксический и ритмический повтор:
В сознании - верней гвоздя...
Дождь! дождевой воды бадья...
Но именно здесь обнажается уже возникшая инерция се-
мантического противопоставления "сознания" и "бадьи" -
духовного и материального начал как организующих всю
систему противопоставлений. Не случайно следующая стро-
фа начинается указанием на два начала: "кость" и "дух".
Предельно обобщенным выражением этого противопоставле-
ния становится "здесь -
там" в начале четвертых стихов. Однако, если структура
противопоставлений первой и второй строф утверждает ан-
титезу "небосвода" и "чернозема", "там" и "здесь", то
поверх этого построения наслаивается вторая конструк-
ция, весь смысл которой - в опровержении охарактеризо-
ванной структуры семантических связей.
Совпадение начал ("напрасно") и концовок ("нет тебя
- и нет тебя") утверждает единство этих, казалось бы,
противоположных сущностей. Противоположное оказывается
тем же самым и полюсы семантической оппозиции - лишь
разными формами единой структурно-смысловой парадигмы.
Тождественность обоих полюсов противопоставления
раскрывается, прежде всего, в их стилистическом уравни-
вании: противопоставления "небо и земля", "верх и низ",
"дух и кость" не совпадают, вопреки традиции и ожида-
нию, с оппозицией "поэзия - проза". В отношении к ней
оба члена противопоставления ведут себя одинаково. Вна-
чале может показаться (и стих сознательно возбуждает в
читателе эту ложную инерцию ожидания), что "земле" при-
даны стилистические признаки антипоэтизма: "глаз",
"гвоздь" в противопоставлении "оку" и нейтрально-поэти-
ческому "обороту" производят впечатление веществен-
но-сниженных. Но дальше к "поэтическому" "око" присое-
диняется грубое "обшариваю", а к вещественному "гвоздь"
- "пронизываю", в антитезе звучащее как поэтическое.
Затем к "обшариваю" присоединен традиционно-поэтический
"небосвод", а к "пронизываю" - явно лежащий вне поэти-
ческой лексики "чернозем". Казалось бы, наконец, удов-
летворив читательское ожидание, "поэзия" совместилась с
"верхом", а "проза" - с "низом". И тут снова происходит
неожиданная подмена: "низ" совмещается с духовным нача-
лом - "сознанием", а "верх" заполняется материальным
"дождем", вещественность которого эпатирующе подчеркну-
та уподоблением бадье.
Таким образом, высокое и низкое пространственно ока-
зываются средством выражения антитезы духовного и мате-
риального, но в равной мере лежат вне мира "высокого"
(в значении "поэтического").
Однако тождественность семантических полюсов раскры-
вается в их одинаковом отношении к другой смысловой
конструкции, существующей в том же тексте. В первых же
строфах стихотворения заданы структурные центры:
"я" (выражено личной формой глагола "обшариваю",
"пронизываю") и "ты". Они обрамляют текст строф, распо-
лагаясь в начале и конце. Отношение между ними склады-
вается по схеме:

Весь проанализированный текст оказывается в отношении к
"я" набором синонимов, вариантов единой инвариантной
схемы: глаголы поиска - сфера поиска. Но в равной мере
они едины и в отношении к "ты", поскольку в одинаковой
мере не содержат "ты". Отметим, что если отношение "я"
и "ты" обозначено, то сущность их (для "я" еще даже
прямо не выраженная в местоимении) пока совпадает с об-
щеязыковым значением. Определить структуру значения
этих местоимении для данного художественного текста
значит понять поэтическую идею текста.
Построение "ты" начинается уже в анализируемых сти-
хах:
Здесь нет тебя - и нет тебя...
Там нет тебя - и нет тебя...
Подобное построение невозможно в нехудожественном текс-
те: одно и то же слово присоединяется само к себе как
другое. Это сразу же заставляет создать построение, в
котором полустишия получили бы смысловое отличие и,
следовательно, соединение стало бы возможным. Наиболее
простая возможность противопоставления полустиший - ин-
тонационная: в первом полустишии считать подударным
"нет", а во втором - "тебя" (или обратно). Мы уже отме-
чали (см. с. 223), что в зависимости от этого меняется
степень ритмической неожиданности. Однако меняется и
смысл утверждения. При перемене ударения получается ут-
верждение типа: "Нет того, что есть "ты"" и "то, что
есть, - не "ты"" (простое повторение полустишия - тоже
возможное в поэзии - дало бы лишь интонацию нагнетания
и равнялось бы внесению в высказывание далекой ему ко-
личественности типа: красный-красный = очень красный;
но какую бы интонационную интерпретацию ни избрал дек-
ламатор, вся сумма допустимых в тексте интерпретаций
будет присутствовать в его чтении как множество, из ко-
торого осуществляется выбор).
Однако интонация, устраняя внешнее логическое проти-
воречие в тексте четвертых стихов, еще не решает вопро-
са. Если бы цель была в создании логически непротиворе-
чивого суждения, то этого можно было бы достигнуть и
более простым путем. Семантически подобное построение
оказывается возможным, если допустить, что первое и
второе "тебя" - не одно и то же, а как бы два разных
слова. Так оно и есть на самом деле: первое "ты" обоз-
начает словарное местоимение второго лица и, следова-
тельно, применимо к любому, кто способен занять позицию
второго лица. С второго "тебя" начинается конструкция
специфически поэтического местоимения, которое может
быть отнесено только к одному лицу - "ты" данного текс-
та. Неравенство слова самому себе - абсурд с точки зре-
ния общеязыкового употребления и одновременно один из
основных принципов поэтической семантики - обнажено в
этих стихах как семантический принцип цветаевского
текста. При этом конструируется и некоторое содержа-
тельное представление о "ты" - пока еще как вопрос. Ни
"здесь" (земное пространство), ни "там" (внеземное
пространство) не содержат "тебя". И если первое "здесь
(там) нет тебя" может быть истолковано как указание на
сам факт смерти (типа: "тебя уж нет"), то второе - ука-
зание на несовместимость "тебя" с данным пространством.
Но если "ты" несовместимо ни с "здесь", ни с "там", то
есть ни с каким пространством, то природа этого "ты"
начинает казаться странной, представляется противоречи-
ем, разрешить которое призван дальнейший текст.
1 Даже в узких пределах чисто логического аспекта
задача, в сущности, более сложна: не просто устранение
логического противоречия, а взаимное наложение и борьба
двух исключающих друг друга логических конструкции.
Приведем ритмическую схему остального текста:

Даже если оговориться, что последний стих текста допус-
кает и иные варианты прочтения, картина остается весьма
выразительной. В тексте господствуют, с одной стороны,
предельно удаленная от нормы четырехстопного ямба стро-
ка с двумя (!) спондеями с другой - эталонная строка:
ритмическая фигура в поэзии XIX в. по частотности зани-
мала второе место, уступая IV; однако в поэзии XX в.
она имеет тенденцию увеличивать свое распространение:
по данным Тарановского, в поэзии Блока ее частотность
почти сравнялась с употребительностью IV фигуры - 30 %
и 38,7 %, а у дореволюционного Вяч. Иванова и С. Горо-
децкого I форма вышла вперед - соответственно 41,4 и
36,4% и 44,1 и 41,1 %). Нетрудно убедиться, что все на-
иболее значимые места текста приходятся на эти ритми-
ческие крайности. Каждая из них составляет тему, прохо-
дящую через текст.
1 Возможна и ритмическая интерпретация строки как
уникальной - построенной на четырех спондеях а также
ряд других ритмико-декламационных вариантов. Обилие та-
ких вариантов здесь и ниже обусловлено большим коли-
чеством односложных слов (в том числе таких семантичес-
ки опорных, как "кость", "дух", "бог", "червь",
"здесь", "там", "дождь").
Мы уже отмечали, что в центральной части стиха действу-
ет перекрестный параллелизм: третья строфа параллельна
пятой, четвертая - шестой. Теперь следует внести в это
утверждение некоторые уточнения. Спондеические стихи,
связанные с темой пространства ("там - здесь"), соеди-
няют три строфы:
третью, четвертую и пятую. Их ритмическая антитеза,
строящая семантику "ты", утверждает параллелизм четвер-
той и шестой строф. Наконец, тема единства сближает пя-
тый и седьмой. Так возникает сложное композиционное пе-
реплетение, образующее смысловую ткань стихотворения.
Кость слишком - кость, дух слишком - дух...
Там - слишком там, здесь - слишком здесь...
Здесь - слишком здесь, там - слишком там...
Бог - слишком бог, червь - слишком червь...
Конструктивный параллелизм всех этих стихов лежит на
поверхности. Они создают два ряда, которые взаимно ан-
тонимичны, внутри себя образуя - каждый - некоторую се-
мантическую парадигму:
кость - дух
здесь - там
червь - бог
Уже само по себе построение подобных синонимических
рядов приводит к активизации как общего семантического
ядра: земное (материальное) - небесное (духовное), так
и дифференциальных значений:
| косно-вещественное......... | - идеальное |
| низменное ..... | - возвышенное |
| близкое ....... | - далекое |
Однако дело не сводится к этому: присоединение слова
самого к себе с помощью наречия "слишком" не только
вносит элемент количественного измерения в неколичест-
венные понятия, но снова отделяет словарное слово от
поэтического, показывая, что словарное слово может со-
держаться в поэтическом в определенных - не тех, что
обычно - количествах. Так создается картина двух частей
мирового пространства, причем каждая из них содержит
квинтэссенцию самой себя, своей сущности. И тут спонде-
ические стихи вступают в отношение со вторым семанти-
ческим лейтмотивом, утверждающим невозможность для "ты"
остаться собой ни в исключительно земном, ни в исключи-
тельно духовном мире.
Где - ты? где - тот? где - сам? где - весь?
Не ты - не ты - не ты - не ты...
Первый из этих стихов создает синонимический ряд:
ты - тот - сам - весь.
Это раскрывает и семантику "ты": оно включает в себя
значение единичности ("тот, а не этот или какой-либо
другой"), личности' и целостности ("весь"). Таким обра-
зом, "ты" получает ряд сверхсловарных семантических
признаков.
Читатель, уже привыкший к тому, что слово в цветаев-
ском тексте не равно самому себе, не воспримет четы-
рехкратного повторения "не ты" как тавтологию. Он будет
считать, что ему было предложено четыре (здесь это -
синоним понятия "любое количество") различных варианта
"ты", и все они оказались "не ты". Этим окончательно
утверждается идея единственности, неповторимости "ты".
Местоимение становится своей грамматической противопо-
ложностью - именем собственным.
Варьируя основную антитезу земного и небесного, Цве-
таева вводит новые пары семантических полюсов, чтобы
опровергнуть те дифференциальные признаки, которые для
их различения построил предшествующий текст. Пара "пе-
сок - пар" снимает оппозицию "материальное - нематери-
альное", поскольку оба члена семантического отношения -
материальны, а для Цветаевой - грубо вещественны. Пар
не более идеален, чем песок. Более того, поскольку сло-
во это стоит на месте, где мы ожидали бы увидеть "душа"
или ее синоним, раскрывается нарочитая грубость подоб-
ной замены.
Ср. описание смерти в "Поэме конца":
Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа.
Христианская немочь бледная!
Пар. Припарками обложить!
Да ее никогда и не было!
Было тело, хотело жить!
Пар, созвучный припаркам, изображение момента разлу-
чения души и тела словами "паром в дыру ушла" - все
это, конечно, очень далеко от идеальности.
Однако если в этом контексте оба семантических полю-
са выглядят как вещественные и грубые, то другая анти-
теза:
дым кадил - цветы могил -
представляет их обоих поэтичными.
Таким образом, ни противопоставление косно-вещест-
венного идеальному, ни антитеза возвышенного низменному
не способны организовать текст. Отбрасываются не только
все предложенные вначале принципы разделения основных
семантических центров, но и самое это разделение. "Ты"
противостоит "не-ты" как неразделенное - разделенному:
1 Ср.: "Определительное местоимение сам употребляет-
ся при именах одушевленных и при личных местоимениях и
имеет значение "самостоятельно", "без помощи других""
(Грамматика русского языка: В 2 т. М., 1952. Т. 1. С.
402).
Нет, никоторое из двух...
Не подменю тебя песком
И паром. Взявшего - родством (курсив мой. - Ю.Л.)
... На труп и призрак - неделим!
Богоборческий и антихристианский характер пятой
строфы привел к тому, что она не могла быть опубликова-
на в "Современных записках" (Париж, 1935. № 58. С.
223), где стихотворение впервые увидело свет. Однако
дело не только в органической невозможности, по цвета-
евскому тексту, смерти. "Ты", сущность которого в не-
раздельности, интегрированности, может существовать,
"быть" только в неразделенном интегрированном прост-
ранстве, а весь текст создает структуру разделенного
пространства. Реальное пространство исконно разделено
на "небосвод" и "чернозем", и для поэта, не принимающе-
го этого разделения, идеальное "ты" не может ни уме-
реть, ни жить в нем подлинной жизнью. Пространство это
с ним не совместимо. То, что не принимается здесь самый
принцип разделения, доказывает строфа:
Не ты - не ты - не ты - не ты.
Что бы ни пели нам попы,
Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть -
Бог - слишком бог, червь - слишком червь.
Строфа интересна не только полемикой со всей церков-
ной традицией, от низших ее проявлений ("попы") до наи-
более высоких и поэтических (последний стих - полемика
с Псалтырью и всей русской традицией истолкования зна-
менитого седьмого стиха из 21 псалма. Речь идет о бо-
лее значительном: о том, что целостность личности тре-
бует и целостного пространства. Утверждение "попов" не
уничтожает разделения жизни и смерти, а лишь меняет их
местами, объявляя земную жизнь смертью, а смерть - под-
линной жизнью. Но церковное представление о том, что
"ты" было мертвым в жизни и только теперь стало истинно
живым, отбрасывается ("не ты") так же, как и обратное:
"Ты был живым и стал мертвым". Оба они исходят из раз-
деления, а по конструкции текста, разделение и "ты" не
совместимы.
Так возникает противопоставление всего текста пос-
ледней строфе. Весь текст говорит о том пространстве,
где "тебя" нет, - последняя строфа создает структуру
возможного пространства, которое соответствовало бы
природе "ты".
В этом смысле интересна динамика отношения "я" и
"ты". Бросается в глаза сложная система употребления
категории числа.
| местоим. I лица | местоим. II лица | |
| I-IV строфы | единств. | единств. |
| V-VI строфы | множеств. | единств. |
| VII строфа | ||
| 1 и 4 стихи | - | единств. |
| 2 и 3 стихи | множеств. | множеств. |
См. в наст. изд. статью "С кем же полемизировал Пнин
в оде "Человек"?".
При этом местоимение первого лица до тех пор, пока не
появляется "мы" ("нам"), присутствует лишь в глагольных
окончаниях. Второе лицо все время выражено местоимени-
ем. Но еще существеннее другое: хотя с самого начала
задана определенная схема отношений "я" и "ты" ("я" ищу
"ты"), в тексте она, используя выражение Гегеля, реали-
зуется через невыполнения. Все глагольные формы, харак-
теризующие действия поэтического "я" (и "мы"), даны с
отрицаниями ("напрасно... пронизываю", "напрасно... об-
шариваю", "не подменю", "не отдам", "не отдадим"), а
"ты" присутствует своим отсутствием ("нет тебя", "где
ты?", "не ты").
Так создается определенное пространство, где "ты" не
может существовать. Этому противопоставлена последняя
строфа, где "ты" дано с положительным признаком сущест-
вования: "ты есть". Контрастно строятся и отношения ли-
рических центров текста. В I-VI строфах отношение "я" и
"ты" складывается следующим образом: предполагаемое
место "ты" - небо и земля, поиски ведутся по прямой
("пронизываю") и по окружности ("обшариваю"), то есть
речь идет обо всем внешнем универсуме. В VII строфе
между "я" ("мы") и "ты" - отношение инклюзива ("если
где-нибудь ты есть, то в нас"). Причем внешнее прост-
ранство - расколотое, внутреннее - единое (только здесь
можно "презреть раскол").
| строфы I-IV | пространство, внешнее по отношению к "я": пространство разорванное; "нет тебя" |
| строфа VII | пространство, внутреннее по отношению к "я": пространство целостное; "ты есть" |
Таким образом, полное и целостное существование "ты"
- это его пребывание в "я" ("мы"). Поэтому полный уход
из разорванного мира ("совсем - со всем") - не уничто-
жение.
...И лучшая вам честь,
Ушедшие - презреть раскол:
Совсем ушел. Со всем - ушел.
Максималистская полнота отказа и от земного, и от
небесного мира, полного ухода, выражена последним сти-
хом, оба полустишия которого, взаимно проецируясь,
раскрывают сложное построение смысла: "совсем" на фоне
второго полустишия обнажает значение целостности - пол-
ностью умер. Полустишие это противостоит и идее загроб-
ной жизни ("что бы ни пели нам попы"), и идущей от Го-
рация традиции утверждения, что смерть не похищает поэ-
та полностью - часть его сохранена славой в памяти.
Ср.:
Не вовсе я умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю...
М. Ломоносов)
Так! - весь я не умру: но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить...
(Г. Державин)
Нет, весь я не умру...
А. Пушкин)
Традиционное бессмертие в памяти потомства отверга-
ется именно потому, что жить останется "часть меня
большая". Этому противопоставляется полное сохранение
всего "ты" в "нас" - людях, знавших "тебя" и как поэта,
и как человека. Второе полустишие с выделенным курсивом
"всем" отказывается отождествить ушедшего дорогого че-
ловека с материальными следами его личности. С цветаев-
ским максимализмом текст провозглашает тождество полно-
го сохранения и полного уничтожения, сохранения - внут-
реннего, уничтожения - внешнего.
Приведенная схема дает лишь общий семантический кос-
тяк, на который - уточняя его или противореча ему -
накладываются более частные конструкции. Но именно эти
многочисленные деривации придают тексту жизнь. Напри-
мер, оппозиция строф I-VI и VII противопоставляет миры,
где "тебя нет" и где "ты есть". Но условная форма пер-
вого стиха седьмой строфы ("И если...") вводит сомнение
в ту конструкцию, которую другие структуры утверждают.
Или другое: хотя "я" и "мы" структурно восходят к одно-
му семантическому инварианту, игра на их переходах соз-
дает добавочные, и совсем не безразличные для общего,
смыслы. В стихе:
Где - ты? где - тот? где - сам? где - весь?.. -
нас интересовала смена значений местоимений. Но мож-
но отметить и другое:
гласные этого стиха образуют последовательность:
е - ы - е - о - е - а - е - е,
где
"е" попарно сочетается с разными гласными фонемами,
раскрывая разные стороны своей артикуляции (в "где -
весь" активизируется отношение "е" к самому себе, что
поддерживает значение целостности в этом сегменте текс-
та). Исчерпание фонологических компонентов параллельно
исчерпанию возможностей при перечислении - общему зна-
чению стиха. Последовательные сочетания "е" с макси-
мальным количеством других гласных фонем устанавливают
близость приведенного выше стиха и
Не подменю тебя песком
е - о - е - у - е - а - е - о.
Вообще, поскольку антитеза "здесь" и "там" занимает в
стихотворении большое место, роль "е" и "а" как двух
противоположных фонологических центров резко возраста-
ет.
Интересные результаты можно было бы получить от под-
робного анализа отношения интонации первой и второй
частей стихотворения. Так, на первые шесть строф прихо-
дится всего лишь два переноса ("песком - И паром"; "за
дым - Кадил"), зато очень большое число восклицаний и
вопросов. На четыре стиха последней строфы - два пере-
носа, ни одной эмфатической интонации, зато здесь сос-
редоточены оба курсива, встречающиеся в тексте стихот-
ворения ("есть", "со всем"). Это, конечно, не случайно
- сталкиваются интонация декламации (внешний мир) и ме-
дитации (внутренний). Вместе с заменой "я" на "мы" это
создает парадоксальную конструкцию - с переходом к
внутреннему миру интонация делается менее личной. Так
возникают переплетения частных конструкций, которые не
просто иллюстрируют основное построение на низших уров-
нях, а живут своей конструктивной жизнью, обеспечивая
тексту непредсказуемость - полноту информационного зна-
чения на всех этапах его движения.
В. В. Маяковский
| СХЕМА СМЕХА Выл ветер и не знал о ком, вселяя в сердце дрожь нам. Путем шли баба с молоком, шла железнодорожным. А ровно в семь, по форме, несясь ко весь карьер с Оки, сверкнув за семафорами, — взлетает курьерский. Была бы баба ранена, зря выло сто свистков ревмя, но шел мужик с бараниной и дал понять ей вовремя. Ушла направо баба, ушел налево поезд. Каб не мужик, тогда бы разрезало по пояс. Уже исчез за звезды дым, мужик и баба скрылись. Мы дань герою воздадим, над буднями воскрылясъ. Хоть из народной гущи, а спас средь бела дня. Да здравствует торгующий бараниной середняк! Да светит солнце в темноте! Горите, звезды, ночью! Да здравствуют и те, и те — и все иные прочие! 1923 |
Маяковский в «Предиполсловии» к сборнику своих сатирических стихотворений «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается» писал об этом стихотворении: «Я знаю много лучше других сатирическую работу. <…>
В этом стихе нет ни одной смешной мысли, никакой смешной идеи.
Идеи нет, но есть правильная сатирическая обработка слова.
Это не стих, годный к употреблению. Это образчик.
Это — схема смеха»1.
Утверждение, что «Схема смеха» — «не стих, годный к употреблению», не может быть принято безусловно. Ведь напечатал же его Маяковский в «Огоньке» (да еще со своими иллюстрациями), конечно, не как конструктивный образец для поэтов, а как стихотворение «для читателей». Однако бесспорно, что Маяковский считал этот текст своего рода образцом построения «сатирической работы». Важно и то, что поэт был убежден в наличии структурных законов, позволяющих строить текст как комический и сатирический. В той же заметке он писал: «Я убежден — в будущих школах сатиру будут преподавать наряду с арифметикой и с не меньшим успехом. <…>
Общая сознательность в деле словесной обработки дала моим сатирам силу пережить минуту»2.
Сказанное заставляет внимательно присмотреться к структурным особенностям «Схемы смеха». Ключ к конструкции текста заключен уже в самом названии:
| с — хем — а | с — мех — а. |
Слово, которое мы привыкли воспринимать в качестве отдельной самостоятельной лексической единицы, оказывается сдвигом, перестановкой, трансформацией другого слова, никогда прежде с ним не связывавшегося. Весь текст оказывается составленным из сдвигов. Каждый из его элементов предстает перед нами в двойном свете. С одной стороны, он включен в некоторую логически последовательную систему, обоснован внутри нее; наличие его с этой точки зрения представляется вполне естественным и предсказуемым. С другой, он же ощущается как часть чужой системы, результат сдвига структурных значений. С этой точки зрения он выглядит как неожиданный, странный, непредсказуемый. А поскольку сближаются здесь элементы значений с предельно удаленными ценностными характеристиками, возникает эффект комизма (трагедия сближает контрасты, находящиеся на одном или близких ценностных уровнях в данной системе культуры).
УРОВЕНЬ ЖАНРА
Маяковский «сатириконовского» периода уже использовал сатирический эффект жанрового сдвига, создавая «гимны» — произведения «высокого» жанра и комического содержания. В данном случае построение более сложное: сам по себе текст отчетливо осознается как принадлежащий к комическому жанру (публикация в «Огоньке» закрепляет за ним еще более узкую характеристику — это «стихотворные подписи» под картинками сатирического содержания). Однако лексический строй ряда строф противоречит осмыслению текста как комического. Следует отметить, что фактура принятого здесь стиха — четырехстопного ямба с чередующимися трехстопными стихами и со строфическим построением катренами — в русской поэтической традиции жанрово нейтральна. Жанр определяется по некоторым добавочным признакам: лексике, фразеологии, сюжету, образной системе и пр.
В данном случае признаки эти друг другу противоречат: несоответствие интонаций и фразеологии разных строф дополняется несоответствием сюжета и стиля, героя и отведенной ему функции спасителя. В этом отношении интересны наблюдения над рисунками Маяковского к этому тексту. Рисунки эти, примыкая к сатириконовской традиции сатирического комикса со стихотворной подписью, одновременно отчетливо связаны и с поэтикой плакатов РОСТА. Отсюда — дидактический пафос текста, заканчивающегося обязательным апофеозом положительного героя. На рисунке дидактика выражается внесением графического образа руки с направленным указательным пальцем, а патетика заключительных стихов — изображением в последнем кадре героя на фоне сияющих лучей солнца. Однако элегический пятый рисунок решительно противоречит живописной поэтике РОСТА, приближаясь к книжной графике. Вся эта система несоответствий порождает переживание текста как комического.
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 347; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
