Комическая странность в 3-х действиях, 5-ти картинах, с прологом и двумя провалами 1 страница
Антон Павлович Чехов
Том 3. Рассказы, юморески 1884-1885
Полное собрание сочинений в тридцати томах – 3
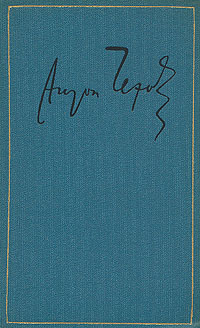
http://feb-web.ru
«Полное собрание сочинений в тридцати томах»: Наука; Москва; 1975
Аннотация
Полное собрание сочинений и писем Антона Павловича Чехова в тридцати томах – первое научное издание литературного наследия великого русского писателя. Оно ставит перед собой задачу дать с исчерпывающей полнотой всё, созданное Чеховым.
В третий том Полного собрания сочинений А.П. Чехова вошли произведения, написанные с мая 1884 по май 1885 г., – рассказы, юморески и повесть «Драма на охоте». В особом разделе собраны подписи к рисункам, относящиеся к 1881–1885 годам.
В данной электронной редакции опущен раздел «Варианты».
http://ruslit.traumlibrary.net
Антон Павлович Чехов
Полное собрание сочинений в тридцати томах
Том 3. Рассказы, юморески 1884-1885

А.П. Чехов. Москва. 1885 г.
Рассказы. Юморески. «Драма на охоте»
Несообразные мысли*
Один учитель древних языков, человек на вид суровый, положительный и желчный, но втайне фантазер и вольнодумец, жаловался мне, что всегда, когда он сидит на ученических extemporalia* или на педагогических советах, его мучают разные несообразные и неразрешимые вопросы. То и дело, жаловался он, залезают в его голову вопросы вроде: «Что было бы, если бы вместо пола был потолок и вместо потолка пол? Что приносят древние языки: пользу или убыток? Каким образом учителя делали бы визиты директору, если бы последний жил на луне?» и т. д. Все эти и подобные вопросы, если они неотвязно сидят в голове, именуются в психиатрии «насильственными представлениями». Болезнь неизлечимая, тяжелая, но для наблюдателя интересная. На днях учитель явился ко мне и сказал, что его стал мучить вопрос: «Что было бы, если бы мужчины одевались по-женски?» Вопрос несообразный, сверхъестественный и даже неприличный, но нельзя сказать, чтобы на него трудно было ответить. Педагог ответил себе на него так: если бы мужчины одевались по-женски, то –
|
|
|
коллежские регистраторы носили бы ситцевые платья и, пожалуй, по высокоторжественным дням – барежевые. Корсеты они носили бы рублевые, чулки полосатые, бумажные; декольте не возбранялось бы только в своей компании…
почтальоны и репортеры, шагая через канавы и лужи, были бы привлекаемы за проступки против общественной нравственности;
московский Юрьев* ходил бы в кринолине и ватном капоте;
классные сторожа Михей и Макар каждое утро ходили бы к «самому» затягивать его в корсет;
чиновники особых поручений и секретари благотворительных обществ одевались бы не по средствам;
|
|
|
поэт Майков носил бы букольки, зеленое платье с красными лентами и чепец;
телеса И. С. Аксакова покоились бы в сарафане и душегрейке;
заправилы Лозово-Севастопольской дороги, по бедности, щеголяли бы в исподнице и т. д.
А вот и разговоры:
– Тюник, ваше – ство, выше всякой критики-с! Турнюр великолепен-с! Декольте несколько велико.
– По форме, братец! Декольте IV класса! А ну-ка, поправь мне внизу оборку! и т. д.
Самообольщение*
(Сказка)
Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку, а именно: сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и проч.
– Я силен! – говорил он. – Хочу – подкову сломаю, хочу – человека с кашей съем… Могу и Карфаген разрушить и гордиевы узлы мечом рассекать. Вот какой я!
Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей; он не знал, что самообольщение и гордость суть пороки, недостойные благородной души. Но случай вразумил его. Однажды зашел он к своему другу, старику брандмейстеру, и, увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив же три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал:
|
|
|
– Глядите, ничтожные! Глядите и разумейте! Солнце, которое вот на небеси с прочими светилами и облаками! Оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь! Я же могу! Могу!
Старик брандмейстер подал ему четвертую рюмку и заметил дружески:
– Верю-с! Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум всё превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с мертвого взятку взять… всё может! Но, Петр Евтропыч, смею вам присовокупить, есть одно, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила.
– Что же это такое? – презрительно усмехнулся самообольщенный.
– Вы можете всё пересилить, но не можете пересилить самого себя. Да-с! «Гноти се авто̀н*», – говорили древние… Познай самого себя*…А вы себя ни познать, ни пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Да-с!
– Нет, пойду! И себя пересилю!
– Ой, не пересилите! Верьте старику, не пересилите!
Поднялся спор. Кончилось тем, что старик брандмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал:
– Сейчас я вам докажу-с… У этого вот лавочника в этой шкатулке лежит десятирублевка. Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег…
|
|
|
– И не возьму! Пересилю!
Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман.
– Да! – сказал он. – Теперь понимаю!
И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой.
Дачница*
Леля NN, хорошенькая двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Всё далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой… Кругом тишина… Леля думает… Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что, право, неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем.
Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама m-lle Morceau, забитое, больное и ужасно недалекое созданье с вечно испуганным лицом и большим, вспотевшим носом, водила выпускных в фотографию сниматься.
– Ах, умоляю вас, – просила она конторщицу в фотографии, – не показывайте им карточек мужчин!
Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого «демона» она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой, страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Morceau, но, пропитанные насквозь «идеалами», они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев-вольноопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники… Гляди на эту кишащую толпу и выбирай! В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых впередогонку трактуют все романы и даже все учебники по истории – древней, средней и новой…
В этом мае Леля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на всё это, он (совестно сознаться перед поэтическим маем!) груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев*.
Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во всё тщательно вычищенное и выглаженное, целует женину руку и в собственном экипаже едет на службу в «Страховое общество». Что он делает в этом «обществе», Леля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты, или, быть может, даже вращает судьбами «общества» – неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит всё больше о высоких материях. Решает женский и финансовый вопросы, бранит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам… «Молодежь ужжасно измельчала!» За один обед успеет сотню вопросов решить. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом.
– Нет у нас теперь хороших писателей! – вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает – ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже, а прочитав однажды, по совету Лели, Щедрина, нашел, что Щедрин «туманно» пишет.
– Пушкин, ma chère[1], лучше… У Пушкина есть очень смешные вещи! Я читал… помню…
После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась… О чем он думает, неведомо Леле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несет всё ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и, в случае ошибки партнера, ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп.
– Извозчик! Извозчик! – услышала от него Леля на вторую ночь после свадьбы.
Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, животе…
Больше ничего не может сказать о нем Леля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех; но ей не легче от этого. Священный ужас m-lle Morceau обещал ей больше.
С женой поссорился*
(Случай)
– Чёрт вас возьми! Придешь со службы домой голодный, как собака, а они чёрт знает чем кормят! Да и заметить еще нельзя! Заметишь, так сейчас рев, слезы! Будь я трижды анафема за то, что женился!
Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и с остервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился.
Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку.
«Чёрт тебя дернул жениться! – подумал он. – Хороша „семейная“ жизнь, нечего сказать! Не успел жениться, как уж стреляться хочется!»
Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги…
«Да, это в порядке вещей… Оскорбила, надругалась, а теперь около двери ходит, мириться хочет… Ну, чёрта с два! Скорей повешусь, чем помирюсь!»
Дверь отворилась с тихим скрипом и не затворилась. Кто-то вошел и тихими, робкими шагами направился к дивану.
«Ладно! Проси прощения, умоляй, рыдай… Кукиш с маслом получишь! чёрта пухлого! Ни одного слова не добьешься, хоть умри… Сплю вот и говорить не желаю!»
Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой.
«Да… Теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся… Скоро начнем в плечико целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей!.. Все-таки… нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу…»
Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий… Муж почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки.
«Ну, бог с ней! Прощу в последний раз. Будет ее мучить, бедняжку! Тем более, что я сам виноват! Из-за ерунды бунт поднял…» – Ну, будет, моя крошка!
Муж протянул назад руку и обнял теплое тело.
– Тьфу!!.
Около него лежала его большая собака Дианка.
Русский уголь*
(Правдивая история)
В одно прекрасное апрельское утро русский le comte[2] Тулупов ехал на немецком пароходе вниз по Рейну и от нечего делать беседовал с «колбасником». Его собеседник, молодой сухопарый немец, весь состоящий из надменно-ученой физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался горным мастером Артуром Имбс и упорно не сворачивал с начатого и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле.
– Судьба нашего угля весьма плачевна, – сказал, между прочим, граф, испустив вздох ученого знатока. – Вы не можете себе представить: Петербург и Москва живут английским углем, Россия жжет в печах свои роскошные, девственные леса, а между тем недра нашего юга содержат неисчерпаемые богатства!
Имбс печально покачал головой, досадливо крякнул и потребовал карту России.
Когда лакей принес карту, граф провел ногтем мизинца по берегу Азовского моря, поцарапал тем же ногтем возле Харькова и проговорил:
– Вот здесь… вообще… Понимаете? Весь юг!!.
Имбсу хотелось точнее узнать те именно места, где залегает наш уголь, но граф не сказал ничего определенного; он беспорядочно тыкал своим ногтем по всей России и раз даже, желая показать богатую углем Донскую область, ткнул на Ставропольскую губернию. Русский граф, по-видимому, плохо знал географию своей родины. Он ужасно удивился и даже изобразил на своем лице недоверие, когда Имбс сказал ему, что в России есть Карпатские горы.
– У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение, – сказал граф. – Восемь тысяч десятин земли. Прекрасное имение! Угля в нем, представьте себе… eine zahllose… eine oceanische Menge![3] Миллионы в земле зарыты… пропадают даром… Давно уже мечтаю заняться этим вопросом… Подыскиваю случая… подходящего человека. У нас в России нет ведь специалистов! Полное безлюдье!
Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго… Кончилось тем, что граф вскочил вдруг, как ужаленный, хлопнул себя по лбу и сказал:
– Знаете что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко мне в имение? А? Что вам здесь делать, в Германии? Здесь ученых немцев и без вас много, а у меня вы дело сделаете! И какое дело!.. Хотите? Соглашайтесь скорей!
Имбс нахмурился, походил по каюте из угла в угол и, рассудив и взвесив, дал согласие.
Граф пожал ему руку и крикнул шампанского…
– Ну, теперь я покоен, – сказал он. – У меня будет уголь…
Через неделю Имбс, нагруженный книгами, чертежами и надеждами, ехал уже в Россию, нецеломудренно мечтая о русских рублях. В Москве граф дал ему двести рублей, адрес имения и приказал ехать на юг.
– Езжайте себе и начинайте там… Я, может быть, осенью приеду. Пишите, как и что…
Прибыв в имение Тулупова, Имбс поселился во флигеле и на другой же день после приезда занялся «снабжением России углем». Через три недели он послал графу первое письмо. «Я уже ознакомился с углем вашей земли, – писал он после длинного робкого вступления, – и нашел, что, благодаря своему низкому качеству, он не сто́ит того, чтобы его выкапывали из земли. Если бы он был втрое лучше, то и тогда бы не следовало трогать его. Помимо качества угля, меня поражает также полное отсутствие спроса. У вашего соседа, углепромышленника Алпатова, заготовлено пятнадцать миллионов пудов, а между тем нет никого, кто бы дал ему хотя бы по копейке за пуд. Донецкая Каменноугольная дорога, идущая через ваше имение, построена специально для перевозки каменного угля*, но, как оказывается, ей за всё время своего существования не удалось провезти еще ни одного пуда. Нужно быть нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех. Осмелюсь также добавить, что ваше хозяйство до того расстроено и распущено, что добывание угля и вообще какие бы то ни было нововведения являются роскошью». В конце концов немец просил графа порекомендовать его другим русским «Fürsten oder Grafen»[4] или же выслать ему «ein wenig»[5] на обратный путь в Германию. В ожидании милостивого ответа Имбс занялся уженьем карасей и ловлей перепелов на дудочку.
Ответ на это письмо получил не Имбс, а управляющий, поляк Дзержинский. «А немцу скажите, что он ни черта не понимает, – писал граф в постскриптуме. – Я показывал его письмо одному горному инженеру (тайному советнику Млееву), и оно возбудило смех. Впрочем, я его не держу. Пусть себе уезжает. Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему 200 руб. Если он потратил на дорогу 50, то и тогда останется у него 150 руб.» Узнав о таком ответе, Имбс ужасно испугался. Он сел и покрыл своим немецким, расплывающимся почерком два листа почтовой бумаги. Он умолял графа простить его великодушно за то, что он скрыл от него в первом письме многое «очень важное». Со слезами на глазах и угрызаемый совестью он писал, что оставшиеся после дороги из Москвы 172 рубля он имел неосторожность проиграть в карты Дзержинскому. «Впоследствии я выиграл с него 250 р., но он не отдает мне их, хотя и получил с меня весь мой проигрыш, а потому осмеливаюсь прибегать к вашему всемогуществу, заставьте уважаемого господина Дзержинского уплатить мне хоть половину, чтобы я мог оставить Россию и не есть даром вашего хлеба». Много воды утекло в море и много карасей и перепелов поймал Имбс, пока получил ответ на это второе письмо. Однажды, в конце июля, в его комнату вошел поляк и, севши на кровать, принялся припоминать вслух все ругательства, имеющиеся на немецком языке.
– Удивительный осел этот граф! – сказал он, хлопая фуражкой о край стола. – Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не дает никаких распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? Водку вами закусывать, что ли? И на чертей ему дался этот уголь! Уголь ему нужен так же, как мне ваша физиономия, чёрт его возьми! И вы тоже хороши, нечего сказать! Глупый, объевшийся баловень наболтал вам от нечего делать, а вы ему поверили!
– Граф уезжает в Италию? – удивился Имбс, бледнея. – А денег мне прислал? Нет?! Как же я уеду отсюда? Ведь у меня ни копейки!.. Послушайте меня, уважаемый господин Дзержинский… Если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книг и чертежей? В России вы сбудете их за очень большую сумму!
– В России не нужны ваши книги и чертежи.
Имбс сел и задумался. Пока поляк наполнял воздух своею желчью, немец решал свой шкурный вопрос и чувствовал всеми своими немецкими чувствами, как у него портилась в эти минуты кровь. Он похудел, обрюзг, и выражение надменной учености на лице уступило место выражению боли, безнадежности… Сознание безвыходного плена, вдали от рейнских волн и компании горных мастеров, заставило его плакать… Вечером он сидел у окна и глядел на луну… Кругом была тишина. Где-то вдали пиликала гармонийка и ныла жалобная русская песенка. Эти звуки защемили Имбса за сердце… Его охватила такая тоска по родине, по праву и справедливости, что он отдал бы всю жизнь за то только, чтобы очутиться в эту ночь дома…
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 151; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
