Обзор источников и литературы
Елена Борисовна Грузнова
На распутье Средневековья
Языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.).
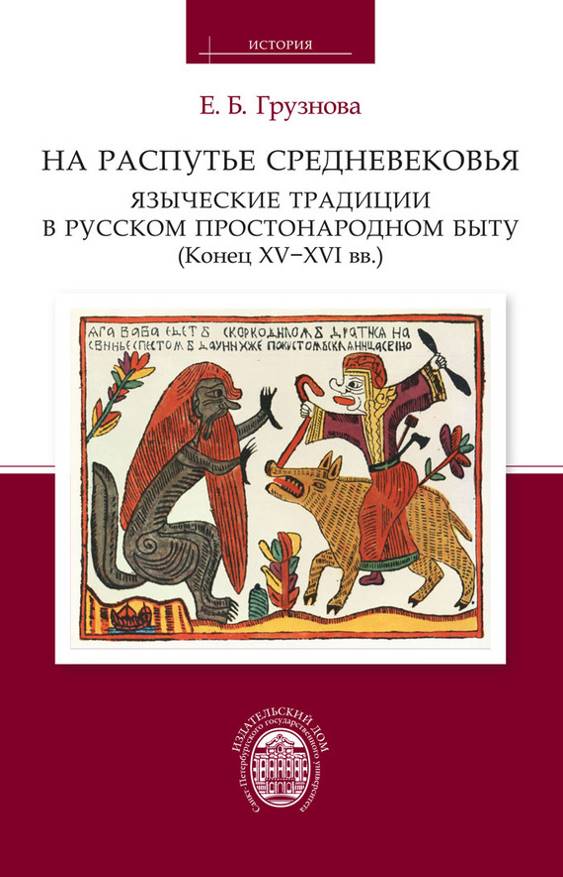
Санкт Петербург: СПбГУ, 2012. ISBN 978‑5‑288‑05324‑5
Аннотация
Книга посвящена малоизученному периоду в истории язычества на территории Восточной Европы. Рассматривается место языческих традиций в жизни низших слоев русского общества в конце XV–XVI вв., тенденции их развития в условиях становления идеологии православной монархии и роль в дальнейшем формировании народного мировоззрения и быта.
Особое внимание уделено исследованию объектов поклонения простонародья и выявлению жизненных ситуаций и социальных групп, которые способствовали сохранению и развитию обычаев, отвергавшихся официальной культурой.
Издание рассчитано на историков, этнографов, культурологов, религиоведов, может быть использовано в учебном процессе в качестве пособия для изучения истории русской народной культуры.
Елена Борисовна ГРУЗНОВА
На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.)
Рецензент: д‑р ист. наук, профессор Ю. В. Кривошеев (С.‑Петерб. гос. ун‑т)

САНКТ‑ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Введение
Традиции любого народа формируются на протяжении многих столетий. На их возникновение и развитие влияет целый ряд самых разнородных факторов: генетические особенности этноса, природно‑климатические условия его обитания, сложившаяся система социальных связей, взаимодействие с другими народами и культурами и т. д. Не является в этом плане исключением и русская культура. В наследии, доставшемся нам от наших далеких предков, немалое место принадлежит феномену, получившему название язычества.
|
|
|
Термин «язычество» был разработан христианскими теологами еще в начале новой эры для обозначения выпадающих из библейской традиции религий и верований.[1] Его возникновение восходит к ветхозаветному преданию о Вавилонской башне, строители которой жили в едином культурном пространстве, но были наказаны за свое стремление возвыситься над Богом и потеряли способность понимать друг друга. С тех пор единое человечество распалось на отдельные народы, каждый из которых стал обладателем собственного, отличного от других, языка и связанной с ним культуры. Христианство объявило своей целью преодоление этих различий путем приобщения всех людей, независимо от их происхождения, к общим религиозным ценностям. В этой ситуации прежние традиции зачастую становились тем тормозящим фактором, для преодоления которого требовались время, терпение, настойчивость, а зачастую и сила.
|
|
|
На Руси явное противоборство христианского и языческого начала развернулось с X в., после осуществления официального акта крещения. Однако долгое время эта борьба занимала умы в основном духовенства и господствующего класса, затрагивая интересы простых общинников лишь в наиболее кризисные моменты социальной жизни. Сам процесс христианизации в Восточной Европе протекал очень неравномерно и нередко принимал вид демонстративной замены старых святынь и обрядов на новые. При этом прежние идеалы не исчезали, но либо трансформировались в образы, максимально приемлемые для христианского учения, либо сохраняли свое место в новой системе ценностей как официально признанные примеры зла. По замечанию одного из исследователей русской демонологии Ф. А. Рязановского, «на Руси повторился процесс, имевший место в первохристианстве, а все, что имело отношение к язычеству, стало „бесовским“ и „сатанинским“».[2]
Таким образом, на Руси христианство «на всем протяжении древнерусской истории не произвело коренного перелома в сознании общества».[3] Это сознание оставалось языческим по самой своей сути. Все новое рассматривалось им через призму привычных представлений и так или иначе включалось в существовавшую картину мира. Влияние друг на друга двух противоборствующих культур было взаимным. Не случайно в начале XV в. кардинал Д’Эли писал: «Русские в такой степени сблизили свое христианство с язычеством, что трудно было сказать, что преобладало в образовавшейся смеси: христианство ли, принявшее в себя языческие начала, или язычество, поглотившее христианское вероучение».[4]
|
|
|
Исследователи не раз обращались к изучению особенностей русского язычества. Этой проблеме посвящены работы таких авторов, как Е. В. Аничков, Н. Я. Гальковский, Б. А. Рыбаков и др. Но ученых интересовал, как правило, древнейший, самостоятельный период существования рассматриваемого явления, поэтому они не выходили за пределы XIII в., полагая, что в последующий период язычество могло сохраняться лишь в виде суеверий и потерявших свой изначальный смысл пережитков.[5] Так, один из составителей «Очерков русской культуры XVI в.» А. К. Леонтьев считал, что «в XVI в. язычество сохранялось лишь во вновь присоединенных землях Севера и Поволжья, населенных нерусскими народами», у русских же оставалась вера в некоторых представителей языческого пантеона, которых церковь причислила к бесам, чем фактически их признала.[6]
|
|
|
Однако необходимо отметить, что в понятии «язычество» отразилось не только и не столько поклонение идолам, сколько обожествление сил и явлений природы и вера в возможность воздействовать на них магическими средствами. И если истуканов можно было просто уничтожить, то гораздо сложнее обстояло дело со сложившейся системой представлений, продолжавшей требовать воспроизведения привычных стереотипов поведения. Это происходило потому, что «мироощущение, видение мира человека аграрного по своей природе общества изменялось несравненно медленнее, нежели культура людей образованных».[7] «„Старина“, „обычаи предков“ – вот ключевые понятия, открывающие тайны духовной жизни и поведения крестьянства, идет ли речь об общинных распорядках, технических усовершенствованиях или религиозных верованиях».[8]
Подчеркнем, что на Руси этот тезис А. Я. Гуревича был актуален не только по отношению к крестьянству, но и для большинства городского населения, нередко также занимавшегося земледельческим трудом. Не случайно, по признанию специалистов, в низшие слои русского общества православие стало проникать только с конца XIII столетия на посаде и в XV–XVI и даже XVII вв. – на селе, а до той поры в массах практически безраздельно царило прежнее мировоззрение,[9] находившее воплощение в магической практике. Тем не менее по мере распространения христианства ситуация постепенно менялась. Трансформации, происходившие в социально‑политической системе страны в конце XV–XVI вв., усугубили кризис системы ценностей архаического общества. Несовместимость этой системы с христианскими идеалами постоянно увеличивавшегося православного населения Руси, ее несоответствие потребностям зарождавшейся в недрах Средневековья культуры Нового времени, наконец, ее неготовность идеологически поддержать слияние отдельных русских земель в единый государственный механизм неизбежно должны были привести к сдвигам в решающей для любого традиционного общества сфере религиозной жизни.
Наблюдаемый во многих памятниках русской церковной литературы XV в. рост числа статей против языческих обычаев и верований, с одной стороны, и увеличение обличительных выпадов против духовенства – с другой, заставили большинство исследователей говорить о наличии в эту эпоху языческого ренессанса. Подобные представления вызвали справедливое удивление А. И. Алексеева.[10]Безусловно, ни о каком возрождении язычества говорить не приходится, ибо возродить можно лишь то, что уже исчезло, либо находится на грани вымирания. Языческие же традиции на Руси XV–XVI вв. были еще достаточно крепки. Не идет речь и о расцвете языческой культуры – в обществе, где церковь на протяжении нескольких столетий официально провозглашалась государственным институтом, это было бы по меньшей мере странно. Напротив, все свидетельствует о том, что новое дыхание обретало именно христианство, получившее соответствующие условия для нормального развития только после объединения государства и усиления центральной власти. Именно теперь церковь получила возможность составить полную картину положения религии в стране. Нарисовав же себе эту картину, духовенство смогло устранить некоторые нарушения в церковной жизни и наметить пути дальнейшего распространения и развития православия. Именно этим занимался ряд церковных соборов рассматриваемого периода, среди которых особо выделяется Стоглавый, разработавший программу деятельности церкви и государства в религиозно‑нравственной сфере. Реванш язычества в подобной ситуации – не более чем видимость, объясняемая тем, что «связь с прошлым объективно наиболее резко ощущалась тогда, когда субъективно господствовала ориентация на полный с ним разрыв».[11]
В то же время, несмотря на все меры, предпринимавшиеся церковными и светскими властями, традиционное магическое отношение к миру оставалось существенным фактором народной культуры и в эпоху образования общерусского государства, и столетия спустя. Более того, некоторые ученые полагают, что на протяжении всего II тысячелетия продолжался процесс языческого творчества, вовлекавший в сферу древних традиций и элементы христианской культуры.[12]
Существенно, что, строя свою жизнь на отвергаемых церковью принципах, люди могли считать себя вполне добропорядочными христианами, а проявления язычества, как справедливо заметил Е. С. Силаков, далеко не всегда носили осознанный характер.[13]В середине XIX в. приходские священники с горечью отмечали, что даже если население после разъяснений батюшки и по его настоянию отказывалось оставить какое‑либо суеверие, то вскоре вновь к нему возвращалось.[14] Происходило это вовсе не потому, что миряне не видели в своих обычаях противоречий христианству, как полагает Т. А. Листова и другие авторы. Вопрос о характере веры для простого народа представлял собой ученую схоластику, в которую крестьяне вникать не желали. Единственным критерием правильности тех или иных действий был для них практический опыт повседневного бытия. И если после отказа от «суеверий» начинались какие‑либо проблемы, возврат к отвергнутым обычаям становился неизбежным.
Аналогичная ситуация была нормальной и для XV–XVI вв., когда православная церковь лишь начинала борьбу за умы верующих, пытаясь показать пастве разницу между двумя мировоззренческими системами, а не только между обрядовой практикой христиан и язычников.
В настоящем исследовании, представляющем собой существенно расширенный и частично переработанный вариант кандидатской диссертации автора, прослеживаются как следы этой борьбы, так и место собственно языческих традиций в жизни низших слоев русского общества конца XV–XVI вв., тенденции их развития и роль в дальнейшем формировании народного мировоззрения и быта.
Глава 1
Обзор источников и литературы
Приступая к обзору привлекаемых к исследованию источников и литературы, автор должен особо остановиться на общетеоретических трудах по языческой и средневековой культуре (ибо язычество является одним из существенных компонентов последней). Дело в том, что рассматриваемые нами памятники не употребляют слово «языческий». Единственный раз сравнение с язычниками, заимствованное из Священного Писания, делается в 50‑й главе Стоглава, посвященной монахам, отказывающимся искупить грех и повиноваться церкви – таковые «буди якоже язычник и мытарь».[15] В контексте же поднятой нами темы звучат совсем другие термины.
Отечественный специалист в области древнерусского языкознания О. А. Черепанова обратила внимание на понятийно‑тематическую группу «общих наименований язычества, ересей и вообще всех тех религиозно‑нравственных явлений, которые шли вразрез с христианско‑церковной догмой (идолопоклонение, идолослужение, бесование, еллинская прелесть ), а также связанных с этим обрядов, обычаев, действ».[16] В отношении последних в источниках используются такие выражения, как еллинское бесование, бесовское служение, богомерзские прельщения, неподобные дела, поганский обычай, дьявольское действо и др. Сосредоточившись на одном из них, О. А. Черепанова утверждает, что «зарождение традиции употребления слова эллин в значении язычник восходит к раннехристианской литературе», вместе с которой оно пришло на восточнославянские земли. «Борьба с язычеством на Руси, затем с еретическими движениями, тенденция к приспособлению традиционной лексики к новейшим потребностям способствовали втягиванию элементов лексико‑словообразовательного гнезда на базе ‘эллин’ в семантическое поле ‘язычество, нехристианское мировоззрение’ и к XV–XVI вв. в него входил целый ряд слов».[17]
Замечания исследовательницы достойны внимания, но они не учитывают подчеркнутого И. И. Срезневским двоякого толкования переводчиками понятия «эллинский» – как языческий либо как греческий, и не объясняют, почему отмеченные словоформы оказались для русских книжников предпочтительнее вариантов на основе «язычник». Кроме того, остаются в стороне остальные члены обозначенной языковой группы, используемые в памятниках как синонимы слова «эллинский». В своем месте мы еще вернемся к этому вопросу. Здесь же предварительно отметим, что если не все, то подавляющая часть русского населения Московии конца XV–XVI вв. была христианской. Поэтому к нему вполне применимо сделанное А. Я. Гуревичем на примере западноевропейских материалов наблюдение о том, что «то „язычество“, в котором приходские патеры обвиняли паству, было весьма условным. Если это и „язычество“, то язычество христиан»,[18] называть которых язычниками было не слишком корректно. Ведь, по мнению Г. Г. Прошина, в их сознании «языческие представления сливались с христианскими»,[19] а значит, противопоставлять одни другим было бы упрощением.
На Руси термин «язычество» с давних пор используется для описания тех явлений духовной жизни традиционного общества, которые отражают соотнесенность культурных процессов и явлений с природными циклами. На это обратил внимание А. Е. Мусин, отметивший, что уже с конца XII в. в русской проповеди складывается собственное представление о язычестве, связанное с местными особенностями религиозности. Отечественные богословы видят «в язычестве не столько веру в иных богов, сколько поклонение твари вместо творца».[20] Следует отметить, что под тварью, по крайней мере в XVI столетии, представители церкви подразумевали именно творение Божие, а не то, что произведено руками человека. Подтверждает это фрагмент письма Новгородского и Псковского архиепископа Макария, в будущем – одного из инициаторов Стоглавого собора, Ивану Грозному 1534 г. о сохранении «прелести кумирской» «в чюди, и в ижере, и в кореле, и во многих русских местех. Суть же скверные мольбища их, лес и камение и реки и блата, источники и горы и холми, солнце и месяц и звезды и езера и проста рещи всей твари поклоняхуся яко богу».[21]
Указанная подмена понятий «тварь» и «творец» происходила из‑за общего ослабления язычества, его подчинения новым религиозным представлениям при использовании его десемантизированных символов в материальной культуре.[22] При этом отсутствовали достаточно четкие представления о границе между языческой и христианской культурами. Постижение нашими предками сути привнесенного христианства, выявление его неадекватности вере предков было длительным процессом, породившим своего рода языческий ренессанс, повсеместно наблюдаемый исследователями в средневековой Европе с XII в. Относительность этого явления уже отмечалась нами выше. Вместе с тем религиовед Е. Н. Ивахненко справедливо пишет, что в русском, как и в любом Средневековье, вера представляла собой тот «каркас жизни, на котором удерживался и систематизировался весь идейный мир. Проявление языческих энергий в потоке русского религиозного сознания XI–XVI вв. было куда более активным, чем в последующие времена. Закономерное „дозревание“ язычества было перенесено внутрь души…».[23] В результате, по наблюдениям Б. А. Рыбакова, «эволюция религиозных представлений происходила не путем полной их смены, а путем наслаивания нового на сохраняющееся старое».[24] Поэтому, по мнению В. Л. Афанасьевского, «на Руси не произошло четкого разрыва с язычеством, христианизация не осознавалась как перерыв традиции», но как ее развитие».[25]
Переплетение реалий христианского и языческого начала оказалось столь сильным, что Б. А. Рыбаков, один из наиболее крупных отечественных исследователей русского язычества, пришел к странному выводу, будто между христианством и славянским язычеством не было «существенных, принципиальных отличий» в сфере убеждений, изменились только форма обрядности и имена божеств.[26] На самом же деле автор сравнивает христианство не столько с древней верой русского народа, сколько с новым религиозным институтом, образовавшимся из смеси христианства и язычества и развивавшимся по своим собственным законам. Его появление связывают с особенностями возникновения и утверждения русской церкви в среде с довольно развитыми дохристианскими традициями, сохранявшимися благодаря относительной стабильности социальных отношений. Делается также предположение, что, «испытывая воздействие неискоренимых „традиционных факторов“, русская церковь оказалась подвержена необратимой этноконфессиональной эволюции, а греко‑византийская ортодоксия образовала лишь верхний, концептуальный уровень вероисповедания. В глубине же массового сознания сложился этнически окрашенный христианско‑языческий синкретизм».[27]
Синкретизм – от греческого «соединение» – рассматривается современными исследователями в аспекте взаимопроникновения самородных и привнесенных элементов (образов, символов, смыслов) в рамках традиционной культуры. Относительно причин существования данного явления высказывается мнение, что «синкретизм скорее следует объяснять не столько веротерпимостью или склонностью к соединению, сколько способностью вписаться в структуру мировоззрения, занять в ней свою нишу», поэтому пережитки проявляют очевидную стойкость даже при кризисах, в отличие от нестабильности вновь приобретаемой ими формы. Для религиозного синкретизма характерно наличие эклектизма, универсальности, эсхатологичности и проповеди спасения. Вместе с тем синкретизм предполагает не только соединение, но и «параллельное существование, симбиоз несоединимых по своей природе представлений».[28]
Наличие синкретичности мышления в наибольшей степени характерно для переходных эпох, в число которых входит и Средневековье. Это прекрасно показал А. Я. Гуревич на примере западноевропейских данных. «…„Беспримесной“ народной культуры в Средние века уже не существовало. В сознании любого человека эпохи, даже самого необразованного и темного, жителя „медвежьего угла“, так или иначе, имелись какие‑то элементы христианского, церковного мировоззрения, сколь ни были они фрагментарны, примитивны и искажены. С другой стороны, в сознании даже наиболее образованных людей, опирающемся на Священное писание и прошедшем выучку у патристики, библейской экзегетики и аристотелизма, не мог не таиться, пусть в угнетенном, латентном виде, пласт народных верований и мифологических образов. Соотношение всех этих компонентов у образованной элиты и необразованной массы, разумеется, было различным, но многослойности и противоречивость сознания – достояние любого человека той эпохи, от схоласта, церковного прелата и профессора университета до простолюдина. Потому‑то мы и можем найти это смешение, симбиоз в неразрывном единстве на всех уровнях средневековой духовной жизни».[29]Так, например, «в исландских источниках упоминаются люди „смешанной веры“: они посещали церковь и поклонялись Христу, но в решающие моменты жизни, когда нужда в содействии сверхъестественных сил ощущалась особенно сильно, обращались к Тору и магическим средствам».[30] По мнению исследователя, это происходило из‑за того, что «магическое отношение к миру было в период Раннего Средневековья не простым „пережитком“ язычества, а важной чертой мировоззрения и практики сельского населения».[31]
Не беремся судить о положении дел в Западной Европе, но для России данное утверждение справедливо не только в отношении всего Средневековья, но и для гораздо более позднего времени, включая начало XX в., реальностью которого, по словам В. П. Даркевича, были «разные уровни религиозного сознания в пределах единой культуры‑веры».[32]
Следует подчеркнуть, что явление синкретизма обнаруживается уже в тех древних обществах, в которых язычество достигает достаточно высокого уровня развития. Во всяком случае Русь имела с ним дело, по крайней мере, с конца X в. Это подтверждается рядом реформ Владимира Святого, направленных, согласно Повести временных лет, сперва на создание единого языческого пантеона подвластных великому князю племен, а затем на поиск веры, максимально согласующейся с обычаями предков.[33] Последние служили отправной точкой для определения отношения к той или иной религиозной системе: «руси есть веселие пити», «отьцы наши сего не приняли суть».[34]
Вероятно, именно поэтому одна из представительниц отечественной этнографии Т. А. Бернштам под язычеством понимает «слой воззрений внехристианского происхождения или архаические формы синкретизма».[35] Ведь главное предназначение последнего – достижение единства в многообразии.[36] Ученые пока не пришли к единому мнению относительно наименования этого многоуровневого единства, поэтому в научной литературе мы можем столкнуться с такими его названиями, как «двоеверие», «троеверие», «синкретизм», подчеркивающими комплексность явления, а также «народное православие», «бытовое православие», «космическое христианство», «народная версия христианства», указывающими на решающее значение христианского компонента смеси.[37]
А. Е. Мусин сделал подробный методологический анализ употребления в исследованиях наиболее старого и наиболее дискуссионного из предложенных терминов – «двоеверие». Источником его происхождения признают Слово святого Григория XII в., автор которого обличал современников из Византии и Малой Азии в том, что они «двоеверно живяху». А. Е. Мусин выявил две концепции трактовки названного понятия. Одна из них, выдвинутая в трудах В. С. Соловьева, Б. А. Рыбакова, 3. В. Ильиной, отчасти Е. В. Аничкова, понимает под двоеверием существование в рамках христианства на полуавтономных правах побежденного и приспособившегося к новой ситуации язычества.[38] Французский этнограф П. Паскаль даже изобрел особый термин – «космическое христианство», отражающий, с его точки зрения, универсальность и самодостаточность соединения христианства с народной верой, сохранившей элементы язычества[39]. Другая трактовка ведет речь о христианском по своей сути синкретизме, особого рода творчестве, приведшем к обрусению христианства. Последний взгляд А. Е. Мусин обнаруживает в трудах Н. М. Гальковского, Б. Д. Грекова, Г. К. Вагнера, Д. С. Лихачева, Я. Н. Щапова, в поздних работах Е. В. Аничкова. Таким образом, обе позиции сходятся в понимании этого явления как синтеза двух разнородных начал, одно из которых трансформировало и подчинило себе другое.[40] Правда, «в разное время и в разной социальной среде содержание двоеверных новообразований могло иметь существенные отличия» и «в зависимости от конкретных условий преобладала либо языческая, либо христианская основа».[41]
Необходимо также отметить, что ряд авторов вовсе отказывает концепту «двоеверие» в праве на существование, полагая, что он создает ощущение раздвоенности сознания, которое в принципе невозможно – человек должен был осознавать себя либо христианином, либо язычником.[42] Идея раздвоенности сознания, влекущей за собой раздвоенность культовой практики, действительно нашла приверженцев среди ученых.[43] Сторонники данной точки зрения считают, что исследователь должен исходить из самоопределения средневековых людей, хотя и понимают, что сделать это крайне трудно, поскольку особенности употребления в русских источниках с XIV в. термина «крестьяне» не позволяют однозначно утверждать его социальное или конфессиональное содержание.[44]
На наш взгляд, даже конфессиональная подоплека термина никак не характеризует веру тех, кто им назывался, – они христиане, потому что крещены, и не более того. Не случайно «Слово некоего христолюбца» по списку XIV в. однозначно определяло двоеверно живущими тех «крестьян», которые «верующе в Перуна, и Хорса, и в Мокошь, и в Сима, и в Рьгла, и в волы, их же числом 30 сестрениць…», а в «Слове о том, как первые поганые веровали в идолы», сохранившемся в списках XIV–XV вв., утверждалось, что «и ныне мнози тако творять и в крестьяньстве суще, а не ведают, что есть крестьяньство».[45]
Другая причина, по которой термин «двоеверие» считают непригодным для науки, связана с тем, что он применялся не только в отношении людей, продолжавших соблюдать языческие обряды, но и для обозначения православных, которые лояльно относились к католичеству.[46] Однако философы говорят об универсальности феномена двоеверия в мировой культуре, отмечая его появление в случаях соприкосновения двух религиозно‑культурных систем, например язычества и ислама, христианства и ислама, ислама и индуизма и т. д.[47]
В последние десятилетия некоторые ученые высказывают мнение, согласно которому русская духовная культура вплоть до XVIII в. строилась на основе не двух, а трех компонентов – славянского язычества, христианства и импортированного вместе с ним ахристианства «преимущественно византийского образца». При этом «троеверие» «в синхронном плане в народной среде воспринималось как единоверие».[48]
Схожие взгляды встречаются и у зарубежных авторов, правда, выделяющих другие составляющие триединство элементы. Так, например, Ф. Конт полагает, что «можно даже говорить о некоем „мирном“ сосуществовании между представлениями языческого и христианского мира в России, фактически речь идет не о синкретизме, а скорее о сосуществовании различных [религиозных] пластов», поскольку народное православие нельзя целиком сводить ни к одному из его источников – ни к язычеству, ни к христианству, – это самостоятельное явление.[49]
То, что ученые обнаруживают влияние на русское религиозное сознание не только древнеславянского, но и византийского язычества, является весьма существенным моментом. Более того, многие исследователи полагают, что складывание характерного для средневековой Руси религиозного синкретизма началось еще на византийской почве, в ходе освоения той части языческого культурного наследия, которая соответствовала истинам христианства. Поэтому Русь, где полным ходом шел распад старого и сложение нового общественного устройства, заимствовала чужую структуру в готовом виде и дополняла ее в соответствии с местной традицией. По этой причине сторонники данной точки зрения считают неправомерным придание общекультурным элементам в христианстве конфессиональной языческой окраски вместо религиозно‑психологической.[50]При этом игнорируется тот факт, что язычество – не только религия, но способ существования, древнейшая форма человеческой культуры, к которой, собственно, и восходят выделяемые автором «общекультурные элементы». К тому же С. А. Иванов, исследуя особенности культа пророка Ильи в официальном византийском и народном русском православии, пришел к выводу, что нет никаких оснований говорить о ранних регулярных связях Руси и Византии на низовом уровне и о влиянии греческого «двоеверия» на русское.[51]
Хотя наибольшей критике подвергается термин «двоеверие», определенные сложности есть и с понятиями типа «народное православие». Их сторонники делают акцент на христианской основе народной религиозности, полагая, что сохранялись лишь те древние обычаи, которые не противоречили учению церкви, подвергаясь переосмыслению в новом ключе.[52] Однако далеко не все явления, которые подпадают под понятие синкретизма, могут быть охарактеризованы как народное православие. В частности, не могут быть признаны православными обряды, в которых христианские элементы использовались для исполнения языческих по сути ритуалов, особенно если сама церковь определяла их как «поганские» или «эллинские».
Суммируя эту разноголосицу мнений, можно сказать, что под язычеством в применении к русскому Средневековью подразумевается некая застывшая на уровне X в. форма, относительно же более позднего периода предпочитают говорить о синкретической культуре, состоявшей из ряда компонентов, роль которых со временем менялась. К рассматриваемому нами периоду ведущей скрипкой в рамках этой культуры становится православие, стремившееся восстановить чистоту веры и облагородить сумбурные представления паствы – паствы, которая все еще тесно была связана с прежним мировоззрением и, скорее, включала христианские святыни и образы в языческий контекст, видоизменяя старые обычаи на новый лад, нежели пыталась постичь суть проповедуемых священниками ценностей, поскольку традиции всегда «сопротивляются внешним влияниям».[53]
Не случайно существует точка зрения, согласно которой языческое мировосприятие сохранялось и, по мнению некоторых авторов, даже преобладало в России не только на протяжении всего Средневековья, но и много позже.[54] Однако, как отмечают А. А. Панченко и А. А. Буглак, попытки представителей структурно‑семиотической школы выявить язычество, отбросив все привнесенные христианством элементы, оказались безуспешными, а реконструкции мифологической картины мира – условными.[55] А это означает, что изучать язычество народа, живущего в православном государстве, можно, лишь учитывая феномен синтетической народной культуры.
Хотя последняя сама по себе заслуживает подробного изучения, настоящая работа посвящена только языческой составляющей этого явления в ее развитии. Поэтому, говоря о языческих обычаях и традициях, мы не употребляем терминов, отражающих идею синкретизма, хотя предполагаем его наличие в рассматриваемых сюжетах.
Отбирая источники для нашего исследования, мы исходили из отмеченного Т. А. Бернштам полномасштабного проявления самобытности народной религии «в ходе централизации государства и церкви в XV–XVI вв….Централизованная церковь активизирует борьбу по искоренению „неправедной“ веры народных масс, которые она называет „полуязычниками“: увеличивается поток поучений, постановлений духовных соборов; то и другое никогда полностью до низов не доходило. Реальная христианизация оставалась обязанностью местной – сельской, приходской – церкви, занимавшей и в церковном домостроительстве, и в уровне грамотности служителей, и в авторитете у прихожан на подавляющей территории России крайне низкое положение вплоть до рубежа XIX–XX вв. Будучи частью сельского коллектива – общины или прихода, сельский клир вольно (или невольно) продолжал участвовать в творчестве народной религии».[56] В подобной ситуации, по замечанию А. Я. Гуревича, «первым условием успешности „обновления“ христианства была реформа самого духовенства», создание новых кадров.[57]
Решению в первую очередь именно этой задачи был посвящен Стоглавый собор 1551 г., попутно обсуждавший и вопросы, связанные с соблюдавшимися простонародьем древними языческими обрядами. В католической Европе аналогичные проблемы поднимались примерно в те же сроки, например, на Тридентском соборе, поскольку и на Западе, согласно наблюдениям А. Я. Гуревича, в конце XV–XVII вв. терпимость в отношении к народной культуре сменяется нетерпимостью и преследованиями,[58] попыткой обновить искаженное христианство.
Постановления собора 1551 г., получившие в литературе название Стоглава по числу входящих в них статей, являются наиболее важным источником информации по интересующей нас теме, поскольку показывают тот круг «эллинских бесований», который вызывал постоянную озабоченность церкви и государства. Стоглав неоднократно привлекал внимание ученых. Достаточно сказать, что список только основной литературы, посвященной Стоглавому собору, включает более ста наименований. Однако отражение в этом памятнике сохранявшихся в народной среде языческих обычаев и обрядов в качестве самостоятельной темы привлекло внимание лишь одного исследователя – И. М. Добротворского, скрупулезно пересказавшего отдельные фрагменты текста источника.[59] Он отметил наличие некоторых давних суеверий среди своих современников и показал их противоречие христианству, но не подверг информацию какому‑либо научному анализу, так как работа носила нравоучительный характер. Поэтому для нас она не представляет особого интереса, тем более, что за прошедшие с тех пор годы во многом изменились представления о самом памятнике.
В настоящее время уже не обсуждается вопрос о том, был ли Стоглав реально действовавшим правовым актом, хотя в XIX – начале XX в. велась жесткая дискуссия как о его каноничности, так и о подлинности. Существование наказных списков для одних исследователей явилось доказательством официального характера памятника,[60] другие считали списки его источниками.[61] И. Н. Жданов же высказывался в том смысле, что Стоглав является сборником извлечений из соборных деяний.[62] Ныне многочисленные списки Стоглава XVI–XX вв., часто с владельческими записями не только духовных лиц, но и посадских людей,[63] рассматриваются как наиболее явное свидетельство того, что это был документ государственного значения. Наличие же разных его вариантов объясняют сегодня тем, что при доведении решений собора до жителей страны «строго следовали принципу, который заключался в том, что до разных слоев населения доводилось лишь то, что их непосредственно касалось. Так, в Симонов монастырь послали главы о монастырских порядках, в города (к церковнослужителям и должностным лицам) – о белом духовенстве и суде; во всеобщее сведение объявили лишь о запрещении сквернословить, брить бороды, лживо целовать крест и ходить к волхвам».[64]
Некоторые из списков Стоглава публиковались начиная с середины XIX в. Поскольку интересующие нас фрагменты не имеют расхождений (по крайней мере, принципиального характера), то в предлагаемом исследовании за основу взято субботинское издание памятника,[65] которое наряду с казанским признается лучшим, так как воспроизводит особенности подлинника. Последнюю публикацию, предпринятую Е. Б. Емченко, нельзя признать удачной, поскольку она сделана по правилам современной пунктуации, которая зачастую противоречит другим изданиям памятника и меняет смысл отдельных фрагментов.[66]
Хотя задачи Стоглавого собора были гораздо масштабнее, чем выявление царивших в низших слоях общества нехристианских традиций, однако место, отведенное в постановлениях этой проблеме, говорит о ее актуальности для середины XVI в. Характеристике языческого наследия русского народа посвящена часть 41‑й главы памятника, где собраны так называемые «вторые царские вопросы»; главы 91‑я, 92‑я, 93‑я, 94‑я и 100‑я, где более подробно рассмотрены некоторые аспекты проблем, поднимавшихся в 41‑й главе; а также 8‑я и 34‑я главы, вскользь упоминающие отдельные «нестроения».
В наиболее четкой обрисовке недостатков религиозной жизни были заинтересованы в первую очередь приходские священники, ежедневно сталкивавшиеся с жизнеспособностью «бесовских» обычаев.
Не случайно В. Бочкарев и Л. В. Черепнин считали, что все 32 дополнительных царских вопроса собору, в число которых вошли и вопросы, связанные с языческими пережитками и ересями, не были заранее подготовлены от имени царя, как это утверждает их название, но возникли на самом соборе и задавались устно, из‑за чего ответы на них помещались не отдельным блоком, а сразу же за соответствующим вопросом.[67] Современный исследователь Стоглава В. В. Шапошник также пришел к выводу, что эти вопросы были заданы представителями провинциального духовенства, стремившимися обеспечить себе надежную опору в борьбе с самовольным творчеством народных масс, соединявших в единый комплекс элементы православной и языческой культуры.[68]
По наблюдениям В. Бочкарева, группа вопросов, посвященных народным суевериям, составляет треть общего количества дополнительных вопросов– 11 (16, 17, 19–27), т. е. столько же, сколько и вопросы относительно богослужения.[69] (А на самом деле больше, так как ученый выпустил из поля зрения стоящие особняком 2‑й и 3‑й вопросы, отнеся их к числу богослужебных.) При подобном положении вещей мнение Т. А. Новичковой и А. М. Панченко о том, что «„Стоглав“ – это попытка водворить культурное единообразие на всем пространстве только что собравшего удельную Русь Московского государства; это попытка покончить с русским „двоеверием“, заменить его „благочестием“»,[70] вовсе не кажется преувеличенным.
Недаром решения по части указанных выше вопросов, а именно тех, которые отмечали неблагочестивое поведение паствы в храмах или за их пределами в моменты христианских праздников, в обязательном порядке и практически дословно включались в наказные списки, рассылавшиеся в приходы для принятия к исполнению. И хотя рассылка списков затянулась, и, по замечанию И. Н. Жданова, в некоторых местах постановления собора были обнародованы только в 1558 г.,[71] этот факт подтверждает, что описываемые в рассматриваемом источнике «нестроения» были реальностью всех русских земель, а не только новгородско‑псковских, духовенство которых, по мнению многих авторов, сыграло решающую роль в подготовке документов Стоглавого собора.[72] Исследователи обычно выделяют значение таких фигур, как митрополит Макарий, занимавший до этого новгородскую кафедру, его приемник на архиепископском посту Феодосий и благовещенский протопоп Сильвестр, выходец из новгородских торговых кругов, карьера которого стала особо стремительно развиваться после переезда в Москву вместе с Макарием. Впрочем, наблюдать обычаи северных территорий мог и сам царь, в 1547 г. совершивший, согласно Новгородской II летописи, поездку в Новгород, Псков и на Белоозеро.[73]
Как бы там ни было, но постановления собора явились важным шагом в укреплении православия на местах. И вряд ли можно согласиться со И. Н. Ждановым и Т. А. Бернштам, полагающими, что в вопросах подъема умственного и нравственного состояния народа собор ограничился пожеланиями, исполнение которых никак не было обеспечено.[74] Собор дал служителям церкви ориентиры, опираясь на которые местные священники должны были вести просветительскую работу среди населения, в случае надобности накладывая на нерадивых «овец Христовых» епитимью или даже отлучая отдельных прихожан в целях спасения остального стада.
Поэтому мы не можем присоединиться и к мнению В. В. Шапошника, считающего, что «в решении ряда проблем Собор передал инициативу в руки Ивана Грозного. Это касается борьбы с языческими пережитками, гаданиями, бесчинствами скоморохов».[75] Напротив, именно в указанных вопросах церковь и государство выступали рука об руку, но при главенствующей позиции иерархов, в сферу действия которых и входило все, связанное с нарушениями религиозного характера. Обращение же к помощи светской власти требовалось вовсе не потому, что, как думает Е. Б. Емченко, не срабатывал церковный закон.[76] Просто некоторые аспекты данного круга проблем входили в компетенцию государства – ведь только царь мог использовать не духовные, а репрессивные методы воздействия. Но и в этом случае обычно предполагалась совместная реакция. Не надо забывать и о том, что с конца XV в. Русь во многом учитывала византийский образец религиозно‑политического устройства с царем как главенствующей фигурой для обеих ветвей власти.
Исследователи неоднократно отмечали связь между Стоглавом и другим памятником середины XVI в. – Домостроем, также проявлявшем заботу о чистоте жизни христианина.[77] По мнению М. А. Орлова, в «Домострое мы находим довольно полное перечисление всех ходячих суеверий его времени из области демонизма»,[78]которых следовало избегать православным (правда, это перечисление имеет более обобщенный характер, нежели яркие образы, нарисованные членами собора, поэтому для нас данный источник в большинстве случаев играет вспомогательную роль).
В отличие от Стоглава Домострой не имеет точной хронологической точки отсчета своего существования. И хотя многие авторы считают, что его окончательная, сильвестровская редакция сложилась в контексте первого периода царствования Грозного при активном участии протопопа Сильвестра,[79] однако формирование руководства относят к более раннему времени. Так, И. С. Некрасов полагал, что основные части Домостроя сложились в Новгороде уже в конце XV столетия из самостоятельных текстов нравоучительного содержания, причем древнейшую часть представляют главы, начиная с 30‑й.[80] Окончательное же оформление памятника произошло, по оценке В. В. Колесова, в черте среднерусских говоров.[81] Таким образом, Домострой представляет собой произведение, составленное на основе наблюдений за жизнью русского народа на основной территории его обитания, и дает достаточно полные сведения о быте наших предков, когда критикует его.
Комментатор последнего научного издания Домостроя В. В. Колесов полагает, что главным источником этой книги явилось поучение от отца к сыну во всевозможных его вариантах, включая и послание благовещенского протопопа Сильвестра. Исследователь пишет: «Развитие общественных отношений привело к необходимости создать аналогичные „наказания“ для мирян незнатного происхождения», следствием чего и стало появление в середине XVI в. Домостроя, предназначенного для горожан среднего достатка, купцов и дворян.[82] На наш взгляд, текст сборника вполне подтверждает выводы ученого об аудитории, для которой он создавался – горожане, тем более, что аналогичные руководства существовали в XV–XVI вв. и в городах Западной Европы.[83] И, конечно, правы исследователи, утверждающие, что Домострой отражал идеал жизни в миру таким, каким его видели духовные лица, но не сама паства,[84] выделявшая в книге прежде всего те главы, в которых давались дельные советы по ведению домашнего хозяйства. Об этом говорит более позднее добавление к основному тексту Чина свадебного, в котором «роль церковной организации сводится на нет, это всего лишь рамка, в которой разворачивается вполне народное, языческое даже действо…».[85]Поэтому совершенно справедливо заключение В. В. Колесова о том, что «за Домостроем проглядывает могучий пласт средневековой культуры, в том числе и народной, бытовой и гражданской, которую в XVI в. и пытаются ограничить уставом, строем, чином по образцу церковно регламентированных уставов».[86] Авторы наставлений, по наблюдению А. Л. Юрганова, стремились «обезопасить саму систему общественных отношений от… самостоятельных оценок, что есть „добро“».[87]
Поскольку и Стоглав, и Домострой в основном отражают ситуацию, сложившуюся к середине XVI в., а наша тема охватывает гораздо более широкий период, в работе также привлекаются источники предшествующего и последующего времени. Это, конечно же, актовый материал, позволяющий уточнить некоторые нюансы рассматриваемых проблем, например, особенности проведения народных игрищ в ночь на Ивана Купалу или отношение властей к скоморохам и ворожеям.[88] Но прежде всего это памятники церковно‑учительной литературы, из которых наибольшей интерес для нас представляют сочинения таких крупных личностей эпохи, как Иосиф Волоцкий и Максим Грек, которые неоднократно выступали с обличениями народных суеверий, а также произведения анонимных авторов, высказывавших свою позицию в форме вставок и комментариев к трудам отцов церкви.
Среди последних можно назвать, в частности, Слово св. Григория об идолах (четыре списка XIV–XVII в.), слово «О посте к невежам в понеделок второй недели» (один список XVI в.), «Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере» (списки XIV–XVII вв.), ряд слов Иоанна Златоуста (списки XIV–XVII вв.), Слово о поклонении твари (списки XIII–XVI вв. в трех вариантах), Слово св. Исайи «о поставляющих вторую трапезу роду и рожаницам» (списки XIII–XVII вв.), слово «О вдуновении духа в человека» (один список рубежа XV–XVI вв.) и др.
К сожалению, датировки не только самих этих произведений, но и отдельных их списков по сей день довольно сильно варьируются и не слишком хорошо обосновываются. Зачастую они базируются лишь на уверенности ученых в том, что описанные в памятниках явления не могли существовать в более раннее или более позднее время.[89] Поэтому в своем исследовании мы опираемся на те датировки, которые представляются нам наиболее убедительными и согласуются с нашими собственными наблюдениями над особенностями стилистики и информативной наполненности русских текстов разного времени.
Большинство списков используемых в настоящей работе поучений было опубликовано Н. Я. Гальковским в книге «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси».[90] Исследователь дал научную характеристику каждого из отобранных им наставлений и обобщил свои наблюдения в отдельном томе. Он, в частности, пришел к выводу, что пик обличительных выпадов духовенства против языческой практики наших предков падает на XII–XIII вв., впоследствии же церковь все меньше говорит о язычестве, но все больше обвиняет паству в нарушении христианских заповедей.[91]Тем не менее именно в XVI в. появляются новые списки старых поучений, дающие дополнительную информацию о соблюдавшихся народом обычаях. Как раз эти списки, на что обратил внимание и Н. Я. Гальковский, подтверждают живучесть языческих традиций в рассматриваемую эпоху.[92]
В научной литературе имеет место и прямо противоположная точка зрения, которая в последнее время стала приобретать все больше последователей. Ее сторонники – В. Й. Мансикка, В. Я. Петрухин, Н. И. и С. М. Толстые, Н. И. Зубов – считают, что перечисление имен богов и описание других языческих обычаев в древнерусских письменных источниках не внушают доверия и носят книжный характер. Главный тезис, выдвигаемый этими авторами, сводится к тому, что зафиксированные в средневековых памятниках нарушения если и имели отношение к язычеству, то скорее к язычеству не восточнославянскому, а античному или южнославянскому, не имевшему ничего общего с русской реальностью изучаемой эпохи, поскольку действительная народная обрядность христианских книжников не интересовала.[93] А Т. А. Бернштам и вовсе пришла к странному выводу, будто составлявшиеся до XVI в. поучения и послания церковных деятелей по мере усложнения и увеличения числа религиозных и практических вопросов все больше теряли связь с реальностью.[94]
Подобные взгляды плохо согласуются с самими источниками и этнографическими материалами, которые показывают наличие упоминаемых в церковно‑учительной литературе явлений как в древней, так и в современной России. А попытки объяснить эти явления заимствованием из других культур вообще ничего не проясняют. Ведь такие римские обычаи, как служение богам, принесение жертв, счет звезд, землемерие, волхование, гадание по снам и птицам раннехристианские авторы также обличали как заимствованные у других народов,[95] однако это не мешает исследователям считать их языческими и вполне римскими.
В последнем труде, специально посвященном древнерусским анти‑языческим поучениям, Н. И. Зубов выдвинул гипотезу о том, что все эти произведения были направлены исключительно против почитания Рода и рожениц и отразили не языческое прошлое или его пережитки, а актуальную для книжников богословскую полемику об особенностях культа Богородицы и бытовой родинной обрядности славян.[96] Хотя целый ряд конкретных наблюдений украинского автора представляется весьма интересным и совпадает с нашими выводами, в целом его теория выглядит умозрительной, поскольку не выходит за рамки лингвистического и текстологического анализа и основывается на кабинетном понимании язычества как жесткой религиозной системы, поддерживаемой жреческим сословием и не способной к саморазвитию.
Кроме уже названных источников автор привлекал в качестве вспомогательных еще две их группы. К первой относятся сборники исповедных вопросов, или поновлений, призванных выяснить степень соответствия жизни прихожан требованиям церкви. В XV–XVI вв. такие сборники, в том числе «худые», т. е. ложные, не отредактированные в соответствии с последними требованиями, а потому могущие вызвать своими вопросами интерес паствы к уже отжившей практике, номоканунцы, по утверждению Н. Тихонравова, были распространены довольно широко.[97] Издатель и исследователь русских исповедных чинов А. Алмазов отметил их большую детализированность по сравнению с греческими образцами. При этом ему показались любопытными «непосредственные указания исповедных вопросов на приверженность русских к давно отжившему языческому культу».[98] Среди упоминаемых рассматриваемыми источниками суеверий А. Алмазов различает «чисто религиозные и притом выродившиеся уже на христианской почве и бытовые».[99]Под первыми он разумеет поклонение языческим богам, например, Макоши, упоминание о которой встречается и в сборниках XVI в., под вторыми – предвидение будущего или воздействие на окружающий мир с помощью магических средств.[100]
Следует подчеркнуть, что многие вопросы о сохранении древних обычаев вполне соответствуют греческим номоканонам и не могут сами по себе рассматриваться в качестве доказательства действительного существования на Руси описанных недостатков (например, вождения к себе в дом ворожей, ношении оберегов или принятия зелья).[101] Но они часто находят подтверждение в других видах источников. Ряд же вопросов явно носит оригинальный характер и возник благодаря столкновению с реальным русским бытом.
Важно обратить внимание и еще на одну особенность данного вида памятников, подмеченную А. Алмазовым: «…B русские исповедные чины с самых же первых моментов вопросная статья стала вноситься в двух отделах, это – вопросы для мужей и вопросы для женщин. Такая характерная черта остается достоянием русского исповедного чина во все время его существования в рукописи»,[102]причем именно «в женских вопросах с большею подробностью констатируются суеверие и занятие волшебством и чарами, особенно в делах любовных».[103] Эта большая приверженность женщин языческим традициям подтверждается и другими материалами.
Недавно М. В. Корогодиной была предпринята новая публикация исповедных текстов, ориентированная на изучение особенностей вопросников для разных социальных групп.[104] Исследовательница попыталась исправить ошибки А. Алмазова, в том числе в плане датировки памятников, ввела в научный оборот ряд новых памятников и снабдила свое издание подробными описаниями рукописей. Однако признать этот труд удачным мы не можем, поскольку способ публикации источников, при котором части одного текста помещаются в разных разделах книги и соединяются крайне неудобной системой взаимных ссылок, создает ненужные сложности для читателя. К тому же при публикации текстов использованы совсем нежелательные в подобных изданиях современные правила орфографии и пунктуации и отсутствующие в оригиналах элементы – красная строка и нумерация статей.
Много нареканий вызывает и исследовательская часть монографии, среди главных достоинств которой следует признать попытку М. В. Корогодиной обобщить и проанализировать отдельные тематические группы вопросов. К сожалению, отмеченное В. М. Живовым плохое понимание автором текста привело к большому количеству ошибок при комментировании конкретных сюжетов.[105]Поверхностностью страдают и общие выводы исследовательницы. В частности, трудно согласиться с мнением, что увеличение и усложнение с XVI в. вопросов о языческих обычаях связано с южно‑славянским влиянием и всплеском неоязычества, развитию которого якобы могла способствовать фиксация в книгах чуждых восточным славянам верований.[106] Как справедливо подчеркнул В. М. Живов, «сомнительны вообще какие‑либо изменения в магических практиках, тем более, что для веры в вил и мокошь никакие книжные тексты были не нужны», инновации же могут быть «отражением новых умонастроений их авторов», а не изменившейся реальности.[107]
Последняя группа использованных в нашем исследовании нарративных источников представляет собой свидетельства иностранных дипломатов и путешественников, посетивших владения Рюриковичей в изучаемую эпоху. Отечественная историография долгое время недооценивала роль иностранных источников в изучении истории русского религиозного быта, хотя в них предостаточно сведений обо всех составляющих религиозной культуры: вероучении, богослужении и нравственно‑практической деятельности. Полезность же их, даже учитывая неизбежную долю недостоверности, доказывается тем, что мы настолько свыкаемся с обыденными явлениями повседневной жизни, «что не обращаем на них никакого внимания и даже не подозреваем, чтобы они могли служить оценкой нашего религиозно‑нравственного настроения, нашего склада благочестивой жизни, поэтому эта сторона упускается из виду и отечественными историками. Но для постороннего наблюдателя, чуждого нам по религиозным убеждениям и обычаям, эти явления сохраняют значение живых и значительных черт наших религиозных нравов и обычаев».[108]
Пожалуй, первым серьезно обратил внимание на рассматриваемый вид источников применительно к периоду XV–XVII вв. В. О. Ключевский в работе «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1866 г.). Автор отметил его важность для эпохи, которая оставила очень мало отечественных свидетельств, в коих к тому же отсутствует сторонний критический взгляд, позволяющий проводить сравнение разных культурных традиций. Ученый также подчеркнул, что данный род известий лучше всего описывает внешние явления – политику и экономику, тогда как домашний и нравственный быт очерчены здесь бегло, случайно и довольно предвзято, что связано как с нежеланием русских обсуждать свое отечество с иноземцами, так и с тем, что большинство информаторов делали описание на основе не личных наблюдений, но в лучшем случае со слов русских послов или своих знакомых, побывавших в России.[109]
Труд В. О. Ключевского привлек внимание Л. П. Рущинского, который решил продолжить исследование предшественника разбором сообщений о религиозном быте Руси, но брал из иностранных источников далеко не все, а только то, что позволяло дополнить отечественные свидетельства по данному вопросу. Только по XVI в. историк изучил более 20 источников, включающих записи порядка трех‑четырех десятков информаторов. По нашему мнению, его сводка по сей день остается лучшей относительно рассматриваемой темы как по полноте собранного материала, так и по качеству его обработки и расположения, особенно если учесть недостаточную четкость опубликованных переводов памятников.
Для XV в. еще почти нет зарубежных источников, так как иностранцы бывали в России в основном проездом, и их наблюдения столь поверхностны, что не могут быть с достаточной долей уверенности отнесены к русским, которых европейцы зачастую путали с татарами. Кроме того, в обозначенный период сама Русь не очень‑то допускала чужаков к своим святыням, боясь ослабления их силы от недоброго постороннего глаза. Но проникновение иноземцев на русскую службу при Иване III неизбежно влекло за собой углубление их представлений о местных нравах.
Однако повседневная религиозно‑нравственная жизнь москвитян стала привлекать пристальное внимание заграницы лишь в XVI в., что часть историков (как дореволюционных, так и советских) связывала с завершением централизации России и ее выходом на международную арену.[110] Другие же, как, например, В. О. Ключевский и Л. П. Рущинский, видели причину в развернувшемся в Европе реформационном движении, сторонники и противники которого одинаково настойчиво старались вовлечь восточного соседа в свои ряды, для чего активно изучали его религиозный потенциал.[111] Не случайно Л. П. Рущинский обратил внимание на то, что подробности религиозного быта описываются в основном у протестантских авторов, искавших аналогии своему культу и вероучению, тогда как среди католиков скрупулезностью изложения отличается в этот период лишь С. Герберштейн, поскольку его труд является ответом на приказ эрцгерцога Фердинанда побольше узнать о содержании русской веры и обычаев.[112]
Как бы там ни было, но и у католических, и у протестантских авторов встречаются наблюдения, дополняющие наши представления о сути и особенностях отправления тех или иных языческих обрядов русским простонародьем, к которому иностранцы относили как поселян, так и горожан, даже купцов, т. е. все недворянские сословия.[113]Вместе с тем плохая осведомленность приезжих о русской культуре, их предвзятое отношение к местным нравам и обычаям могли способствовать искажению фактов, часто не подлежащих проверке иными путями. Поэтому свидетельства иностранцев играют в нашем исследовании лишь вспомогательную роль, позволяя уточнить некоторые детали русского религиозного быта.
Для конкретизации отдельных моментов религиозной практики наших предков важную роль играют также результаты этнографических исследований, позволяющие лучше понять смысл скупых сообщений древних памятников. В особенности это касается календарной обрядности, языческий характер которой порой скрывается за вполне благочестивыми христианскими формами. Так, И. П. Калинский заметил, что население достаточно легкомысленно относилось к возможности совмещения порицаемых церковными писателями языческих суеверий с христианскими понятиями.[114] В результате церковно‑народный месяцеслов, развивавшийся, с точки зрения этого автора, в основном как раз в XV–XVI вв., придал языческие черты не только культу многих угодников христианской церкви, но и разным церковным праздникам и христианским обычаям, включившим особенности из чисто народного быта.[115] Указанные черты И. Н. Калинский обнаруживает в днях поминовения умерших – Агрипине‑Купальнице и Купале, Ильинках, Рождестве, Дмитровской субботе, масленице, Фомине понедельнике, Семике, а также в праздновании Благовещения, Пасхи, Богоявления, Троицы и Петровок. Поэтому он считает необходимым обращать внимание на то, «какое имеют отношение, по времени своего празднования, дни христианских святых к тем или другим обстоятельствам сельскохозяйственного быта».[116]
Полнее всего названная задача на сегодняшний день выполнена в трудах Б. Н. Чичерова и В. К. Соколовой, установивших взаимосвязь аграрного календаря с особенностями проведения некоторых христианских праздников.[117] И хотя не со всеми выводами авторов можно согласиться, но они позволяют более отчетливо представить себе путь, который проделало народное сознание при освоении православного учения. Вместе с тем в их работах рассмотрены сюжеты, так и не нашедшие себе места в православном культе, но значимые для русских людей и эпохи образования Московского государства, и рубежа XIX–XX вв. К некоторым из этих сюжетов обратили свой взор и такие ученые, как Д. К. Зеленин, В. Я. Пропп, Л. А. Тульцева и др.[118] Их наблюдения также использованы в нашем исследовании.
Глава 2
Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 155; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!
